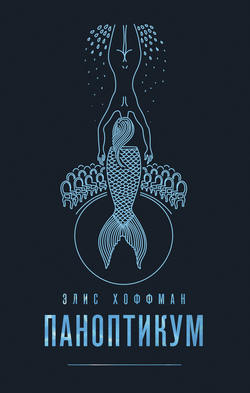Читать книгу Паноптикум - Элис Хоффман - Страница 5
Два
Человек, который не мог спать
Март 1911
ОглавлениеВОЗДУХ был бледен и сер, как дым. Наступил март, время хорошего клева на Гудзоне. Косяки алозы мелькали под серебристой пеленой тумана, стлавшегося над рекой в ранние утренние часы. Река хорошо просматривалась из купольного окна мастерской Эдди Коэна. По его мнению, это было одним из чудес света. Лучи солнца, проникая в воду, формировали в глубине слои разного цвета – от фиолетового до оловянного и бронзового, а с наступлением весны – и до небесно-голубого. Это жилище в захудалом районе складов и конюшен неподалеку от доков досталось Эдди по наследству. Мезонин, в котором он обитал, в прошлой своей жизни был сеновалом, снизу доносился не слишком приятный сильный запах – там извозчик держал команду старых коняг.
Наставник Эдди завещал ему все свое имущество. Все, чем владел фотограф Мозес Леви, включая кастрюли и одеяла, фотокамеры и средства печати, перешло к его ученику. Эдди был высок, часто неловок, но привлекателен, хотя последнего сам не сознавал. Он был слишком горяч и вспыльчив, чтобы участвовать в рассудительных беседах, которые вело большинство цивилизованных людей. Женщин тянуло к нему, но их красоту он, как правило, замечал лишь в том случае, если луч света вдруг освещал их черты. Тогда он кидался к ним с фотоаппаратом. Все, что ему было нужно, – запечатлеть их образ, хотя женщины, вероятно, надеялись на большее. С некоторыми из них он сближался, но не испытывал по отношению к ним ничего, кроме плотского влечения. Любви, по его убеждению, в мире не существует.
Его дом находился на западной окраине города, на песчаной кромке уже за Десятой авеню. К востоку улицы становились все более фешенебельными, достигая пика великолепия на Пятой авеню. Вся земля в этом районе принадлежала некогда Клименту Муру[10], автору стихотворения «Ночь перед Рождеством», знатоку древнееврейского и древнегреческого языков. Он назвал свое поместье именем лондонского района Челси, известного роскошными домами в георгианском стиле. В 1811 году был осуществлен грандиозный проект, навсегда определивший облик города, и сеть прямых манхэттенских улиц сменила прежние дорожки, вьющиеся вдоль засыпанных ныне ручьев. Девятая авеню поделила владения Мура на две половины. Ученый был в смятении от атаки градостроительного прогресса на землю, которую он так любил, и передал значительную ее часть, в том числе шестьдесят фруктовых садов, в дар Объединенной богословской семинарии и церкви Святого Петра. Мур надеялся, что таким образом удастся сохранить сады, и Челси не будет целиком вымощен камнем и забетонирован, однако после его смерти участки с садами были распроданы, и большинство деревьев тут же срубили. Только церковный двор остался без изменений, и там еще можно было найти остатки фруктового сада. Проживавшие по соседству женщины часто стояли у стены церковного сада, подставляя юбки вместо корзин в надежде, что туда упадет какое-нибудь яблоко. Яблони рассыпали свои семена, и отдельные побеги появлялись во дворах, у магазинов и складов. Летом они распускали розовые цветы, демонстрируя людям, что фрукт, соблазнивший Адама и Еву, может выжить в строящемся Манхэттене и плодоносить в городских условиях.
Эдди решил запечатлеть все эти яблони до одной. Некоторые из них были всего лишь жалкими прутиками, другие солидными деревьями с толстыми стволами и переплетенными ветками. Он пользовался методом «сухих» пластинок, при котором желатиновая эмульсия с добавкой бромистого серебра наносилась на стеклянную пластину, и получалось объемное изображение, которое сияло, словно в глубине его находился источник света. Каждое дерево имело свой характер и было одним из солдат, противостоящих нашествию камня и кирпича. На ветвях одного нашла приют ворона, которую Эдди заметил на фотопластинке только после проявления. На другом снимке он с удивлением увидел, как порыв ветра стряхивает на землю целый ворох белых лепестков, устроив снегопад в августе, – при съемке он также не обратил на него внимания. Эдди понял, что зачастую то, что воспринимает человек, не совпадает с тем, что реально существует в природе. Человеческий глаз не способен видеть вещи в истинном свете, ему мешает человеческая натура: восприятие искажается сожалениями, предубеждениями, верой, и в результате человек не сразу осознает то, что наблюдает в окружающем мире. Лишь глаз фотокамеры точно фиксирует действительность. Именно поэтому фотография была для Эдди не просто профессией, а призванием.
Фотограф Альфред Стиглиц[11] организовал в Нью-Йорке конференцию с целью изменить отношение к фотографии. Он утверждал, что это не какая-то бессмысленная помесь науки с магией, а вид искусства, создание изображений, на которых форма, красота и суть жизни предстают даже более чудесными, чем реальное чудо цветка, рыбы, женщины или дерева. Стиглиц открыл на Пятой авеню Галерею 291, где наряду с картинами и рисунками художников-авангардистов выставлялись фотографии. В тот знаменательный день, когда фотография была оценена по заслугам, Эдди находился среди слушателей Стиглица. Его привел на лекцию Мозес Леви, хотя Эдди был всего лишь его учеником. Речь Стиглица произвела на него неизгладимое впечатление и заставила еще больше уверовать в свое искусство. Услышанное всколыхнуло самые глубины его духа, как в ту ночь, когда он увидел освещенные луной деревья в лесах Верхнего Манхэттена. Именно там он впервые полностью ощутил биение жизни.
Однако каждому приходится зарабатывать на хлеб с сыром и пиво. Никто не свободен от свойственных человеку желаний и потребностей. Эдди был слишком нетерпелив, чтобы фотографировать на свадьбах, как Мозес Леви. Он не выносил клиентов, отдававших распоряжения фотографу и требовавших, чтобы их снимали в определенных позах, – в особенности, если их фотографировал такой художник, как Леви. Последнему не раз приходилось выгонять своего ученика со свадьбы, когда тот затевал перепалку с отцом жениха или невесты.
– Как вы смеете указывать ему, что делать? – кричал Эдди, в то время как двое-трое крепких гостей выпроваживали его на улицу. – Это один из величайших фотографов нашего времени!
Леви приходилось извиняться за своего помощника и заканчивать работу без него.
– Ну как ты не можешь понять? – сказал он однажды своему своенравному ученику, когда они возвращались после работы в Челси. – Ты должен видеть то, что не видят другие. Наше искусство теней не делит мир на белое и черное, в нем тысяча разных оттенков. А свадьба – радостное событие, что стыдного в том, чтобы запечатлеть ее для потомков?
Когда Леви умирал от последствий перенесенной в детстве пневмонии, ослабившей его легкие, Эдди плакал у его постели. Ему уже исполнилось двадцать, но он с трудом справлялся со своими эмоциями и безжалостно критиковал себя за свои недостатки. Он хотел бы стать более достойным человеком и более умелым фотографом и боялся, что его работа компрометирует и его учителя, и его самого. Он мечтал увидеть в мире теней бесконечное множество переходных оттенков от черного к белому, которые были видны Леви и Стиглицу, но его глаза их не различали.
В течение пяти лет, прошедших со смерти Леви, самостоятельная работа Эдди заключалась в основном в регистрации фактов из жизни преступного мира и несчастных случаев. Его привлекала уличная жизнь – наверное, потому, что он хорошо изучил ее мальчиком. Вскоре он свел знакомство с издателями большинства нью-йоркских газет, хотя сознавал, что его учитель не одобрил бы столь банального занятия, не способного продемонстрировать ничего, кроме деградации человека. Однажды Эдди предложил Леви поработать на газеты, но тот наотрез отказался.
– Мы что, будем зарабатывать на людских несчастьях? – возмутился он. – Портрет – это другое дело. Лучше участвовать в знаменательных событиях в жизни наших клиентов, и тогда мы не изменим своему призванию, не станем предателями своего искусства. А газетам подавай насилие, грех, преступление и наказание. Одним словом, они нацелены на ад. Ты тоже туда стремишься?
Тем не менее эта работа устраивала Эдди. Становясь очевидцем трагедии, он держался отстраненно и профессионально. Возможно, уроки Хочмана выработали у него иммунитет к чужому несчастью. В конце концов он вырос в мире греха, привык видеть темные стороны жизни и зло, на которое способны люди. Ад был ему знаком со всеми его закоулками. Беглые мужья и предающиеся пороку любовники, проститутки, готовые продать чужие секреты за глоток спиртного, – все они подготовили его к жестоким картинам, которые он наблюдал на своей новой работе. Смерть не вызывала у Эдди трепета, труп был для него не мертвым человеком, а мешком костей. А кровь на фотографиях была черной. Он завел знакомства во многих полицейских участках города, и за небольшую мзду ему сливали информацию о преступлениях и трагических происшествиях. В результате ему удавалось фотографировать воров в момент ареста и мошенников-виртуозов в наручниках, отчаянно отрицающих свою вину.
Он, не задумываясь, опускался на колени рядом с трупом, чтобы добиться наилучшего ракурса. Один из его портретов, сделанный для полицейского досье, был незабываем. Объектом был мужчина, разделавший всю свою семью мясницким ножом. На его лице не было ни раскаяния, ни проблеска каких-либо иных эмоций. Он тупо глядел в объектив бледными глазами с тяжелыми веками. Даже Эдди поежился от этого сверхъестественного спокойствия. Это было зло в чистом виде. «Сан» напечатала снимок на первой странице как образец внешнего вида хладнокровного убийцы.
В последнее время Эдди стал думать, что, возможно, искусство Мозеса Леви достигло таких высот не только благодаря его техническому мастерству, но и по той причине, что он, в отличие от Эдди, испытывал добрые чувства по отношению к тому, что фотографировал. Каждое дерево на его снимках обладало душой, в каждом поле билось сердце. Эдди же не трогала судьба ни преступников, ни их жертв. Он не высказывал своего мнения, но был непримирим. Он считал, что некоторые живут в аду, который сами для себя создают, и именно с ними ему приходится иметь дело.
В редакциях газет он был известен как Эд Коэн, там не знали, что его настоящее имя Иезекиль. Он сам так представлялся, стремясь оставить прошлое как можно дальше. До него дошли слухи, что его отец уже давно прочитал заупокойную молитву по нему и рвал на себе одежду, читая кадиш. Казалось, это было не случайно, потому что его сын был назван по имени пророка, из чьей книги о его странствиях и видениях взяты первые слова, с которыми верующие обращаются к Богу по утрам: «Да возвеличится и освятится великое имя Его! – в мире, сотворенном по воле Его».[12]
По правде говоря, того мальчика, который не мог уснуть в лесу и вывел отца за руку из леса, давно уже не существовало. Возможно, это было и к лучшему. Эдди стремился скинуть с себя бремя своей истинной личности. Он стал двадцатипятилетним мужчиной, не имеющим ни семьи, ни прошлого, не чувствующим привязанности к кому бы то ни было, кроме Нью-Йорка. Мальчик, выросший без матери, обычно ожесточается, но все же часто стремится найти кого-то, кому он мог бы отдать свою любовь. Для Эдди таким объектом стал город, который он видел прекрасным и страдающим, но готовым принять его, когда все остальные отвернутся.
От прошлого у него осталась одна особенность: он не мог спать подолгу, если не напивался до беспамятства. Ночь по-прежнему призывала его. Что-то ждало его в темноте, какая-то неотделимая часть его личности. Но теперь он не посещал пивные, где был завсегдатаем во время работы на Хочмана, а отправлялся в Верхний Манхэттен всякий раз, когда чувствовал внутри себя тьму. В этой скалистой местности за пределами города еще ощущался дух дикой природы, который царил некогда на всем острове. Оказавшись возле тихих бухточек и ручьев, пересекающих в разных направлениях болотистую местность, он испытывал душевный подъем, какой бывает у верующих, и ему казалось, что пережитых в детстве несчастий никогда не было, что к нему возвращается чистота духа, когда-то присущая ему, а потом утраченная.
В этих вылазках на природу Эдди был не одинок, у него был попутчик – лучше не придумаешь. Дело в том, что он стал владельцем собаки, хотя вовсе не собирался ее заводить. Рядом с ним трусил питбуль, пес с широкой грудью, беззаветно преданный хозяину, как и полагается его породе. Однажды, примерно год назад, Эдди заметил в реке перевязанный веревкой узел, проплывавший мимо пирса у Двадцать третьей улицы. В тряпье что-то шевелилось. Подцепив узел на крючок своей удочки, Эдди подтащил его к берегу. Внутри он обнаружил насквозь промокшего щенка с подрезанными ушами. Очевидно, из него хотели сделать бойцовую собаку и натаскать на крыс, енотов и других собак – подобные сражения происходили в подвалах по всему Манхэттену, – но щенок, по всей вероятности, оказался слишком добродушным для этих кровожадных забав. Тело щенка было пестрым, а кончики лап белыми, и Эдди назвал его Митсом[13]. Добро вызывает ответное добро, и спасенный щенок привязался к своему спасителю. Если Эдди уходил, оставив Митса дома, его приходилось запирать в одном из стойл конюшни, иначе он выпрыгнул бы в окно и последовал за хозяином в самую гущу автомобилей, повозок и экипажей, которые на Десятой авеню носились туда и сюда с такой скоростью, что улицу прозвали авеню Смерти. Несколько раз Митсу удавалось перепрыгнуть через стенку стойла, и Эдди в ужасе вытаскивал его за ошейник чуть ли не из-под колес. Кожаный ошейник был сделан сапожником на заказ, на нем было выжжено имя пса. Эдди говорил себе, что он всего лишь снисходит до того, чтобы возиться со щенком, который поначалу был еще слишком мал и даже спал в постели вместе с хозяином (что делал и позже в его отсутствие).
По субботам Эдди рыбачил, хотя, согласно традициям своего народа, должен был в этот день только молиться. Покинуть цивилизованный мир не составляло труда, достаточно было подняться по берегу реки. Центральный парк, некогда представлявший собой заболоченную местность, годную разве что для выпаса овец и свиней, позже был заселен сквоттерами, а тридцать лет назад сквоттерский поселок вместе с Сенека-Вилидж, где жили негры и ирландцы, был снесен и превращен в эксклюзивное место отдыха владельцев роскошных особняков Ист-Сайда. Богачи предпочитали окультуренную природу с подстриженными лужайками и водопадами, которые включались и выключались с помощью крана. Союз граждан города Нью-Йорка неоднократно направлял жалобы дирекции парка с просьбой прекратить народные гулянья и спортивные игры с мячом в парке, поскольку массы иммигрантов могли вытоптать всю зелень. А вот в верхней части Вест-Сайда, за Риверсайд-Парком, тянущемся вдоль Гудзона на протяжении нескольких кварталов, природа еще сохраняла дикий вид, хотя никто не рискнул бы предсказать, сколько времени это могло продлиться.
В воздухе чувствовалась свежесть ранней весны, порхали траурницы и белые капустницы. Кое-где по болотной грязи тянулись следы котов-рыболовов и лисиц. Как раз недалеко отсюда ему недавно показалось, что кто-то за ним наблюдает. Его пес был страстным охотником на мышей и кротов, но в тот вечер ему, похоже, попалась дичь покрупнее. Шерсть на спине Митса встала дыбом, и он пулей кинулся в погоню. Возможно, в подлесок забрел дикий олень или отшельник Якоб Ван дер Бек – старый голландец, живший в грубо сколоченной хижине. Вот уж кто относился к своим ближним с глубочайшим недоверием! Бек был уверен, что строительный манхэттенский бум вот-вот поглотит его кусок мира, и, по слухам, держал у своего крыльца на привязи волка, чтобы никто не смел к нему сунуться. Со времен первых голландских поселенцев его род владел большим участком земли и был кровно связан с семействами некоторых основателей Соединенных Штатов – в частности, с Дикманами[14]. Как и первые обосновавшиеся здесь голландцы, он называл Гудзон Северной рекой.
Однажды Эдди уговорил старика попозировать ему за бутылку виски. Бек был сварливой и необщительной моделью. Присев на замшелое бревно, он уставился на Эдди совсем как его волк и исчез в лесу, как только съемка была закончена.
В тот вечер, когда Митс неудержимо рванул в лес за какой-то добычей, Эдди в конце концов нашел его на одной из прогалин. Бека не было видно, оленьих следов тоже, но кто-то там явно побывал. По лужайке тянулась сырая полоса, словно река проложила дорожку среди триллиума и лапчатки. Хотя Эдди никого не обнаружил, у него было ощущуние, что за ним наблюдали.
В последнюю субботу марта Эдди устроился с удочкой на берегу реки. Свою мастерскую он оставил еще затемно, а ловить рыбу начал с первыми проблесками зари. Небо над Гудзоном постепенно затягивало розоватой дымкой. Эдди принес с собой в старом жестяном ведре червей и накрошенный хлеб. Он не любил рыбачить на Гарлеме, где и без него рыболовов было пруд пруди, – на Гудзоне, хоть и усеянном лодками любителей устриц, все-таки было не так многолюдно. Недавно построили несколько мостов через обе реки, и было ясно, что в скором времени от дикой природы здесь ничего не останется, как это случилось с Челси, превратившемся в сплошную мостовую.
Сквозь молодую листву лжеакаций Эдди разглядел на берегу чуть ниже по течению Бека с удочкой. Тот, оглянувшись, кивнул ему. Эдди кивнул в ответ, думая, как бы сохранить дистанцию. Голландец отпугивал всех новоявленных пришельцев винтовкой, и поговаривали, что он поклялся убить всякого, кто станет охотиться на такие быстро исчезающие виды животных, как койоты, лисы и огромные беспокойные дикие индейки. За территорией, прилегающей к Вашингтон-Хайтс, начинались холмы Хадсон-Хайтс, самые высокие на Манхэттене, поднимающиеся на 265 футов над уровнем моря. Хотя подземка уже достигла этих мест, там еще сохранилась старинная деревушка Инвуд и попадались отдельные фермерские постройки, включая и дом, некогда принадлежавший Одабону[15]. Эдди разделял недовольство Бека непрекращающейся застройкой Манхэттена. Повсюду вырастали многоквартирные дома. Строители начали засыпать овраги, спускавшиеся к Спайтен Дайвилу, одному из рукавов Гарлема, а в них вили себе гнезда сапсаны. Бригады рабочих подвозили камень и цемент на берега Гудзона, чтобы укрепить их на случай подъема воды. В небольших заводях ютились плавучие домики, чьи обитатели стирали белье и мыли посуду щелочным мылом, оставляя жирную желтую пленку вдоль всего берега.
Эдди обвязал шею Митса веревкой, чтобы питбуль не кинулся к голландцу и не помешал ему. Рыбака на реке лучше оставить в покое, особенно если он, подобно Беку, избегает общества. Поднялся ветер, и вода покрылась рябью. Эдди переместился на впадающий в реку ручеек с прозрачной водой и, присев на корточки, поднял воротник. Вскоре ему повезло, на удочку попалась форель, которая долго героически сражалась, пока не выбилась из сил. Она оказалась таким великолепным экземпляром, что Эдди не мог обречь ее на смерть от удушья среди травы и, зачерпнув ведром воды, кинул рыбу туда. Плененная форель стала яростно биться о стенки ведра, но в конце концов затихла на дне живым серебристым сгустком.
Эдди установил камеру на деревянной треноге. Он не был уверен, что сохранил способность сделать настоящий снимок после поденщины, которой он занимался для газет. Если он действительно неспособен на это, то винить было некого, кроме самого себя. Он вспомнил клятву, которую давали члены еврейского профсоюза перед тем, как объявлять забастовку: «Да отсохнет у меня рука, которую я поднимаю за наше общее дело, если я его предам!» Возможно, он предал свое искусство и того мастера, каким, по мнению Мозеса Леви, он мог стать. Фотография рыбы могла получиться удачной, и Эдди волновался, хватит ли у него мастерства это сделать. Если он не передаст все оттенки светотени, на снимке выйдет лишь ведро с мутной водой. Если же он не проникнется участием к объекту, это будет лишь пойманная рыба в ведре и больше ничего.
Отшельник завернул свой улов в газету и стал пробираться по берегу к ручью. Эдди выругался про себя – он хотел побыть в одиночестве. Но Бек топал прямо к нему, приминая папоротник своими тяжелыми зашнурованными ботинками. Эдди пожалел, что дал тогда голландцу бутылку виски, – это положило начало их знакомству и предполагало задушевные разговоры, которых он совсем не желал.
Бек наблюдал за тем, как Эдди фотографирует рыбу. Когда он закончил, голландец с озабоченным видом заглянул в ведро. Борода у него была длинная и косматая, он предусмотрительно надел теплое пальто. В городе было достаточно тепло и без него, но здесь, у реки, слабые солнечные лучи не разгоняли холод, поднимавшийся от воды.
– Тебе следует отпустить эту подругу – и для ее блага, и для твоего собственного.
– Это почему же? – спросил Эдди, не поднимая глаз и упаковывая фотоаппарат. Ему приходилось иметь дело с душевнобольными. Лучше держаться от них подальше, не встречаться с ними взглядом и по возможности не выслушивать историю их несчастной жизни.
– Ты ее сфотографировал, – произнес Бек торжественно. – Теперь ты отвечаешь за ее душу. Отпусти ее в реку, или она заведет тебя куда не надо.
Эдди с трудом удержался от смеха. Он не такой дурак, чтобы поверить, что душа объекта переходит на снимок и что рыба обладает такой же ценной душой, как и человек.
– Фотоаппарат никак не связан с душой. Иначе я был бы в ответе и за вашу тоже – я же вас фотографировал.
– А может, потому я и разрешаю тебе шататься тут беспрестанно, – задумчиво ответил Бек. – Когда-то тут было столько рыбы, что можно было перейти реку по их спинам, не замочив ног. А потом появились лодки и сети, и теперь приходится довольствоваться жалкими остатками. Потому я и прогоняю людей. Я имею полное право тебя пристрелить, но теперь, хочешь не хочешь, мы в этом деле вместе.
– Еще чего! – вырвалось у Эдди. С его точки зрения, единственное, в чем они были вместе, – это болотистый лес. Однако он тут же прикусил язык и не стал развивать эту мысль, заметив под полой у голландца винтовку. Когда он занимался съемкой на месте преступления, то обращал внимание только на бесформенное тело и на черную кровь, которые надо было отразить на фотографии. Он был беспристрастным наблюдателем и не задумывался над тем, что испытывал человек перед смертью, пересыхало у него в горле или нет, были ли руки влажными и падал ли он на колени, умоляя о пощаде. Теперь его собственные руки похолодели от страха, а в горле пересохло, однако он все же выдавил из себя:
– Но я, конечно, рад, что я тут не посторонний.
Не успел Бек ответить, как Митс рванулся, освободившись от веревочного поводка, бросился к отшельнику и стал радостно тереться о его ноги.
– Это что еще за фрукт? – спросил тот, удивленный столь дружелюбным поведением пса.
– Сначала предполагалось, что он будет бойцовой собакой, затем его бросили на корм рыбам, – ответил Эдди, перекинув удочку через плечо. Если вдруг подозрительно-агрессивная сторона натуры Бека возьмет вверх, от него можно будет защититься хотя бы удочкой. – А теперь это моя собака.
– Он больше похож на кролика. Мой пес проглотил бы его одним махом.
– Ну, в таком случае хорошо, что его тут нет.
– Да, для тебя хорошо. Он ведь волк.
Чтобы ублаготворить старика, Эдди предложил ему форель.
– Возьмите ее в подарок от меня.
Бек показал мокрый газетный сверток с пойманной рыбой. Его улов был явно богаче, чем у его молодого соотечественника.
– У меня есть своя. И виски тоже свой. – Он показал Эдди побитую фляжку, заткнутую за пояс. При этом обнажилась блеснувшая металлом винтовка.
Эдди вдруг пришло в голову, что, умри он сейчас на этом речном берегу, некому было бы скорбеть об этом, кроме его пса. Из людей же никто не знал, жив он или нет, и никого это не заботило. Наверное, это означало, что он ведет никчемную жизнь, тем не менее прощаться с ней ему не хотелось. Об этом говорило его тревожно бьющееся сердце, едва не ставшее беззащитной мишенью безумного стрелка, об этом говорили зеленеющие вокруг деревья и журчание воды в реке, – всё живое чудо природы, расстаться с которым было невозможно. Он ответил старику, глядя прямо на него:.
– Благодарю вас, сэр, что разрешили воспользоваться вашей рекой, а сейчас мы с этой рыбешкой отправляемся домой.
Бек шагнул к нему, задумчиво прищурившись. От него шел запах спиртного и рыбы. По задубевшему лицу старика нельзя было угадать, о чем думает. Момент был довольно напряженный, но затем Бек ухмыльнулся.
– Прежде чем уйти, отгадай загадку. Что за рыба ходит на двух ногах?
Эдди с облегчением ухмыльнулся в ответ. Загадки его не смущали. Работа на Хочмана сделала его сообразительным. Он знал, что людям обычно нравится слышать их собственные мысли, высказанные другими.
– Та, что заведет меня куда не надо?
Голландец расхохотался и ткнул Эдди пальцем в бок.
– Точно! – Придя в хорошое настроение, он наклонился и потрепал Митса. – Пока, кролик!
Пес распустил слюни, благодарный за оказанное ему внимание, затем устремился к Эдди, который свистнул ему. Когда Эдди обернулся, отшельник уже исчез. Спускаясь с пригорка, Эдди почувствовал, что его прошиб пот. Он пошел вдоль бурлящего Гудзона, вода в котором поднялась из-за тающих выше по течению снегов, и радовался, что жив и может свободно разгуливать в этот весенний день.
До Челси было неблизко, и, придя домой, Эдди подумал, что, наверное, лучше было бы оставить рыбу умирать на берегу. Он устал после долгого пути, но есть совсем не хотелось. Покормив Митса тем, что нашлось, он поставил ведро с рыбой на стол и бросился прямо в пальто и ботинках на узкую кровать. Он не спал больше суток и теперь провалился в сон, как человек кидается в воду, чтобы утопиться. Ему приснилось, что пойманная им рыба превратилась в женщину с длинными черными волосами, ниспадавшими вдоль спины. Она забралась к Эдди в постель, и он почувствовал ее холодные голые ноги.
ДА, ЭТО БЫЛ прекрасный весенний день, но без четверти пять небо вдруг потемнело и приобрело маслянистый оттенок, воздух потяжелел, давление быстро падало, как перед грозой. Какой-то момент все было тихо и ясно, а затем совершенно неожиданно тишину взорвал жуткий шум. Эдди проснулся весь в поту, цепляясь за остатки сна. Сердце его стучало, как барабан.
Из центральной части города доносились звон пожарных колоколов и рев толпы. Эдди вскочил с постели и, придвинув стул к слуховому окну в потолке, выглянул наружу. Туча черного дыма стлалась над крышами, в ней вспыхивали гроздья искр. И вдруг на востоке взвился целый столб пламени. Некоторые представляли себе конец света именно так, в виде стены огня, поглощающей и грешников, и праведников.
Порадовавшись, что он не снимал пальто и ботинок, Эдди схватил свою камеру, запер пса и кинулся через две ступеньки вниз по лестнице. Он был в страхе, от которого не мог избавиться, сердце колотилось, как до этого во сне. Выскочив из дома, он помчался на восток по Двадцать третьей улице. Река за его спиной почернела от сажи. Кварталах в пятнадцати впереди бушевало неудержимое пламя.
Несмотря на многочисленные протесты рабочих последних лет, на фабриках с ними обращались не лучше, чем в то время, когда Эдди обучался портняжному делу, работая рядом с отцом. Осенью 1909 года забастовка переросла в Бунт двадцати тысяч, и в большом зале колледжа Купер-Юнион, где некогда выступал Авраам Линкольн, рабочие поклялись в верности своему делу: добиться нормальных условий работы для всех мужчин и женщин, трудящихся в Нью-Йорке. Количество забастовок за последние двенадцать месяцев вдвое превысило их число в год Великого бунта. Но почти всем было ясно, что рабочие по-прежнему бесправны. Вышедших на улицы с протестом избивали и арестовывали. На ночных заседаниях суда на Джефферсон-Маркет мужчин сразу же приговаривали к тюремному заключению, а женщин отправляли в мрачный исправительно-трудовой лагерь на острове Блэквелла. Эдвард Крокер, начальник Манхэттенской пожарной охраны, предупреждал, что из-за совершенно неудовлетворительных условий труда на фабриках южной части города несчастье может произойти в любую минуту. Рабочие понимали, что, если ничего не изменится, их ждет самое худшее. И вот этот страшный день настал.
Огромная толпа собралась у здания Эш-Билдинг неподалеку от площади Вашингтон-Сквер. Около десяти тысяч человек устремились сюда, и полиция с трудом сдерживала их, чтобы люди не пострадали от искр и языков пламени. Поскольку была суббота, все магазины и универмаги в округе работали – и «Маршалл Филдс» на Пятнадцатой улице, и «Лорд энд Тейлор» на Девятнадцатой, и все заведения на Пятой авеню, начиная с корсетных и галантерейных лавок и кончая издательством «Чарльз Скрибнерз санз» с его офисами на Двенадцатой и Двадцать третьей улицах, – все было открыто до самого Мэдисон-Парка, где цепочка кэбов всегда стояла наготове, чтобы доставить покупателей с покупками в разные концы города. К востоку от Вашингтон-Сквер находились фабрики и многоквартирные дома, к западу начиналась сеть прямых манхэттенских улиц. Здесь был фешенебельный район с особняками из коричневого песчаника и самыми шикарными магазинами.
Многие из покупателей, бродивших по улицам, кинулись к зданию, на верхних этажах которого располагалась швейная фабрика «Трайэнгл». В конце рабочего дня трудившиеся там женщины и молодые девушки оказались в ловушке, огонь отрезал им путь вниз. Пожарные лестницы достигали только шестого этажа, где работали девочки, которым было всего по двенадцать лет. Оператор, работавший на коммутаторе, предупредил белошвей на восьмом и десятом этажах о начавшемся пожаре, но к тому времени, когда Эдди прибыл к зданию, весь девятый этаж был охвачен пламенем.
Многолюдные улицы были полны дыма, жар стоял, как в котле. Ветер разносил шерсть и куски горящей ткани, сыпавшиеся на толпу, точно огненный дождь с небес. Фотографов к зданию не подпускали. Однако Эдди заметил репортера «Таймс» Мэтта Харриса, который обычно находил общий язык с полицейскими, и поспешил к нему. Харрис прикрыл рот носовым платком, защищаясь от копоти и гари, но это не мешало ему говорить.
– Ага, хочешь пройти со мной? – обронил он сухо, увидев подошедшего к нему Эдди.
– Да, если ты не против.
– Я не дьявол, чтобы наслаждаться этим в одиночку, – пробормотал Харрис.
Полицейские пропустили Харриса сквозь кордон, Эдди без помех проскользнул вслед за ним. Он поблагодарил журналиста, пообещав ему когда-нибудь вернуть долг, но тот лишь пожал плечами.
– Не торопись благодарить. Когда увидишь, что там творится, то не скажешь мне спасибо.
Как и большинство фоторепортеров, Эдди обладал способностью оставаться незаметным. Он пристраивался где-нибудь на заднем плане, так что люди не обращали на него внимания и держались свободно. Эдди установил камеру со стороны здания, выходящего на площадь Вашингтона, так как там не было такого столпотворения, и сразу стал снимать двух лифтеров, разговаривающих с полицейскими. Лифтеры уже спасли около полутора сотен девушек, но так наглотались дыма, что больше не могли подниматься по горящему зданию.
– Что же будет с теми, кого мы оставили там, наверху? – воскликнул один.
Затем Эдди повернул камеру в сторону здания. Попавшие в ловушку девушки столпились испуганными группами на подоконниках, восходящий поток горячего воздуха возносил к небесам их жалобные крики.
С главной лестницы не было выхода на крышу, имелась лишь непрочная пожарная лестница, которая от жары расплавилась. Двадцать пять женщин, пытавшихся спастись с ее помощью, упали на землю и разбились насмерть. Оставшиеся наверху лишились возможности выбраться из здания, и им оставалось только дышать наружным воздухом на подоконниках.
Прибыли пожарные кареты на конной тяге со свернутыми брандспойтами новой конструкции, пожарные стали разворачивать их вдоль Грин-стрит. Но для запертых на девятом этаже помощь пришла слишком поздно, за спиной у них уже бушевала лавина огня. Девушки, сидевшие на подоконниках, стали прыгать вниз. Некоторые прыгали обнявшись, чтобы встретить смерть не в одиночестве, другие летели, закрыв глаза. У многих волосы и одежда были объяты пламенем.
В первый момент летящие вниз девушки казались птицами – кардиналами с ярким оперением, белыми голубками, пикирующими дроздами в черных одеяниях с бархатными воротниками. Но при ударе о бетон иллюзия сразу сменялась страшной истиной. Девушки погибали одна за другой на глазах беспомощно наблюдавших за этим людей. Полицейский неподалеку от Эдди, простонав, отвернулся и схватился за голову – он был не в силах помочь и не мог смириться с этим. Пытались натянуть спасательные сетки, но падающие тела их пробивали. Некоторые падали камнем сквозь вмонтированные в тротуар окошки прямо в подвальное помещение.
Пожарные 20-й команды старались облить водой все здание, так что расположенные вдоль улицы сточные канавы превратились в бурные реки. Повсюду валялись обгоревшие обломки, тут и там неожиданно вспыхивали языки пламени, жалившие людей, как осы. Работницы с восьмого и десятого этажей, которым удалось спастись, сбились кучками, ошеломленные происходящим. Чтобы лучше видеть, Эдди заслонил глаза рукой от волн жаркого воздуха. Он не мог дать волю чувствам и сосредоточился на своей камере, беспристрастном наблюдателе, чей глаз не затуманивают страх и жалость. Но и камера не могла представить ему ничего, кроме той же кошмарной картины. В окуляре она отражалась еще более четко и безжалостно.
Девушки и попадавшиеся среди них юноши по-прежнему вылезали на подоконники и, закрыв глаза, бросались вниз. Казалось, этот поток молодых прекрасных тел никогда не кончится. От перекрученной пожарной лестницы с грохотом, напоминавшим пушечные залпы, отрывались куски сернистого металла. Им вторило журчание воды, ударявшей из брандспойтов о стену здания и водопадом стекавшей на улицу. Вскоре Эдди стоял уже по щиколотку в воде.
Вдруг он заметил, что владельцы фабрики отъезжают на автомобилях, а за ними следует карета, запряженная двумя прекрасными черными лошадьми. Фабрикантам и их ближайшим помощникам удалось выбраться на крышу, а оттуда перебраться в здание соседней фабрики. Эдди повернул камеру в их сторону и успел запечатлеть момент, когда один из них высунулся из кареты, чтобы бросить взгляд на горящее здание, но какой-то черноволосый человек помоложе втянул его обратно и задернул занавеску. Лицо молодого человека показалось Эдди знакомым, но это было невозможно, он не знал никого из людей этого круга. Его знакомые не носили бобровых шуб и не стали бы задергивать бархатные занавески, в то время как девушки прыгали с девятого этажа, и не было сеток, которые могли бы спасти их, не было карет, чтобы их увезти.
Мостовая была усеяна мертвыми телами. Даже пожарные и полицейские, сталкивающиеся со смертью ежедневно, не могли сдержать слез. Эдди продолжал делать свою работу, но ему казалось, что он присутствует при конце света. Если бы земля под ними разверзлась и все они провалились бы прямиком в ад, это было бы не страшнее того, что происходило у него на глазах. Хотя огонь несколько утих, жар от Эш-Билдинг разносился на два квартала. Все больше и больше людей прибывало, чтобы поглазеть на самую ужасную в истории города производственную катастрофу, но, наблюдая ее, они не могли произнести ни слова. Эдди делал снимок за снимком, его ожесточенное сердце говорило ему, что он не должен пропустить ничего. В те часы на Вашингтон-Плейс, когда Эдди стоял в воде, смешанной с пеплом, он утратил способность относиться к работе отстраненно. Его начали преследовать воспоминания обо всех предыдущих случаях, когда в нем не было сочувствия к чужим несчастьям. И одновременно он стал видеть все не в черно-белом свете, а со всеми переходными оттенками. Это производило жуткое впечатление. Красная жидкость на бетонной площадке стала настоящей кровью, белые осколки на булыжной мостовой – костями. Тела девушек и юношей были окружены серебристым ореолом, который служит знаком траура по погибшим. Многие из них так деформировались при ударе о землю, что полицейские, которым было поручено разобрать и разложить тела для последующего опознания, были в шоке, им становилось худо, и даже самые закаленные из них с трудом находили силы для этой работы.
И вдруг, словно налетевший ветер, молчание толпы прорезали рыдания: уцелевшие находили среди трупов своих подруг и сестер, и находки разрывали им сердце. Когда же прибыли родственники погибших, многих из них пришлось удерживать от отчаянных шагов. Эдди бродил среди погибших, и ему казалось, что он и сам сходит с ума. Голова у него шла кругом, копоть ела глаза. Он фотографировал все без разбора, положившись на то, что камера сама выберет нужный объект, пока к нему не подошел человек, посланный хозяевами фабрики – теми, кто не пожелал установить противопожарную систему и, по слухам, устраивал поджоги ради получения страховки.
– Ну, хватит, – произнес посланец компании ровным тоном. Он был в пальто, несмотря на жару и удушливую атмосферу. В руках у него была большая деревянная дубинка, которую ему явно не терпелось пустить в ход. – Поснимал, и ладно.
Эдди вскинул треногу на плечо.
– О'кей. Уже ухожу.
Внутренне он кипел и пробормотал себе под нос несколько сочных ругательств, однако противиться не стал. Он с удовольствием выяснил бы отношения с этим фабрикантским прихвостнем, но момент был слишком неподходящий для подобных инцидентов. Эдди прошелся по Вашингтон-Плейс до ресторана «Уэверли» и, как только посланник администрации ушел, вернулся и продолжил съемку, несмотря на предупреждение. Стало темнеть, налетел сырой и холодный ветер, но кожа у Эдди горела, его трясло, как в лихорадке, пот стекал по спине и груди. Он невольно задавал себе вопрос, не испытывал ли Мозес Леви такой же жар во время съемки, не сжигала ли его работа, в которую он вкладывал душу. И, может быть, отшельник на берегу реки был прав, может быть, фотография действительно запечатлевает душу человека, а фотограф несет ответственность за тех, кого снимает, будь то птица в клетке, рыба в ведре или девушка на подоконнике.
Эдди тщательно протер линзы, удаляя копоть. Стараясь оставаться незамеченным, он снимал людей, в отчаянии пытавшихся найти сестру или дочь, снимал девушек в осыпанных пеплом и украшенных черными узорами платьях, которые плакали, обнявшись, в сточной канаве. Затем, решив больше не тревожить их в их горе, стал фотографировать всякую мелочь, разбросанную по земле или плавающую в канавах, – ленты для волос, кошельки, любовные письма, гребни. И каждый предмет, казалось, тоже обладал душой и бьющимся сердцем и хранил память о невинных удовольствиях и об искренней любви. К утру вокруг сгоревшего здания было найдено шестнадцать обручальных колец.
С наступлением темноты полицейские стали разгонять толпу, чтобы оцепить улицу и доставить гробы. Их потребовалось столько, что всех, собранных на Манхэттене, не хватило. Плотники принялись на скорую руку добавочные изготавливать, выламывая двери и доски из пола. Эдди продолжал работать, установив камеру в дверном проеме. Кожа у него горела, он непрерывно кашлял. Пожарные между тем стали собирать в здании обгоревшие останки людей, не сумевших выбраться из огненной ловушки. Они заворачивали тела в промасленную ткань, а когда ткань кончилась, – просто в мешковину, хотя она быстро промокала и рвалась, когда трупы опускали на землю на толстых веревках. Последним снимком, который сделал Эдди, был один из этих висящих в воздухе жутких свертков, из которого торчали белые ноги погибшей девушки.
Ночью Эдди пошел на крытую пристань на Восточной Двадцать шестой улице. Там, на берегу Ист-Ривер, был устроен временный морг, потому что городской морг не мог вместить 147 трупов. Вода в реке была черна как нефть, темноту ночи освещали лишь фонари полицейских, дежуривших на пристани. Среди них Эдди заметил знакомого из Десятого полицейского участка. За пять долларов тот пропустил Эдди за ограждение, но велел поторапливаться, поскольку скоро должны были прибыть люди, разыскивающие своих близких. За ночь через морг прошли один за другим сто тысяч человек, и не все они были родственниками погибших. Нашлось немало любопытных, которые не могли пропустить такое зрелище. Полицейские работали день и ночь, разгоняя темноту фонарями, чтобы люди могли опознать родных. Некоторые тела настолько обуглились, что сделать это было невозможно, другие же на удивление хорошо сохранились, и Эдди казалось, что они вот-вот встанут из гроба. Мозес Леви рассказывал ему, что в России умерших детей фотографируют сразу после смерти в их лучшей одежде, усадив в обитое бархатом кресло, чтобы запечатлеть их образ прежде, чем душа покинет тело. Возможно, это было правдой, и душа действительно находилась где-то возле тела умершего – по крайней мере, после смерти учителя Эдди нашел в ящике его стола несколько амбротипий, отретушированных самим мастером. Эта техника с применением азотной кислоты и сулемы была настолько сложна и трудоемка, что ею почти совсем перестали пользоваться. Некоторые фотографы считали ее дешевым заменителем более качественной дагерротипии, однако под руками Мозеса Леви эти отпечатки приобретали волшебные свойства. Головы и одежда умерших были в серебристых каплях, как будто их коснулась некая божественная рука. Глядя на безмятежные лица двух мальчиков на одной из фотографий, Эдди догадался, что это сыновья Мозеса, о которых он никогда не говорил, но сумел навсегда сохранить их образы. Так что, похоже, фотография все-таки запечатлевала душу человека.
ПОСЛЕ пожара на фабрике «Трайэнгл» какая-то темная пелена, казалось, накрыла Манхэттен. Скорбь с течением времени не уменьшалась, наоборот, усиливалась. Возрастало и возмущение по поводу гибели людей. Митинги в Купер-Юнион собирали тысячи участников, как это было в 1909 и 1910 годах, когда протестующие рабочие предупреждали городскую администрацию, что условия, существующие на швейных фабриках, приведут к трагедии. И теперь предсказание сбылось, городу пришлось пожинать кровавые плоды.
Еще больше людей толпилось на улицах. Их отчаяние переросло в неукротимый гнев, когда они узнали, что двери швейного цеха были заперты и работницы не могли из него выйти. Среди обломков на девятом этаже была обнаружена дверная ручка с запором, но она не могла служить уликой в суде, потому что от двери осталось лишь несколько обгорелых планок. Тем не менее было ясно, что погибшие оказались запертыми в своей камере смерти как какие-нибудь овцы в загоне, брошенные на произвол судьбы. Эдди расположился в одном из темных подъездов, откуда было удобно наблюдать за волнующейся толпой. Склонив голову, он слушал гневные речи, которые были созвучны тому, что ощущал он сам. Ведь, по правде говоря, гнев в его душе никогда не утихал.
Заснул он в эту ночь только под утро и видел во сне реку и отца, плывущего по ней в черном лапсердаке. Затем ему приснилось, что ему опять тринадцать лет и он спит на конюшне рядом с лошадьми, как это было, когда он просился в ученики к Мозесу Леви. Внезапно в дверь конюшни постучали. Во сне он проснулся и, открыв дверь, увидел на булыжной мостовой отца. У Коэна-старшего был в руках чемодан, который он обычно держал под кроватью. Как-то раз в детстве Эдди открыл этот чемодан, хотя и понимал, что тем самым не оправдывает доверия отца. Внутри он увидел чистую смену белья для отца и для самого Эдди, а также молитвенник и фотографию матери.
Он подошел к отцу, снова став во сне послушным сыном.
– Мы куда-нибудь едем? – спросил он.
– Пока нет, – ответил отец, – но мы должны быть готовы к этому, если понадобится.
Придя домой после пожара, Эдди развесил на стене фотографии погибших и рассматривал их, запоминая лица. Среди них была девушка с веснушками, чье лицо после смерти стало белым как мел. На другой красовалась шляпка с белыми шелковыми маргаритками. Было странно, что шляпка осталась у нее на голове после падения с девятого этажа. Изучив фотографию с помощью лупы, он нашел причину: заколка в форме пчелы. Были там также две сестренки не старше шестнадцати лет с красивыми бровями дугой и копной каштановых локонов. Лежа ночью без сна, он мысленно видел их лица и слушал, как в ведре плавает рыба.
Форель немного подросла и, крутясь в тесной посудине, ударялась о ее стенки. Эдди успел привязаться к ней и понимал, что не сможет ее съесть. Вместо этого он кормил рыбу хлебными крошками и червями, откапывая их на конюшне, – она стала его питомцем, о котором надо было заботиться. Каждый вечер он снимал новую жилицу своей камерой. После массы человеческих трупов было приятно фотографировать живое существо. Тем не менее он желал всей душой, чтобы той субботы, когда он поймал рыбу, никогда не было и он не ходил бы на Вашингтон-Плейс смотреть, как девушки падают с девятого этажа.
Как-то ночью раздался стук в дверь конюшни. Благодаря джину Эдди спал глубоким сном, погрузившись в темный густой туман, как это бывает с людьми, страдающими бессонницей. Он подумал, что ему опять снится отец с чемоданом. Но стук не прекращался, и Эдди в конце концов понял, что кто-то действительно просится войти. Он решил, что это пришли к человеку, который арендовал конюшню уже несколько лет и занимался извозом, а в свободное время разводил птиц и держал их в больших клетках в помещении для хранения упряжи. Поэтому Эдди лишь натянул на голову одеяло и продолжал спать. Однако в дверь по-прежнему колотили, и сквозь сон он услышал, как кто-то выкрикивает его имя. Имя было неправильное, но Эдди недостаточно хорошо соображал, чтобы осознать это, к тому же именно оно было его настоящим именем – по крайней мере, в самых тяжких снах его всегда звали Иезекилем.
Он выбрался из постели, натянул брюки и скатился по лестнице. Когда он открыл дверь, ему показалось, что перед ним отец. Если бы это был сон, в котором Джозеф Коэн действительно явился бы к нему, чтобы предложить вернуться домой, Эдди, возможно, и согласился бы. В эту ночь он был готов отказаться от своей новой жизни, где морги были забиты телами девушек. Но это был не отец, а какой-то другой ортодоксальный еврей в черном сюртуке и черной шляпе. Его сутулая фигура вызвала у Эдди приступ тоски по отцу, потому что незнакомец, без сомнения, тоже был портным, годами просидевшим за швейной машинкой.
– Если вы хотите экипаж, то вам нужен не я, – пробормотал Эдди чуть заплетающимся языком. – Тот человек придет только в шесть.
– Мне не нужен экипаж, – сказал незнакомец. – Я ищу свою дочь.
Час был столь ранний, что все лошади еще спали стоя, их дыхание поднималось облачками пара в холодном предрассветном воздухе.
– С этим вы тоже промахнулись. – Эдди общался только с теми женщинами, которых встречал в барах, и никогда не приводил их домой. – Так что до свидания, ничем не могу помочь.
Мужчина прищурился с суровым выражением. Его бледные глаза за стеклами очков слезились и были затуманены катарактой.
– Вы фотограф?
– Да.
– Тогда вы-то мне и нужны.
Незваный гость без приглашения устремился вверх по лестнице, и Эдди оставалось только последовать за ним и постараться убедить его, что он ошибается.
– У меня здесь нет никаких женщин. Можете сами удостовериться. Ищите, если хотите.
Незнакомец, похоже, так и собирался поступить. Войдя в мансарду, он стал озирать царивший там беспорядок. Перед сном Эдди работал не покладая рук, и выщербленный деревянный стол был завален отпечатанными снимками, в том числе сверкающими изображениями форели. Она получилась даже лучше, чем он ожидал, и это позволяло ему питать слабую надежду, что когда-нибудь он станет достаточно хорошим фотографом, чтобы иметь право назвать себя учеником Мозеса Леви.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
10
Климент Мур (1779–1863) – американский филолог, литератор, теолог и поэт.
11
Альфред Стиглиц (1864–1946) – американский фотограф, поднявший фотографию до уровня искусства.
12
Кадиш. Перифраз отрывка из Книги пророка Иезекиля (38: 23): «И покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя перед глазами многих народов, – и узнают, что Я – Господь».
13
Mitts / mittens – рукавицы, варежки (англ.).
14
Одним из первых голландских поселенцев был Ян Дикман (1666–1715), чей фермерский дом сохраняется на Манхэттене как музей.
15
Джон Джеймс Одабон (1785–1851) – американский натуралист и художник.