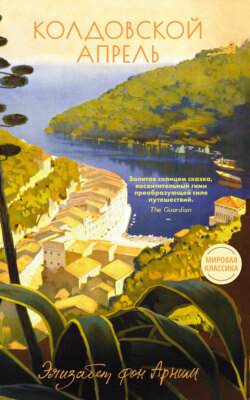Читать книгу Колдовской апрель - Элизабет фон Арним - Страница 3
Глава 2
ОглавлениеКонечно же, миссис Арбатнот несчастной не бы-ла – разве это возможно, спросила она себя, если сам Господь взял на себя заботу о ней? – но на время она подвесила этот вопрос в воздухе, поскольку непосредственно перед ней сидело создание, однозначно нуждавшееся в помощи, и на сей раз не в виде башмаков, одеял и приемлемых санитарных условий, но в помощи более деликатной – в понимании и правильном, точном выборе слов.
Однако на точно подобранные слова, как она вскорости поняла, попробовав разнообразные – о жизни для других, о молитвах, о мире, который мы обретаем, безусловно вверив себя Господу – на все эти слова у миссис Уилкинс находились слова другие, пусть и не совсем правильные, но на них в данный момент, наверняка из-за нехватки времени, миссис Арбатнот убедительного ответа не находила. Кроме определенно правильных слов: если они просто ответят на объявление, в том большого вреда не будет. Это же ни к чему не обязывает. Просто уточнить. И больше всего миссис Арбатнот тревожило то, что она сделала это предложение не только для того, чтобы успокоить миссис Уилкинс: оно вырвалось у нее потому, что она сама, как ни странно, затосковала по средневековому замку.
Это ее всерьез обеспокоило. Как так получилось, что она, привыкшая направлять, вести за собой, советовать, поддерживать – всех, кроме Фредерика, которого она давно уже перепоручила Господу, – стала ведомой, попала под влияние, была сбита с толку – и чем? Каким-то объявлением, этой бессвязно лепечущей незнакомкой? Такое не могло не встревожить. Она не понимала своей внезапно вспыхнувшей острой тоски по тому, что в конечном счете было баловством, в то время как подобные желания не посещали ее уже много лет.
– Ничего же плохого не случится, если мы просто спросим, – сказала она тихо, как если бы вокруг них, слушая и осуждая, столпились викарий, и служащие сберегательного банка, и все жаждущие и зависящие от нее бедняки.
– Это же нас ни к чему не обязывает, – столь же тихо, дрожащим голосом, ответила миссис Уилкинс.
Они одновременно поднялись – миссис Арбатнот удивило, что миссис Уилкинс оказалась такой высокой, – и отправились к письменному столу, где миссис Арбатнот написала послание к Z., почтовый ящик 1000, «Таймс». Она перечислила все подробности, о которых желала получить разъяснения, кроме одной, которая на самом деле интересовала их больше всего, – стоимость аренды. Они обе почувствовали, что написать письмо и взять на себя всю деловую сторону следует миссис Арбатнот. Она не только привыкла все организовывать и быть практичной, она также была старше и определенно сдержанней, и уж точно сама не сомневалась в том, что была мудрее. Не сомневалась в этом и миссис Уилкинс: четкий пробор в волосах миссис Арбатнот указывал на сдержанность и спокойствие, которые могли быть продиктованы только мудростью.
И хотя миссис Арбатнот была мудрее, старше и сдержанней, движущей силой всего предприятия все же была ее новая подруга. Силой неуправляемой, но мощной. Она, конечно, нуждалась в помощи, еще и потому, что имела, судя по всему, беспокойный характер. И, как ни странно, заражала своим беспокойством. Звала за собой. А то, каким образом ее нестабильный разум приходил к заключениям – безусловно ложным, взять хоть соображение о несчастливости миссис Арбатнот – попросту обескураживало.
И все же, какой бы беспокойной ни была миссис Уилкинс, миссис Арбатнот, к своему удивлению, разделяла ее волнение и стремление, и когда письмо упало в почтовый ящик в холле и обратного пути уже не было, обе испытали одно и то же чувство вины.
– Это только доказывает, – прошептала миссис Уилкинс, когда они отошли от почтового ящика, – какими безупречно правильными, добродетельными мы были всю нашу жизнь. Впервые сделав что-то втайне от мужей, мы сразу же почувствовали себя виноватыми.
– Боюсь, я не могу утверждать, что всегда была безупречно правильной, – слабо запротестовала миссис Арбатнот, почувствовав себя странно из-за того, что ее новая знакомая каким-то непостижимым образом снова пришла к верному выводу, хотя она ни словом не обмолвилась о собственном чувстве вины.
– О, я уверена, что были. Это же видно… Вот почему вы несчастны.
«Ну зачем она такое говорит? – подумала миссис Арбатнот. – Надо постараться убедить ее не говорить так».
Вслух же она со всей рассудительностью произнесла:
– Не понимаю, почему вы так настаиваете на том, что я несчастлива. Когда вы узнаете меня лучше, вы убедитесь, что я вполне счастлива. И я уверена, что вы на самом деле не думаете, будто добродетель, коль скоро ее удалось достигнуть, делает людей несчастными.
– Нет, именно так я и думаю, – сказала миссис Уилкинс. – Вот такая добродетель, как у нас, делает несчастными. Как только мы обрели ее, так сразу и стали несчастными. Добродетель бывает несчастная и счастливая – например, та, которую мы обретем в средневековом замке, – счастливая добродетель.
– Это в том случае, если мы туда поедем, – сдержанно ответила миссис Арбатнот. Она чувствовала, что миссис Уилкинс нуждается в сдерживании. – Ведь мы же только спросили. Любой может это сделать. Вполне вероятно, что мы найдем условия неприемлемыми, но даже если это не так, завтра мы все равно можем передумать.
– Я вижу нас там, – только и ответила миссис Уилкинс.
Все это было крайне странно и тревожно. Миссис Арбатнот, шлепая по мокрым улицам на собрание, где должна была держать речь, пребывала в непривычно смятенном состоянии духа. Она надеялась, что предстала перед миссис Уилкинс особой крайне спокойной, практичной и трезвой и умело скрыла взволнованность. На самом деле она была взволнована чрезвычайно, и чувствовала себя счастливой, и чувствовала себя виноватой, и испытывала страх, словно женщина, возвращающаяся с тайной встречи с любовником – хотя у нее и не было никакого опыта подобных чувств. На самом деле так она и выглядела, когда с легким опозданием появилась за кафедрой. Всегда открытая и бесхитростная, она почувствовала себя чуть ли не обманщицей, глядя в суровые застывшие физиономии собравшихся, которые ждали, когда она начнет убеждать их внести свой вклад в удовлетворение неотложных нужд хампстедских бедняков – при этом все присутствующие полагали, что они сами нуждаются во вкладах. Она выглядела так, будто скрывала что-то постыдное, но восхитительное. Определенно ее привычное выражение ничем не замутненной беспристрастности сменилось выражением подавляемого и боязливого удовлетворения, которое, если бы ее слушатели были людьми более светскими и опытными, натолкнуло бы их на мысль о недавних и, вероятно, страстных любовных утехах.
Красота, красота, красота… Слова звенели у нее в ушах, когда она стояла на кафедре и вещала немногочисленной публике о некрасивом. Она никогда не бывала в Италии. Неужели именно на это ей предстоит потратить свои сбережения? И хотя она не могла одобрить то, каким образом миссис Уилкинс говорила о предопределенности ближайшего будущего, как будто у нее не было выбора, как будто сопротивляться и даже размышлять было бесполезно, все равно ее слова оказали на миссис Арбатнот свое влияние. Взгляд миссис Уилкинс был провидческим. Миссис Арбатнот знала, что некоторые обладают таким взглядом, и если миссис Уилкинс действительно видела ее подле средневекового замка, то, возможно, бороться и смысла нет. И все же потратить сбережения на баловство… Происхождение этих сбережений было не совсем праведным, но по крайней мере она считала, что предназначение их внушает уважение. Так неужели она должна изменить предназначению, каковое само по себе оправдывало существование сбережений, и потратить их на собственное удовольствие?
Миссис Арбатнот все говорила и говорила, она уже до такой степени поднаторела в подобных речах, что могла бы произносить их во сне, и в конце собрания, поскольку взгляд ее был замутнен тайными видениями, вряд ли даже заметила, что никто не был тронут ее речью, по крайней мере, не был тронут до такой степени, чтобы внести пожертвование.
А вот викарий заметил. Викарий был разочарован. Обычно его добрый друг и помощница миссис Арбатнот добивалась лучших результатов. И, что еще более необычно, ее это нисколько не взволновало, так ему показалось.
– Не представляю, – раздраженный как публикой, так и ею самой, сказал он, прощаясь, – что этим людям еще нужно. Их, кажется, вообще ничего не трогает.
– Возможно, им нужен отдых, – предположила миссис Арбатнот.
«Странный какой ответ, – подумал викарий. – Не по делу».
– В феврале? – саркастически бросил ей вслед викарий.
– О нет… не раньше апреля, – ответила через плечо миссис Арбатнот.
«Очень странно, – подумал викарий. – Очень-очень странно».
И отправился домой, где вел себя с женой не совсем по-христиански.
В вечерней молитве миссис Арбатнот испрашивала руководства. Она чувствовала, что ей следует прямо и недвусмысленно попросить, чтобы средневековый замок уже кто-то снял, и таким образом проблема бы решилась сама собой, но смелость ее оставила. А что, если ее молитва будет услышана? Нет, она не может об этом просить, не может рисковать. К тому же – она почти указала на это Господу – если она сейчас потратит сбережения на отдых, то вскоре скопит новые. Фредерик буквально впихивал ей деньги, создание новых накоплений будет означать лишь то, что она какое-то время будет меньше жертвовать на нужды прихода. И это снова будут накопления, неправедность происхождения которых будет очищена пользой, которую они в результате принесут.
Все объяснялось тем, что миссис Арбатнот, не имевшая собственных средств, была вынуждена жить на доходы от деятельности Фредерика, и получалось, что ее накопления были плодами древнего греха. То, чем зарабатывал Фредерик, было для нее постоянным источником печали. Он регулярно, из года в год, писал и издавал невероятно популярные романы о королевских любовницах. А поскольку королям, у которых имелись любовницы, несть числа, а еще больше история знала любовниц, имевших королей, он выпускал по роману каждый год супружеской жизни. И все равно целая толпа этих дамочек еще ждала своей очереди. Против этого миссис Арбатнот была бессильна. Нравилось ей это или нет, она была вынуждена жить на эти деньги. Однажды, после успеха романа о госпоже Дюбарри [4], он подарил ей чудовищную софу с пышными подушками и мягким, манящим изножьем, и она терзалась от того, что в ее собственном доме словно поселился дух давно покойной французской грешницы.
Незатейливо добродетельная, убежденная, что высокая мораль и есть основа всякого счастья, она мучилась скрытой печалью от того, что ее с Фредериком благосостояние было плодом грехов, хоть и отмытых прошедшими столетиями. Чем больше героини романов забывали о приличиях, тем охотнее раскупались книги о них, и тем щедрее Фредерик был к своей супруге, и чем больше он ей давал, тем больше она тратила на помощь бедным – за вычетом накоплений на черный день, ибо надеялась и верила, что когда-нибудь люди перестанут черпать удовольствие в греховном чтиве, и тогда Фредерику потребуется ее поддержка. Приход процветал за счет дурного поведения дам вроде Дюбарри, Монтеспан, Помпадур, Нинон де Ланкло, не говоря уж о высокоученой Ментенон. А бедняки были тем фильтром, пройдя сквозь который, как надеялась миссис Арбатнот, деньги как бы очищались. Большего она сделать не могла. Она целыми днями обдумывала ситуацию, пытаясь найти верный путь, пытаясь наставить на него Фредерика, но поняла, что вряд ли с этим справится, и передала и путь, и Фредерика в руки Божьи. Ни гроша из этих денег она не тратила ни на обустройство дома, ни на наряды, и обстановка, за исключением грандиозной мягкой софы, оставалась более чем суровой. Если кто извлекал из ситуации выгоду, так это неимущие. Даже их ботинки – и те были оплачены грехами. Но как же трудно ей приходилось! Миссис Арбатнот, взыскуя руководства, молилась до изнеможения. Следовало ли ей вообще прекратить прикасаться к этим деньгам, бежать их, как бежала она грехов, бывших их источником? Но как тогда быть с ботинками для паствы? Она спрашивала викария, и после многих оговорок, деликатных умолчаний и намеков стало в конце концов понятно, что он за ботинки.
В начале чудовищно успешной карьеры – а он начал ее уже после женитьбы, до брака Фредерик был невинным работником библиотеки Британского музея – ей хотя бы удалось убедить Фредерика публиковать романы под псевдонимом, так что ее имя не было публично опозорено. Хампстед с восторгом читал книги, не подозревая, что автор живет в самой его гуще. Фредерика в Хампстеде почти никто не знал, даже внешне. Он никогда не приходил ни на одно из сборищ. Чем бы он ни занимался развлечения ради, занимался он этим в Лондоне, и никогда не рассказывал, что делал и с кем встречался – если судить по тому, насколько часто он упоминал жене о своих друзьях, Фредерик вполне мог вообще не иметь друзей. Один лишь викарий знал об источнике средств для паствы, и, как сообщил миссис Арбатнот, считал делом чести о том не упоминать.
По крайней мере ее маленький домик был свободен от призраков недостойных дам, поскольку Фредерик работал вне дома. Он снимал две комнаты близ Британского музея, где и вершил свои эксгумации, туда он отправлялся ранним утром и возвращался домой, когда миссис Арбатнот уже спала. Иногда вообще не возвращался. Иногда она не видела его по несколько дней. Затем он внезапно появлялся к завтраку, накануне открыв дверь своим ключом, веселый, добродушный и щедрый, радующийся, если она позволяла что-нибудь ей преподнести – упитанный мужчина, живущий в согласии с миром, полнокровный, всегда в хорошем расположении духа, довольный жизнью. А она была мягкой и все беспокоилась, чтобы кофе оказался именно таким, как он любит.
Он казался счастливым. Жизнь, часто думала она, как ее в таблицу ни своди, все равно полна тайн. Всегда найдутся люди, которых невозможно поместить ни в одну рубрику. Таким был и Фредерик. Казалось, у теперешнего Фредерика не было ничего общего с Фредериком изначальным. Его, похоже, совершенно не интересовали вещи, о которых он раньше говорил как о важных и прекрасных: любовь, дом, полное единение мыслей, полное погружение в интересы друг друга. После ранних болезненных попыток удержать его на той точке, с которой они так великолепно, рука об руку, стартовали, попыток, так страшно ее ранивших, поскольку Фредерик, за которого она когда-то вышла замуж, был теперь испорчен до неузнаваемости, она словно бы поместила его возле собственного изголовья в качестве главного предмета молитв и оставила его – за вычетом молитв – на попечение Господа. Она слишком любила Фредерика, чтобы за него не молиться. А он и не подозревал, что еще ни разу не вышел из дома без ее молчаливого благословения, реявшего вокруг этой некогда обожаемой головы как отголосок прежней любви. Она не смела думать о нем так, как думала когда-то, в те прекрасные первые дни их соитий, их брака. Ребенок, которого она родила, умер, и у нее не было никого и ничего, к кому она могла бы обратить свою любовь. Ее детьми стали неимущие, любовь она обратила к Богу. «Что может быть счастливее такой жизни?» – порой спрашивала она себя, но ее лицо, и в особенности взгляд, оставались печальными.
«Может, когда мы состаримся… Когда оба станем совсем старыми…» – со страстной тоской думала она.
4
Графиня Дюбарри – официальная фаворитка французского короля Людовика XV.