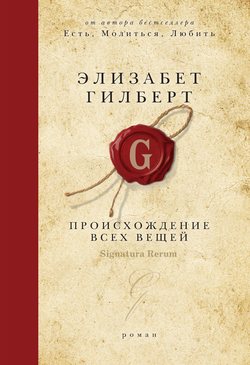Читать книгу Происхождение всех вещей - Элизабет Гилберт - Страница 10
Часть вторая
Сливка из «белых акров»
Глава седьмая
ОглавлениеГоду тысяча восемьсот шестнадцатому предстояло войти в историю как «год без лета» – лето не настало не только в «Белых акрах», но и во всем мире. Извержение вулкана в Индонезии наполнило земную атмосферу пеплом и тьмой, принеся засуху в Северную Америку и холод и голод на большую часть территории Европы и Азии. В Новой Англии погиб урожай кукурузы, в Китае – рис, а по всей Северной Европе вымерзли овес и пшеница. В Ирландии более ста тысяч человек умерли с голоду. Повсюду массово забивали лошадей и скот, голодавших без зерна. (А немецкий изобретатель в ответ на массовую гибель животных приступил к работе над проектом безлошадного транспортного средства, впоследствии названного велосипедом.) Францию, Англию и Швейцарию охватили голодные бунты. В Квебеке в июне выпало двенадцать дюймов снега. В Италии выпал коричневый и красный снег, и люди испугались, что настал конец света.
Весь июнь, июль и август окрестности Пенсильвании были окутаны глубоким, холодным и темным туманом. Ничего не росло. Последующая зима оказалась еще хуже. Тысячи семей потеряли все. А вот для Генри Уиттакера год оказался неплохим. Благодаря обогреву в оранжереях большинство экзотических растений из тропиков остались живы, несмотря на полумрак, а открытым земледелием он никогда не занимался из-за множества рисков. Большая часть его лекарственных растений ввозилась из Южной Америки, где климат по-прежнему был благоприятным. Мало того, из-за капризов погоды многие начали болеть, а где болезни – там растут прибыли фармацевтических кампаний. Поэтому ни финансы, ни ботаническая коллекция Генри почти не пострадали.
Напротив, в тот год Генри лишь приумножил свое состояние, занявшись спекуляцией недвижимостью, а также предался новому увлечению – коллекционированию редких книг. Из Пенсильвании толпой бежали фермеры, направляясь на запад в надежде найти там более яркое солнце, здоровую почву и благоприятную среду. Генри купил множество земель, брошенных этими разорившимися людьми, и присоединил к своим владениям несколько превосходных мельниц, лесов и пастбищ. В тот год обанкротилось и немало благородных семей из Филадельфии, пав жертвой экономического кризиса, вызванного дурной погодой. Для Генри это означало чудесные новости. Стоило очередному знатному семейству объявить о банкротстве, как он тут же скупал за бесценок их земли, мебель, лошадей, великолепные французские седла и персидские ковры, а главное – их библиотеки.
За годы приобретение ценных книг превратилось для Генри в своего рода манию – манию, понять которую большинству людей было трудно, если учесть, что Генри почти не умел читать по-английски и уж тем более не смог бы прочесть, скажем, Катулла[16] в оригинале. Но дело в том, что Генри не собирался читать эти книги; он просто хотел обладать ими как трофеями для растущей библиотеки «Белых акров». С особым старанием он стремился заполучить в свою коллекцию медицинские и философские трактаты и книги по ботанике с роскошными иллюстрациями. Он знал, что эти тома производят на гостей столь же неизгладимое впечатление, как и ценные тропические виды в его оранжереях. Он даже взял в привычку выбирать один редкий, ценный экземпляр (точнее, выбирала Беатрикс) и демонстрировать его гостям перед обедом. Этот ритуал доставлял ему особенное удовольствие, когда в гости наведывались прославленные ученые – чего стоил один их вид, когда у них перехватывало дыхание и темнело перед глазами от желания обладать такой драгоценностью, ведь большинство ученых мужей и не мечтали о том, что им удастся подержать в руках раннее издание Эразма Роттердамского (начала шестнадцатого века), где с одной стороны листа текст был отпечатан по-древнегречески, а с оборотной – на латыни.
Книги Генри скупал жадно и помногу. Он приобретал чужие библиотеки не избранными томами, а целыми сундуками. Разумеется, все эти книги необходимо было перебрать, но ясно, что сам Генри не годился для этой работы. Годами этот труд, изнурительный физически и умственно, ложился на плечи Беатрикс Уиттакер; та терпеливо разбирала завалы, оставляя истинные жемчужины, а кучу лишнего отправляла в публичную библиотеку Филадельфии. Однако поздней осенью 1816 года Беатрикс поняла, что уже не справляется. Книги поступали быстрее, чем она успевала их разобрать. Каретная была заставлена заполненными доверху сундуками, в которые еще никто не заглядывал. Каждую неделю благородные семейства объявляли о финансовом банкротстве, и как следствие на «Белые акры» обрушивались завалы книг из частных библиотек. Коллекция Генри грозила стать реальной катастрофой.
Вот Беатрикс и выбрала Альму своей помощницей в деле разбора книг. Выбор был очевиден: от Пруденс в подобных вопросах было мало толку, так как она не знала древнегреческого, плохо знала латынь и не смогла бы отличить ботанические справочники, изданные до 1753 года, от тех, что были изданы после 1753 года (то есть до и после появления классификации Линнея). Альма, которой к тому времени исполнилось шестнадцать лет, с радостью взялась за приведение в порядок библиотеки «Белых акров», и она прекрасно справилась с этой задачей. Благодаря основательным познаниям в истории она хорошо понимала, с чем имеет дело, а кроме того, была прилежным и страстным классификатором. Да и физических сил, нужных для того, чтобы переставлять тяжелые ящики и коробки, ей было не занимать. Вдобавок погода весь 1816 год стояла настолько отвратительная, что гулять на воздухе было не очень приятно, а работать в саду – почти бесполезно. И Альма с радостью стала воспринимать свой труд в библиотеке как нечто вроде садоводства, но взаперти, ведь это занятие, как и работа в саду, несло в себе все прелести физического труда и давало прекрасные результаты.
Альма даже обнаружила в себе талант реставратора книг. Опыт составления гербариев снабдил ее всеми необходимыми навыками для работы с материалами в переплетной – крошечной темной комнате с потайной дверью, примыкавшей к библиотеке, где Беатрикс хранила бумагу, ткани, кожу, воск и клеящие составы, нужные для реставрации хрупких старых изданий. По правде говоря, через несколько месяцев Альма достигла такого совершенства во всех этих делах, что Беатрикс полностью перепоручила ей заботу о библиотеке «Белых акров» – книгах уже отобранных и тех, что предстояло отобрать. Сама Беатрикс располнела и стала слишком уставать, карабкаясь по приставным лестницам, да и работа эта ей надоела.
Надо отметить, что другой бы засомневался, стоит ли бросать безо всякого присмотра приличную незамужнюю девицу шестнадцати лет среди множества книг неизвестного содержания, со всем доверием отправляя ее в плавание в гигантском океане либеральных идей, где она одна должна была отыскать свой путь, тем более что дело было в 1816 году. Можно лишь предположить, что Беатрикс, видимо, считала, что ее работа в отношении Альмы выполнена и она успешно справилась с воспитанием молодой женщины, казавшейся, по крайней мере на первый взгляд, прагматичной, высокоморальной и способной противостоять любым безнравственным идеям. Впрочем, существует также вероятность, что Беатрикс попросту не подумала о том, какие книги могут попасться Альме в сундуках, куда никто еще не заглядывал. А может, Беатрикс считала, что раз Альма некрасива и неуклюжа, то опасности, что несет с собой – о боже правый! – пробуждение чувственности, ей не грозят. А может, Беатрикс (к тому времени ей стукнуло почти полвека, и она начала страдать от эпизодических головокружений и рассеянности) попросту позабыла об осторожности.
Как бы то ни было, Альму Уиттакер оставили одну, и именно так она и нашла ту книгу.
* * *
Девушка так и не узнала, из чьей библиотеки она взялась. Альма нашла ее в неподписанном сундуке, где, за исключением одной этой книги, не было ничего примечательного – по большей части медицинские труды. Заурядный Гален, несколько последних переводов Гиппократа – ничего нового и интересного! Но среди других обнаружился толстый увесистый том анонимного автора с названием Cum Grano Salis. Что за странное название, подумала Альма: «С щепоткой соли». Поначалу она решила, что перед ней трактат по кулинарии, нечто вроде написанного в четвертом и переизданного в пятнадцатом веке в Венеции De Re Coquinaria, который уже имелся в библиотеке «Белых акров». Однако, вскользь пролистав страницы, увидела, что книга написана на английском и в ней нет иллюстраций и списков, предназначенных для изучения кулинарами. Тогда Альма открыла первую страницу, и то, что она там прочла, заставило ее ум лихорадочно заметаться.
«Меня удивляет, – писал анонимный автор в предисловии, – что мы с рождения наделены самыми замечательными выпуклостями и отверстиями в теле, которые, как знают даже маленькие дети, являются объектами чистого наслаждения; однако во имя цивилизации мы притворяемся, что они омерзительны и их никогда нельзя касаться, демонстрировать и использовать для удовольствия! Но почему, почему не посвятить себя изучению этих телесных даров, как своих собственных, так и чужих? Лишь наш ум мешает нам предаться столь восхитительным занятиям, лишь наносное ощущение себя „цивилизованными“ людьми, ставящее под запрет столь простые забавы. Мой ум, тоже некогда томившийся в темнице жестоких приличий, с годами раскрылся навстречу самым изысканным физическим удовольствиям. Поистине, я обнаружил, что проявления чувственности могут стать тонким искусством, коль скоро практикуются с тем же усердием, что музыка, художество или литература.
На этих страницах, читатель, вы найдете честный рассказ об эротических приключениях, которым я посвятил всю жизнь; некоторые назовут их грязными, но я с самой юности предавался им с радостью – и, полагаю, не причинил тем самым никому вреда. Будь я религиозным человеком, скованным чувством стыда, то назвал бы эту книгу признанием. Но я не намерен стыдиться своей сексуальности и в своих исследованиях предмета пришел к выводу, что многим человеческим обществам в разных частях света также несвойствен этот стыд. Со временем я убедился, что отсутствие сексуальной стыдливости, возможно, является естественным состоянием человека как вида – состоянием, увы, подавленным нашей цивилизацией. По этой причине моя необычная история не является признанием – это всего лишь рассказ. Надеюсь и верю, что читатели – причем не только джентльмены, но и смелые, образованные дамы – найдут сей рассказ поучительным и занимательным».
Альма захлопнула книгу. Этот тон был ей знаком. Она не знала автора лично, разумеется, но знала этот тип: образованный ученый муж вроде тех, кто часто ужинал в «Белых акрах». Подобный человек мог бы с легкостью написать четыреста страниц о жизни кузнечиков, но в данном случае решил посвятить те же четыреста страниц описанию своих сексуальных приключений. Это чувство узнавания, ощущение, что с автором они близко знакомы, смущало и пленяло Альму. Если автор подобного трактата – почтенный джентльмен, изъясняющийся столь почтенным языком, делает ли это почтенным его труд?
Что на это сказала бы Беатрикс? Альме не надо было гадать на это счет. Беатрикс причислила бы эту книгу к запрещенным, опасным и гнусным и назвала бы ее средоточием порока. Как бы поступила с этой книгой Беатрикс? Несомненно, пожелала бы от нее избавиться. А что бы сделала Пруденс, если бы книгу нашла она? Да Пруденс побоялась бы приблизиться к ней на милю! О да, если бы такая книга попала в руки Пруденс, та посчитала бы своим долгом отнести ее к Беатрикс, которая тут же уничтожила бы гнусный предмет и подвергла бы девушку строгому наказанию за то, что та осмелилась прикоснуться к нему. Да, у Пруденс начисто отсутствовал инстинкт самосохранения.
А как же поступила Альма?
Она решила, что уничтожит книгу и ничего никому о ней не скажет. Более того, она решила избавиться от нее немедленно. Тем же вечером. Не прочитав больше ни слова.
Она снова раскрыла книгу в случайном месте. И снова услышала знакомый голос респектабельного джентльмена, вещавший, однако, о совершенно немыслимых предметах.
«Я пожелал узнать, – рассказывал он, – в каком возрасте женщина теряет способность испытывать чувственное наслаждение. От своего друга, владельца борделя, не раз помогавшего мне в прошлом в моих экспериментах, я узнал о семидесятилетней куртизанке, которая с удовольствием занималась своим делом с четырнадцати до шестидесяти четырех лет и в настоящее время проживала в городе недалеко от моего места жительства. Я написал этой женщине письмо, и она ответила мне с чарующей искренностью и теплотой. Не прошло и месяца, как я наведался к ней в гости, и в ходе этого посещения она позволила мне осмотреть ее гениталии, которые почти ничем не отличались от гениталий намного более молодых женщин. Она также продемонстрировала, что вполне способна получать удовольствие. При помощи пальцев и тонкого слоя орехового масла, покрывающего клитор, она поглаживаниями довела себя до восхитительного пика…»
Тут Альма захлопнула книгу. Такое чтение нельзя хранить. Книгу нужно сжечь на кухне, в очаге. Но только не сейчас, когда ее могут увидеть, а позднее, ночью.
Она снова открыла трактат на первой попавшейся странице.
«Со временем я обнаружил, – спокойным тоном продолжал рассказчик, – что существуют люди, чьему физическому и душевному состоянию крайне благоприятствует регулярное битье по обнаженным ягодицам. Много раз я был свидетелем того, как эта практика поднимает настроение и мужчинам, и женщинам; подозреваю, что это одно из самых эффективных средств лечения меланхолии и прочих душевных недугов, которым мы располагаем. В течение двух лет я водил знакомство с восхитительной девушкой, модисткой, чьи невинные, пожалуй, даже ангельские полушария огрубели и окрепли от постоянной порки; отведав кнута, она неизменно забывала о печалях. Ранее на этих страницах я уже описывал кушетку сложной конструкции, изготовленную для меня одним из лучших лондонских краснодеревщиков; тот оснастил ее рычагами и веревками по моему заказу. Так вот, та модистка сильнее всего любила, когда ее крепко привязывали к той кушетке, где она брала мой член в рот и сосала, как дитя сосет сахарный леденец на палочке, в то время как помощник…»
Альма снова захлопнула книгу. Любой человек, чей ум не занимают вульгарные предметы, немедленно бы прекратил читать эту книгу. Но в душе Альмы уже поселился червь любопытства. Этот червь отныне желал ежедневно получать свою порцию романа, узнавая интересное – узнавая правду.
И Альма снова открыла книгу и читала еще час, обуреваемая любопытством, сомнениями и паникой. Совесть тянула ее за юбки, умоляя остановиться, но Альма не могла остановиться. То, что она обнаружила на этих страницах, наполнило ее волнением и неловкостью, взбудоражило и лишило покоя. Когда же ей подумалось, что она сейчас упадет в обморок от мыслей, заполонивших ее воображение, словно спутанные лианы, она наконец захлопнула книгу в последний раз и убрала ее в ничем не примечательный сундук, на прежнее место.
Она торопливо вышла из каретной, разглаживая фартук вспотевшими руками. На улице было прохладно и хмуро, как и весь год; в воздухе неприятной сыростью висел туман, и он становился таким густым, что его можно было поддеть вилкой. Сегодня у Альмы было еще много важных дел. Она обещала помочь Ханнеке де Гроот, которая руководила отправкой бочек с сидром на зимовку в погреба. Кто-то разбросал бумагу под сиренью у изгороди со стороны южного леса – придется убрать. В кустарник за греческим садом ее матери вторглись побеги плюща – нужно немедленно послать мальчишку, чтобы тот их подрезал. Ей следовало тотчас взяться за эти дела и выполнить их быстро, как всегда.
Выпуклости и отверстия.
Она могла думать лишь о выпуклостях и отверстиях.
* * *
Наступил вечер. В гостиной зажгли свечи и расставили фарфор. К ужину ждали гостей. Альма оделась на выход, в спешке напялив дорогое платье из бумажного муслина. Ей следовало бы ждать в гостиной, но она извинилась и сказала, что ей нужно ненадолго отлучиться в библиотеку. Там она заперлась в переплетной за потайной дверью, спрятанной рядом с дверью в саму библиотеку. Это была ближайшая дверь, которая крепко запиралась. Книги у нее при себе не было. Впрочем, она была ей ни к чему; образы прочитанного и так преследовали ее весь вечер, пока она бродила по поместью, – дикие, неотступные и пробирающие до костей.
В голове роились мысли, творя с ее телом что-то невообразимое. Ее бутон изнывал. Эта ноющая боль усиливалась весь вечер. Болезненное чувство между ног – будто ей чего-то не хватает – было больше всего похоже на колдовство, на дьявольское проклятие. Ее бутон требовал, чтобы его потерли как можно сильнее. Юбки мешали. В этом платье она вся чесалась и изнемогала. Альма подняла подол. Сидя на маленьком табурете в тесной, темной, запертой переплетной, где пахло клеем и кожей, она раздвинула ноги и начала гладить себя, теребить, запускать пальцы внутрь и двигать ими по кругу, лихорадочно изучая свои влажные лепестки, пытаясь отыскать спрятавшегося там демона и стереть его образ своей рукой.
И она нашла. И стала тереть его сильнее и сильнее. Потом внутри ее что-то раскрылось. Боль превратилась во что-то другое – рвущееся наружу пламя, вихрь наслаждения, жар, полыхнувший в лицо. Она шла за наслаждением туда, куда ее вели. Она стала невесомой и безымянной; у нее стерлись мысли и память. Потом вспыхнул свет, будто перед глазами выпустили фейерверк, – и все было кончено. Она ощутила покой и тепло. Впервые за всю ее сознательную жизнь ее ум оказался не занят мыслями и тревогами, работой и решением головоломок. А потом из центра этой восхитительной пушистой тишины родилась мысль и, укрепившись, заняла собой все пространство:
Я должна сделать это снова.
* * *
Меньше чем через полчаса Альма уже стояла в атриуме «Белых акров», раскрасневшаяся и смущенная, и принимала гостей. В тот вечер среди приехавших к ужину были серьезный юноша по имени Джордж Хоукс, филадельфийский издатель, публиковавший изящные ботанические гравюры, а также книги, журналы и альманахи по ботанике, и Джеймс К. Стакхаус, почтенный пожилой джентльмен, преподаватель Принстонского университета, у которого недавно вышел труд по физиологии негров. Кроме того, обычно с семейством Уиттакеров ужинал Артур Диксон, учитель девочек, молодой человек с бледным лицом, но тот уже показал себя как незавидный собеседник и застольные часы обычно проводил, с беспокойством изучая свои ногти.
Джордж Хоукс, издатель, уже много раз прежде гостил в «Белых акрах» и Альме очень нравился. Он был застенчив, но добр, весьма умен и видом напоминал большого, неуклюжего, шаркающего медведя. Одежда на нем висела, шляпа вечно сидела как-то криво, и он никогда не знал, куда встать. Разговорить Джорджа Хоукса было непросто, но стоило ему начать, и он оказывался собеседником умным и приятным. Никто в Филадельфии не мог похвастаться столь глубокими познаниями в ботанической литографии, а книги его издания были восхитительны. Он с любовью говорил о растениях, художниках и переплетном деле, и Альме его компания была бесконечно приятна.
Что до второго гостя, профессора Стакхауса, тот был у них за ужином впервые и Альме сразу не понравился. Он был по всем признакам зануда, причем настырный. Сразу же после прибытия, еще стоя в атриуме «Белых акров», он оторвал у них двадцать минут, с дотошностью Гомера излагая превратности своего путешествия в повозке из Принстона в Филадельфию. А исчерпав столь занимательную тему, вслух удивился тому, что Альма, Пруденс и Беатрикс будут ужинать с ними, ведь предстоящая беседа уж верно окажется выше их разумения.
– О нет, – поправил гостя Генри. – Думаю, вы вскоре убедитесь, что моя супруга и дочери вполне способны поддержать разговор.
– Неужели? – отвечал профессор. – И на какие же темы?
– Хм… – Генри потер подбородок, оглядывая своих домашних, – ну вот Беатрикс, скажем, знает все, Пруденс сильна в музыке и искусстве, а Альма – высокая и крепкая – наш эксперт в ботанике.
– В ботанике, значит, – повторил мистер Стакхаус с крайне снисходительным видом. – Что ж, ботаника – самое подходящее развивающее занятие для девушки. Всегда считал ее единственной наукой, подходящей женскому полу, в связи с тем, что в ней отсутствуют жестокость и математическая точность. Моя собственная дочь премило рисует дикорастущие цветы, между прочим.
– Захватывающее, должно быть, занятие, – буркнула Беатрикс.
– Вполне, – ответил профессор Стакхаус и повернулся к Альме: – Видите ли, дамские пальцы более податливы. Они мягче, чем мужские. Говорят, они лучше годятся для дела столь деликатного, как коллекционирование растений.
Альма, которая вообще-то никогда не краснела, залилась краской до самых корней волос. Почему этот человек вдруг заговорил о пальцах, о податливости, деликатности, мягкости? Теперь все смотрели на руки Альмы, которые совсем недавно побывали прямо внутри ее бутона. Это было ужасно. Краем глаза она увидела, как ее старый друг, издатель Джордж Хоукс, улыбается ей с сочувствием. Сам Джордж все время краснел. Он краснел каждый раз, когда кто-то смотрел в его сторону, и каждый раз, когда вынужден был заговорить. Видимо, он сочувствовал неловкому положению Альмы. Когда он взглянул на нее, девушка еще сильнее покраснела. Впервые в жизни она не нашлась что ответить; ей лишь хотелось, чтобы никто на нее не смотрел. Она на все была готова, только бы не идти сегодня к ужину.
К счастью для Альмы, профессора Стакхауса, кажется, не интересовало ничего, кроме его собственной персоны, и, когда подали ужин, он приступил к долгому и подробному рассказу о своих исследованиях, точно по ошибке принял «Белые акры» за аудиторию Принстонского университета, а своих хозяев – за студентов.
– Есть ученые, – заговорил он, закончив сложные манипуляции по складыванию салфетки, – которые не так давно предположили, что темный цвет кожи негроидов является всего лишь кожным заболеванием и его можно смыть, применяя определенную комбинацию химических веществ. Таким образом, негр превратится в здорового белого человека. Это не так. Как доказали мои исследования, негр – это не больной белый человек, а особый вид, что я и намерен продемонстрировать…
Альме было трудно его слушать. Все ее мысли были о Cum Grano Salis и событиях в переплетной, имевших место всего час назад. Заметим, что то был не первый раз, когда Альма Уиттакер услышала о гениталиях или человеческой сексуальности. В отличие от других девочек, которым родные рассказывали, что детей приносят индейцы или что беременность наступает, когда в небольшой надрез в животе женщины помещают семечко, Альма знала основы человеческой анатомии, как женской, так и мужской. При таком количестве медицинских трактатов и научных трудов в «Белых акрах» трудно было остаться в неведении в подобных вопросах. Мало того, вся ботаническая лексика, с которой Альма была близко знакома, была пронизана сексуальным смыслом. (Сам Линней называл опыление «браком», лепестки цветков – «пологом на благородной постели», а цветок с девятью тычинками и одним пестиком один раз смело сравнил с «девятью мужчинами в спальне одной невесты»).
Вдобавок Беатрикс никогда не допустила бы, чтобы ее дочери росли наивными дурочками, тем самым подвергая себя опасности, в особенности с учетом сомнительного прошлого матери Пруденс. Поэтому она самолично, отчаянно запинаясь, страдая от неловкости и лихорадочно обмахивая шею, объяснила Альме и Пруденс суть процесса размножения у людей. Этот разговор никому не доставил удовольствия, и каждый из участников стремился покончить с ним как можно скорее, но, по крайней мере, информация дошла по назначению. Однажды Беатрикс даже предупредила Альму, что есть части тела, к которым ни в коем случае нельзя прикасаться, кроме как для омовения, а в уборной никогда не следует задерживаться дольше положенного из-за риска предаться одиночным безнравственным занятиям. Тогда Альма не придала ее словам особого значения, так как предостережение показалось ей бессмысленным: в самом деле, ну кому придет в голову задерживаться в уборной дольше положенного?
Но открыв для себя Cum Grano Salis, Альма вдруг поняла, что по всему миру каждую минуту происходят странные и самые невообразимые вещи, связанные с сексом. Мужчины и женщины проделывают друг с другом поистине удивительные трюки, и делают это не только для размножения, но и для развлечения. То же делают мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, дети, слуги, фермеры и путешественники, моряки и швеи, а иногда даже законные супруги! Как Альма только что убедилась в переплетной, этим можно заниматься даже самим с собой. С тонким слоем орехового масла или без.
Интересно, а другие это делают? Не только гимнастические трюки с проникновением – ласкают ли они себя, когда никто не видит? Автор Cum Grano Salis писал, что многие этим занимаются – если верить его словам и опыту, даже леди благородного происхождения. А Пруденс? Делает ли она так? Знакомы ли ей влажные лепестки, огненный вихрь и вспышка яркого света? Представить такое было невозможно, ведь Пруденс, кажется, даже не потела. У Пруденс по лицу трудно было понять, что она чувствует, не говоря уж о том, чтобы догадаться, что прячется у нее под одеждой или таится в голове.
А Артур Диксон, учитель? Мелькает ли в его голове что-то, помимо скучной учебы? Способно ли его тело на что-то, кроме тика и беспрестанного сухого кашля? Она уставилась на Артура, выискивая в нем какие-нибудь признаки сексуальной жизни, но в его фигуре и лице ничего такого не было. Альма представить не могла его трепещущим в экстазе вроде того, что только что испытала в переплетной. Она с трудом представляла его лежащим и уж точно не могла вообразить его без одежды! Этот человек как будто уже родился, сидя на стуле, в застегнутом на все пуговицы жилете и шерстяных бриджах, с толстой книжкой в руках и несчастными вздохами на устах. Если у него есть позывы, где и когда он им предается?
Альма вдруг почувствовала прикосновение прохладной руки. Рука принадлежала ее матери.
– А ты что думаешь, Альма, о трудах профессора Стакхауса?
Беатрикс знала, что Альма не слушала. Откуда она узнала? Что еще ей известно? Альма быстро собралась и мысленно вернулась к началу ужина, пытаясь вспомнить те несколько фраз, что все-таки не пролетели мимо ее ушей. И ничего не вспомнила, что было ей крайне несвойственно. Откашлявшись, она проговорила:
– Мне бы хотелось прочесть книгу профессора Стакхауса целиком, прежде чем выступать с какими-либо суждениями.
Беатрикс резко взглянула на дочь, ее взгляд был удивленным, критичным и недовольным.
Однако профессор Стакхаус воспринял замечание Альмы как приглашение продолжать – на самом деле он попросту принялся пересказывать присутствующим за столом дамам почти всю первую главу своей книги по памяти. Обычно Генри Уиттакер не допускал подобных проявлений занудства в своей гостиной, но по его лицу Альма поняла, что отец устал и обессилен и, видимо, находится на пороге одного из своих приступов. Надвигающийся приступ болезни был единственным, что могло заставить отца притихнуть, как сейчас. Если Альма угадала правильно – а она прекрасно знала отца и ошибиться не могла, – завтра он уже не сможет встать с кровати и, скорее всего, пролежит всю неделю. Пока же терпеть занудные разглагольствования профессора Генри помогал кларет, который он щедро себе подливал; кроме того, он подолгу сидел с закрытыми глазами.
Альма тем временем пристально изучала Джорджа Хоукса, издателя книг по ботанике: а он, интересно, этим занимается? Гладит себя, чтобы достичь пика наслаждения? Автор Cum Grano Salis писал, что мужчины занимаются онанизмом еще чаще женщин. По его словам, молодой, здоровый и активный юноша способен был довести себя до эякуляции несколько раз в день. Джорджа Хоукса трудно было назвать активным, но он был молод, обладал большим, тяжелым телом и потел – его тело, по крайней мере, было на что-то способно. Занимался ли этим Джордж недавно, может, даже сегодня? А что сейчас происходит с его членом? Лежит ли он себе спокойно? Или его вот-вот охватит желание?
И тут вдруг случилась самая невероятная вещь.
Пруденс Уиттакер заговорила.
– Прошу прощения, сэр, – сказала она, обращаясь к профессору Стакхаусу и устремив на него свой кроткий взгляд, – коль скоро я поняла вас правильно, вам удалось определить, что разная текстура человеческого волоса свидетельствует о том, что негры, индейцы, азиаты и белые относятся к разным видам. Но ваше предположение, признаться, вызывает у меня сомнения. В этом самом поместье, сэр, мы разводим несколько разновидностей овец. Вероятно, вы видели их, когда ехали по дороге нынче вечером. У некоторых наших овец шерсть шелковистая, у других – грубая, а есть те, что покрыты густыми курчавыми завитками. Но, сэр, вы никогда не усомнились бы в том, что перед вами овцы, невзирая на эту разницу. И прошу меня простить, но мне также кажется, что эти породы овец вполне успешно скрещиваются. Не то же ли самое с людьми? Разве подобный аргумент не является основанием полагать, что негры, индейцы, азиаты и белые представляют собой один вид?
Все взоры устремились на Пруденс. Альме показалось, будто ее, сонную, облили ледяной водой. Генри открыл глаза. Он поставил фужер и сел прямо, весь внимание. Сторонний вряд ли бы заметил, но и Беатрикс чуть выпрямилась на своем стуле, точно приготовилась слушать более внимательно. Артур Диксон, учитель, взглянул на Пруденс, встревоженно округлив глаза, а затем немедленно стал нервно озираться, словно в этой внезапной вспышке могли обвинить его. И действительно, было чему удивляться. Ведь это была самая длинная речь, которую когда-либо произносила Пруденс, и не только за обеденным столом, но вообще.
К сожалению, Альма не следила за беседой и потому не знала в точности, было ли утверждение Пруденс верным и относящимся к делу, – но, Господи Иисусе, она заговорила! Все были поражены, за исключением самой Пруденс, глядевшей на профессора Стакхауса с обычной своей прелестной невозмутимостью, как ни в чем не бывало, широко раскрыв ясные голубые глаза и ожидая ответа. Как будто каждый день ей приходилось спорить с важными лекторами из Принстона.
– Нельзя сравнивать людей и овец, юная леди, – возразил профессор Стакхаус. – Лишь на том основании, что животных можно скрестить… хм… если ваш отец позволит поднять эту тему в присутствии дам… – Генри, который теперь слушал довольно внимательно, махнул рукой в знак одобрения, повелевая профессору продолжать. – Одно лишь то, что животных можно скрестить, не означает их принадлежность к одному виду. Как вы наверняка знаете, лошади скрещиваются с ослами. То же касается канареек и зябликов, петухов и куропаток и козлов с овцами. Что не делает эти виды биологически эквивалентными друг другу! Кроме того, доподлинно известно, что у негров живут иные разновидности волосяных вшей и кишечных паразитов, чем у белых, и это, бесспорно, свидетельствует о том, что речь идет о двух разных видах.
Пруденс вежливо кивнула гостю.
– Я была неправа, сэр, – проговорила она. – Молю вас, продолжайте.
Альма по-прежнему не могла раскрыть рта и пребывала в недоумении. Зачем они завели этот разговор о размножении? И почему именно сегодня?
– В то время как разница между расами очевидна даже ребенку, – продолжал профессор Стакхаус, – в превосходстве белой расы не усомнится никто, у кого имеются малейшие познания в истории и происхождении человека. Мы, тевтоны, унаследовали от павшей Римской империи бесценный дар цивилизации и вскоре нашли приют в христианстве. В результате наша раса почитает добродетель, здоровые устои, бережливость и мораль. Мы способны владеть нашими страстями. И потому мы – лидеры. Другие расы отстали от цивилизации и никогда бы не пришли к таким передовым изобретениям, как валюта, алфавит и промышленное производство. Но нет расы более беспомощной, чем негры. У негров чрезмерно развита эмоциональная сфера, что приводит к печально известному у них отсутствию самоконтроля. Подобное преобладание чувственности отражается в строении лица. Слишком крупные глаза, губы, нос и уши – все это свидетельствует о том, что негры бессильны перед наплывом ощущений. Это делает их способными на самую нежную привязанность, но и на худшее из насильственных преступлений. Нравственная осознанность данного вида представляется слабой и замутненной. Кроме того, негры не умеют краснеть, и, следовательно, они неспособны испытывать стыд.
При одном упоминании слов «краснеть» и «стыд» Альма сама покраснела от стыда. Сегодня вечером она полностью утратила контроль над своими чувствами. Джордж Хоукс снова улыбнулся ей с теплотой и симпатией, и она покраснела сильнее. Беатрикс бросила на нее взгляд, полный такого испепеляющего презрения, что Альма на мгновение испугалась, что мать отвесит ей оплеуху. На самом деле ей даже хотелось, чтобы кто-нибудь отвесил ей оплеуху, лишь бы в голове прояснилось.
Тут Пруденс – о чудо! – заговорила снова.
– Но все же интересно, – промолвила она спокойным, бесстрастным тоном, – будет ли самый мудрый из негров превосходить интеллектом самого глупого из белых? Я спрашиваю об этом, профессор Стакхаус, лишь потому, что в прошлом году наш учитель, мистер Диксон, поведал нам о карнавале, свидетелем которого однажды был. Там ему повстречался бывший раб по имени мистер Фуллер из Мэриленда, известный своей быстротой мышления. По словам мистера Диксона, стоило назвать этому негру дату и час своего рождения, и он мог тут же вычислить, сколько секунд вы провели на этом свете, сэр, с учетом високосных лет. Несомненно, это была чрезвычайно впечатляющая демонстрация его возможностей.
Артур Диксон, казалось, готов был упасть в обморок.
Профессор, уже не скрывавший своего раздражения, ответил:
– Юная леди, на карнавалах я встречал и мулов, которые умели считать.
– Я тоже, – отвечала Пруденс тем же бесцветным, ровным тоном. – Но мне еще не приходилось встречать мула, который считал бы с учетом високосных лет.
– Как скажете, – проговорил профессор, удостоив Пруденс раздраженного кивка. – В ответ на ваш вопрос замечу, что идиоты и чрезмерно одаренные встречаются среди представителей любого вида. Однако ни то, ни другое не является нормой. Я уже много лет коллекционирую черепа белых и негров и провожу замеры, и на данный момент мои исследования, без всяких сомнений, указывают на то, что череп белого человека, наполненный водой, вмешает в среднем на четыре унции больше жидкости, чем череп негра, что является свидетельством интеллектуального превосходства.
– Но мне все же интересно, – мягко заметила Пруденс, – что случилось бы, попытайся вы влить знания в череп живого негра вместо того, чтобы лить воду в череп мертвого?
За столом повисла напряженная тишина. Джордж Хоукс, издатель книг по ботанике, сегодня еще ни разу не заговорил, а уж теперь, видимо, и подавно не собирался. Артур Диксон прикинулся мертвым, что вышло у него очень похоже. Физиономия профессора Стакхауса окрасилась в неподражаемый фиолетовый оттенок. Пруденс же, выглядевшая, как обычно, безупречной фарфоровой куколкой, невинно ждала ответа. Генри Уиттакер смотрел на приемную дочь с выражением, чем-то напоминавшим восхищение, но по какой-то причине предпочел молчать – возможно, он слишком неважно себя чувствовал, чтобы вступать в прямой конфликт, а может, ему просто было любопытно, куда заведет эта крайне неожиданная беседа. Альма также не проронила ни слова. По правде говоря, ей было нечего добавить. Никогда еще у нее не было так мало слов, а Пруденс, напротив, никогда не была столь красноречива. Поэтому ответственность восстановить беседу за обеденным столом пала на Беатрикс, и та сделала это с типичным для голландки несгибаемым чувством долга.
– Профессор Стакхаус, – проговорила она, – я с огромным интересом взглянула бы на те исследования, о которых вы упомянули ранее, – о различных разновидностях волосяных вшей и кишечных паразитов, выбирающих своими жертвами негроидов и белых. Возможно, они у вас с собой? Я бы с удовольствием их полистала. Я нахожу паразитарную биологию весьма занимательной.
– Самих работ у меня с собой нет, – отвечал профессор, к которому медленно возвращалось чувство собственного достоинства, – но они мне и не нужны. Документальные свидетельства в данном случае излишни. То, что на негроидах и белых паразитируют разные виды волосяных вшей и глистов, – хорошо известный факт.
Тут присутствующие почти что не поверили своим ушам, потому что Пруденс заговорила снова.
– Какая жалость, – пробормотала она тихим голосом, от звука которого на Альму повеяло холодом, будто она дотронулась до мрамора. – Прошу простить меня, сэр, но в нашем доме нам никогда не позволяют довольствоваться чьими-либо заверениями в том, что факт, как вы говорите, «хорошо известен», в отсутствие подтверждающей документации.
Тут, несмотря на боль и усталость, Генри Уиттакер расхохотался.
– И это, сэр, – прогремел он, обращаясь к профессору, – хорошо известный факт!
Беатрикс как ни в чем не бывало повернулась к дворецкому и провозгласила:
– Пожалуй, уже время подавать десерт.
* * *
Гости должны были остаться на ночь, но профессор Стакхаус был столь смущен и раздосадован случившимся за ужином, что решил вернуться в карете в город, объявив, что предпочел бы переночевать в отеле в центре Филадельфии, чтобы пуститься в нелегкий обратный путь до Принстона уже завтра на рассвете. Никто не расстроился, что он уехал, но Беатрикс, по крайней мере, распрощалась с ним с величайшей учтивостью. Джордж Хоукс попросил у профессора Стакхауса позволения доехать в его карете до центра Филадельфии, и великий ученый неохотно согласился. Но перед отъездом Джордж попросил разрешения ненадолго остаться наедине с Альмой и Пруденс. За весь вечер он не произнес почти ни слова, но теперь хотел что-то сказать, причем обеим девушкам. И вот они втроем – Альма, Пруденс и Джордж – удалились в гостиную, пока остальные суетились в атриуме, забирая плащи и коробки.
Дождавшись загадочного и едва заметного кивка от Пруденс, Джордж обратился к Альме.
– Мисс Уиттакер, – промолвил он, – ваша сестра поведала мне, что исключительно ради удовлетворения собственного любопытства вы написали весьма интересный труд о подъельниках. Если вы не слишком устали сегодня, не соизволите ли поделиться со мной своими основными находками?
Альма опешила. Что за странная просьба, да и еще в такой час?
– Вы, должно быть, сами слишком устали, чтобы слушать о моем увлечении ботаникой в столь поздний час? – спросила она.
– Вовсе нет, мисс Уиттакер, – отвечал Джордж. – С радостью послушаю. Напротив, такие разговоры меня расслабляют.
С этими словами Альма и сама расслабилась. Наконец-то простая тема! Наконец разговор о ботанике!
– Что ж, мистер Хоукс, – начала она, – как вы наверняка знаете, подъельник обыкновенный, он же Monotropa hypopitys, произрастает лишь в тени и окрашен в неприятно белый цвет, почти потусторонне белый. Прежде натуралисты всегда считали, что подъельник лишен пигментации из-за отсутствия солнечного света в своей среде, однако эта теория представляется мне бессмысленной, ведь в тени также можно обнаружить самые яркие оттенки зелени, например у папоротников и мхов. Кроме того, в своих исследованиях я обнаружила, что подъельники тянутся к солнцу, но клонятся в противоположную сторону, и это навело меня на мысль, что, возможно, это растение вовсе не питается солнечными лучами, а берет пищу из другого источника. И я пришла к выводу, что подъельники живут за счет видов, рядом с которыми произрастают. Другими словами, я считаю подъельник растением-паразитом.
– Что возвращает нас к теме, которая нынче уже обсуждалась, – с легкой улыбкой заметил Джордж.
Боже правый, Джордж Хоукс шутит! Альма не знала, что он на такое способен, но, поняв его шутку, восторженно рассмеялась. Пруденс не смеялась, она просто сидела, глядя на них двоих, красивая и далекая, как картинка.
– Да, пожалуй! – воодушевленно отвечала Альма. – Но, в отличие от профессора Стакхауса и его волосяных вшей, у меня есть документальное подтверждение. Разглядывая подъельник под микроскопом, я заметила, что в его стебле отсутствуют кутикулярные поры, при помощи которых воздух и вода обычно проникают в другие растения; кроме того, у него, видимо, нет механизма извлечения влаги из почвы. Полагаю, Monotropa берет питание и влагу у растения-хозяина. А трупная бледность Monotropa объясняется тем, что этот вид употребляет пищу, которая уже была переварена организмом, на котором он паразитирует.
– Совершенно поразительная теория, – сказал Джордж Хоукс.
– На данный момент это всего лишь теория. Возможно, однажды химики сумеют доказать то, что мой микроскоп пока лишь предполагает.
– Не могли бы вы показать мне свой труд на этой неделе? – спросил Джордж. – Я бы хотел обдумать возможность его публикации.
Альму настолько пленило это неожиданное предложение (и так она была взбудоражена событиями сегодняшнего дня и взволнована тем, что говорит напрямую со взрослым мужчиной, с которым связаны были ее мысли), что она даже не обратила внимания на то, что во всей этой беседе был один крайне странный элемент, а именно присутствие ее сестры Пруденс. Зачем она вообще здесь? Почему Джордж Хоукс дожидался ее кивка, чтобы начать говорить? И когда – в какой неизвестный момент ранее сегодня вечером – у Пруденс была возможность поговорить с Джорджем Хоуксом о частных ботанических изысканиях Альмы?
В любой другой вечер вопросы эти поселились бы у Альмы в голове и терзали бы ее любопытство, однако сегодня она от них отмахнулась. Сегодня, в завершение самого странного и безумного дня ее жизни, в уме Альмы вертелось и прыгало столько других мыслей, что она все эти знаки просмотрела. Сбитая с толку, уставшая, со слегка кружившейся головой, она пожелала Джорджу Хоуксу спокойной ночи и села в гостиной с сестрой в ожидании, когда придет Беатрикс и устроит им выговор.
При одной мысли о Беатрикс эйфория Альмы слегка пошла на спад. Ежедневное перечисление изъянов своих дочерей, которое устраивала им Беатрикс, никогда не приносило ей удовольствия, но сегодня Альма страшилась ее нотаций больше обычного. В тот день она сделала столько всего такого (нашла книгу, испытала сексуальное возбуждение и в одиночку предалась страстям в переплетной), что ей казалось, будто у нее на лице написано, до чего ей стыдно. Она боялась, что Беатрикс все почувствует. Вдобавок сегодняшняя застольная беседа обернулась катастрофой: Альма выглядела откровенной тупицей, а Пруденс – беспрецедентный случай – почти нагрубила гостю. Беатрикс ими обеими будет недовольна.
Альма и Пруденс ждали мать в гостиной, тихие, как монашки. Оставаясь вдвоем, девушки всегда молчали. Им ни разу не удалось найти приятную и легкую тему для беседы. Они никогда не болтали по пустякам. Так будет всю жизнь. Пруденс сидела тихо, сложив руки, а Альма теребила край платка. Альма взглянула на Пруденс, выискивая что-то в ее лице – что именно, она не знала. Дружеские чувства, наверное. Теплоту. Что-нибудь, что бы их сблизило. Возможно, общее воспоминание о событиях сегодняшнего вечера. Но Пруденс, как всегда, холодно блистала своей неземной красотой, не располагая к задушевному общению. Несмотря на это, Альма внезапно нарушила тишину, позволив откровенному неосторожному вопросу сорваться с губ.
– Пруденс, – спросила она, – а какого ты мнения о мистере Джордже Хоуксе?
– По-моему, он порядочный джентльмен, – отвечала Пруденс.
– А мне кажется, я отчаянно в него влюблена! – выпалила Альма, шокировав даже себя этим абсурдным неожиданным признанием.
Но не успела Пруденс ответить – если бы, конечно, она вообще собиралась отвечать, – как в комнату вошла Беатрикс и смерила взглядом дочерей, сидящих на диване. Долгое время Беатрикс молчала. Она стояла, пригвоздив девушек к полу суровым немигающим взглядом и изучая сперва одну, потом другую. Это напугало Альму сильнее, чем все когда-либо прочитанные ей нотации, ибо молчание таило безграничные и ужасающие последствия – одному Богу было известно, что знает Беатрикс. Она обо всем может догадываться и все знать. Альма растерзала край платка в бахрому. Пруденс же как сидела, так и осталась сидеть.
– Я сегодня устала, – произнесла Беатрикс, наконец нарушив зловещую тишину. – У меня нет сил, Альма, говорить о твоих недостатках. Это лишь ухудшит мое состояние. Скажу одно: если я еще хоть раз увижу, как ты сидишь за столом разинув рот и витаешь в облаках, как сегодня, ты будешь ужинать в другом месте.
– Но мама… – начала Альма.
– Не оправдывайся, дочь. Это жалко выглядит.
Беатрикс повернулась к двери, чтобы выйти из комнаты, но затем взглянула на Пруденс, словно только что вспомнив о чем-то важном.
– Пруденс, – проговорила она, – сегодня ты была великолепна.
Это было совершенно из ряда вон. Беатрикс никогда их не хвалила. С другой стороны, сегодняшний день весь был из ряда вон. Потрясенная Альма снова повернулась к Пруденс и опять попыталась разглядеть что-то в ее лице. Понимание? Сочувствие? Они могли хотя бы удивленно переглянуться. Но лицо Пруденс ничего не выражало, и на Альму она не посмотрела. Тогда Альма прекратила попытки. Она встала с дивана, взяла свечу и шаль и направилась к лестнице. Но у нижней ступени повернулась к Пруденс и снова сама себя удивила.
– Спокойной ночи, сестренка, – сказала она. Раньше она никогда ее так не называла.
– И тебе. – Это было единственное, что промолвила Пруденс в ответ.
16
Гай Валерий Катулл (ок. 87–54 до н. э.) – один из наиболее известных древнеримских поэтов, главный представитель римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря.