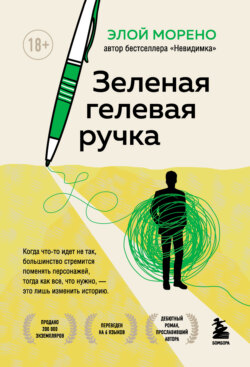Читать книгу Зеленая гелевая ручка - Элой Морено - Страница 3
Сокровище
ОглавлениеСпустя почти две недели напряженной работы, стимулом которой в основном были призрачные мечты, мы надеялись, что наконец-то все закончится. Все прошлое лето мы провели в размышлениях о том, что нам просто необходимо построить дом, где можно было бы укрыться от палящих лучей кастильского солнца – это убежище защитило бы тех, кто, приехав с побережья, так и не смог привыкнуть к зною и засухе.
Мы могли бы подождать, пока день не начнет постепенно уступать место вечеру. Но сейчас, оглядываясь назад, я не знаю, изменило бы это хоть как-то последующие события. Время летело слишком быстро, а в нашем распоряжении был только август.
К работе в тот день мы приступили рано. Едва успев проглотить десерт, мы вскочили из-за стола и буквально одним прыжком преодолели длинный коридор, отделявший маленькую столовую от большой кухни: просторной, с холодильником и встроенной морозильной камерой вверху, с подключенными к газовому баллону духовкой и варочной панелью, с изобилием желтого мрамора, с двумя стульями с плетеными сиденьями и деревянными спинками и загнанным в самый угол столом, над которым вот уже много лет висел один и тот же календарь: молодая (хотя, может, и не очень) барышня в синем комбинезоне, чью пышную грудь украшало ожерелье из масляных пятен – «Мастерские Гарриго, 1981 год».
За кухонной дверью с занавеской из стеклянных бусин скрывалась вытянутая и довольно узкая галерея. Потребовалось всего четыре шага, чтобы преодолеть ее и оказаться перед крутой лестницей с потрескавшимися ступенями и ржавыми перилами, ведущей прямиком во двор.
Двор не просто большой, а по-настоящему огромный. Прямоугольный ковер из земли с небольшим бассейном и половиной баскетбольной площадки слева и двумя огромными створками от ворот вдалеке справа. Там же, справа, на заднем плане был и уголок, где мы трудились уже столько дней.
Тот вечер пятницы – впрочем, как и все остальные дни – казался нам спокойным, будто разморенным августовским зноем. На небе, таком чистом и безоблачном, не было ничего, что могло бы хоть как-то преградить путь солнечным лучам, обжигающим землю, по которой мы ступали. Ветер ни на миллиметр не сдвинул флюгер, который мы прикрепили на верхушку единственного во дворе дерева. Тишина была настолько напряженной, что буквально звенела в ушах.
Мы начали готовиться к очередному тяжелому рабочему дню – последнему, если все пойдет как надо. Тогда мы еще не знали, что он станет последним потому, что все пойдет не так. Мы поставили наши плетеные табуреты рядом с высокой каменной стеной, под небольшую полоску тени, что с трех часов всегда становилась шире. Мы распределили работу, чтобы снова достать все необходимое: старую красную ручную пилу, которая уже толком-то и не пилила, ящик с инструментами, полный гвоздей, винтов и гаек, два молотка, пожелтевшие плоскогубцы и несколько отверток, которые мы постоянно теряли.
Далее мы приступили к работе, даже не подозревая, что всего через пару часов этот тихий августовский день восстанет против нас.
* * *
Наш уголок, где мы встречались каждый день, из обычного закутка для детских игр превратился в самый настоящий тайник фантазий. Это было такое место, где, кроме кирпича, дерева, черепицы и всякого металлолома, можно было спрятать секреты, мысли и разговоры, которыми в те годы мы вряд ли стали бы делиться с кем-то еще.
На протяжении своей жизни я побывал во многих местах – и даже в углах, – но ни в одном из них я так и не смог отыскать того, что осталось там, у нас, много лет назад.
Мы были загнаны в угол с самого начала поджимавшим временем, безмолвно предвещающим конец работы и конец каждому последующему лету, проведенному вместе. Мы пережили дни проектирования, рисования эскизов, укладки кирпичей, тяжелые моменты, связанные с выравниванием стен и спасением дверного проема от заваливания в сторону. Все эти дни, с их минутами и часами, радостями и жаркими спорами, остались давно позади. И вот теперь наступил самый важный день: нам осталось возвести крышу.
Утро той пятницы мы посвятили доскам: из десятков мы отобрали лишь восемь или девять, но этого было достаточно. По четыре на брата – такой был расклад: сначала Тони, потом я, снова он, а затем опять я. И вот, едва удерживая равновесие на раскачивающейся от каждого прикосновения постройке, мы все разложили по своим местам.
Днем мы приступили к поиску целой черепицы. Это было не просто, почти вся она была побита. Прошло больше часа, прежде чем мы отобрали всего штук двадцать. Каждую мы тщательно протирали тряпкой, приводя тем самым в бешенство облепивших поверхность уховерток, большинство из которых, пускаясь в бегство, заползали прямо на руки.
С хладнокровием хирурга мы разложили черепицу сверху на слабой и плохо закрепленной деревянной конструкции, которая от слишком большой нагрузки могла бы в одночасье рухнуть. В голову даже не пришло собрать крышу под небольшим уклоном, да и большой необходимости в этом не было – летние дожди здесь были большой редкостью.
Было почти пять вечера, когда мы положили последнюю черепицу: работа была завершена.
Тишина. Это была минута ликования, наша награда. Долгое, радостное, понятное только нам двоим молчание, одно из тех воспоминаний, которое никогда не стирается из памяти. Непередаваемое и, в конце концов, громогласное молчание. Между нами была лишь тишина. И это полное отсутствие звуков стало началом конца.
На наш взгляд, постройка была произведением искусства: около двух метров в ширину, метра три в длину и почти два метра в высоту. Все – кирпичи, дерево, черепица – было скреплено между собой лишь мечтами и огромным желанием. Желанием и ничем другим.
Ни одному из нас не приходило в голову, что легкое дуновение ветерка может заставить эту конструкцию упасть, сложиться как карточный домик. Ни одного из нас не осенило, что все это слишком напоминает домик одного из трех сказочных поросят. Но ведь в двенадцать лет существует так много вещей, которые просто не приходят в голову.
* * *
Летние каникулы всегда были особенными хотя бы потому, что они были в разы продолжительней каникул на Рождество и Пасху. Мы почти три месяца не ходили в школу, что казалось нам целой вечностью. Но несмотря на все, несмотря на радость и свободу, которую дарили нам летние каникулы, в этот раз начиная с третьей недели августа они окончательно и бесповоротно взяли совершенно новый для нас курс.
Каникулы в деревне официально начинались в конце июля. Ритуал, связанный с их наступлением, не менялся из года в год: мы вставали спозаранку, завтракали и, окрыленные мечтами и надеждами, неслись, как орда варваров, в коридор, чтобы отец подобно носильщику перетаскал нас всех вместе с вещами по очереди в старый фургон. Через несколько минут машина отправлялась в путь, загруженная под завязку всем, что только может понадобиться семье, планирующей провести целый месяц отпуска в деревне. Многочисленные сумки с едой – консервами, молоком и тем, что может храниться больше недели; различные игрушки, книжки, набитые одеждой чемоданы, где умещались и вещи с длинными рукавами, и вещи с короткими рукавами, и плавки-купальники, и бесчисленная обувь, и спортивная, и нарядная, и теплая одежда – поди знай, какие сюрпризы тебя поджидают в деревне.
И вот, со всем этим добром, максимально разгоняясь с горы, чтобы как можно проще было потом подниматься в гору, мы мчались вдаль на нашем старом бордовом фургоне за основой для будущего сочинения на тему «Как я провел это лето».
– Долго еще ехать? – осторожно спросил я у мамы, которая постоянно посасывала дольку лимона для облегчения приступов головокружения и тошноты, в то время как моя сестра то и дело просила остановить машину, чтобы выйти в туалет.
– Мы уже проехали двух быков, так что остался только один… Как только его увидишь, значит, мы приехали, – ответила мама, снова скорчив такую гримасу, что мы не могли не рассмеяться.
От нашего дома до деревни – тогда я измерял путешествия на большие расстояния только так – было ровно три быка. Три гигантских и черных быка разбивали линию горизонта где-то там, вдалеке, помогали не сбиться с пути и будто приглашали следовать за ними. Этих быков я высматривал все оставшееся время на бесконечных равнинах, покрытых коричнево-шафрановым ковром и превращающих просторы Ла-Манча в нечто совершенно уникальное. Время от времени мой взор запутывался в выстроившихся вдоль дороги подсолнухах, раскачивающихся под единообразную мелодию какого-то заученного танца, как и большинство людей, которых я знаю. Более ста раз я наблюдал за ними, но так и не смог разгадать смысла их движений: мне всегда казалось, будто они засыпают и в этом полусонном состоянии вот-вот упадут на землю.
И внезапно в какой-то затерянной точке нашего длинного путешествия оно вдруг снова возникало перед моими глазами – черное пятно в веренице воспоминаний. Пятно, которое при приближении обретало очертания быка. Пятно, которое то появлялось, то вновь ускользало от меня… оставалось подождать немного.
Мой пристальный взгляд то начинал цепляться за дорогу, то устремлялся куда-то ввысь. От него уже не могли спрятаться верхушки домов той самой деревни, где мы собирались провести лето вместе. В последний раз.
* * *
Каждое лето первые два дня каникул начинались с беспощадной борьбы с сорняками и чертополохом, которые, пользуясь нашим отсутствием, покрывали полутораметровой мантией весь двор. Работа эта была непростая: одна из тех, что «убивает спину», как говаривал отец.
Вечером второго дня – не помню, чтобы это когда-то длилось дольше – мы, как правило, в одностороннем порядке решали, что с обязательной частью летней программы нужно кончать.
И вот, собрав все сорняки, чертополох и ненужные бумажки в одну кучу прямо посреди огромного двора, мы разжигали наш особый костер.
Возле костра тут же собиралась разношерстная толпа. Уставшие или только притворяющиеся таковыми дети сидели прямо на земле, с удовольствием уплетая хлеб с шоколадной пастой. Рядом стояла мама, протягивая к огню свои руки. Отец, прислонившись к каменной стене, с наслаждением потягивал сигарету. С галереи бабушка зачарованно наблюдала сразу за всей семьей, как это могут делать только пожилые люди. И дедушка… дедушка, который всегда был занят каким-то другими, «своими» делами.
Остатки костра неспешно догорали, и лишь легкая серая дымка, рассеивающаяся высоко в небе, возвещала о том, что наши каникулы начались.
По вечерам, пользуясь небольшой передышкой от жары, доступной только за городом, мы одевались во все нарядное и отправлялись на прогулку по Риато. Широкая улица, разительно контрастирующая с остальными закоулками деревни, напоминала собой идеально прямую линию с деревьями, уличными фонарями и деревянными скамейками вдоль нее. Это был настоящий деревенский проспект, где бары и ресторанчики с их жареной картошкой, каракатицами и мясными закусками вдыхали новую жизнь в деревню, пробуждающуюся после зимней спячки.
Именно в августе отмечали день покровителя деревни. Это было настоящее празднование с традиционными костюмами, сплетнями местных старух и гуляниями до самого утра воскресенья – в ближайшей пекарне в это время можно было купить только что приготовленные чуррос. Свои двери распахивал единственный в деревне кинотеатр, предлагающий к просмотру фильмы, премьеры которых отгремели в столице еще несколько месяцев назад. В дни последнего летнего месяца улицы оглушал непрерывный рев мотоциклов, а люди проводили все свое время в бильярдной, играя ночи напролет и иногда позволяя себе романтические начертания мелками собственных инициалов, между заглавными буквами которых красовалась огромная «И».
Район Карраскаль, готовящийся вот-вот превратиться в парк с многочисленными скамейками, горками, качелями из колес от грузовиков, выбритыми газонами, а также киоском с различными безделушками, был немым свидетелем летних романов, встреч до раннего утра и неторопливых прогулок стариков, которые предусмотрительно предупреждали друг друга о том, что деревня уже не та, что прежде.
Я часто вспоминаю, что наша жизнь тогда проходила в состоянии какого-то неосознаваемого спокойствия. Дни сменялись один за другим без спешки и суеты, и любое упоминание о стрессе казалось лишь отголоском какого-то американского фильма. Когда наступало время послеобеденного отдыха – нам даже в голову не приходило устанавливать ему свой график – наше тело знало само, что делать и во сколько вставать. И не было никакой нужды в том, чтобы в спешке подскакивать с кровати по утрам. Спокойствие пронизывало нас до костей, когда по ночам, лежа в сырой траве и сминая в ладони только что сорванный пучок трав, мы смотрели в небо в ожидании падающей звезды, чтобы успеть загадать желание.
Думаю, я всегда просил о чем-то не том.
– Кто пойдет первым? – спросил я с волнением, как будто вопрос избавлял меня от необходимости сделать это.
– Давай ты, – ответил мне Тони.
Скорее со страхом, чем с надеждой, с опаской, нежели с предвкушением, я медленно вошел в нашу деревянно-кирпичную хижину с черепичной крышей.
Хотя я был и небольшого роста, но мне пришлось вползать: проем двери был слишком мал. По мере прохождения вглубь все больше ощущалась прохлада, которая после стольких часов работы под палящим солнцем была истинным утешением.
– Тони, заходи! – крикнул я, уже облюбовав местечко и расположившись поудобней.
И Тони вошел, тоже ползком, медленно и недоверчиво. Я заглянул в его напуганные глаза. Он тут же оживился, увидев меня, сидящего босиком, со скрещенными ногами, а затем осторожно уселся рядом со мной.
Какое-то время мы сидели молча, привыкая к внезапной темноте и к холодной земле, наслаждаясь результатом почти двухнедельной тяжелой работы.
Там, внутри, мы острее ощутили эту сильную признательность друг другу – братскую любовь, которая еще больше объединяла нас как друзей. Мне казалось, что это чувство будет жить вечно, что со временем оно только окрепнет и станет нерушимым, – так думал я. Как горько я ошибался.
Сидя там плечом к плечу, никто из нас даже не задумался о том, как в случае чего удержать эту махину. У нас появилось свое укромное место, где мы могли скрыться от обжигающих лучей солнца, и это было единственное, что имело значение. Мы создали этот угол своими руками и без помощи взрослых.
Мы даже представить себе не могли, что может случиться с нами в тот день. Мы и предположить не могли, насколько жестокими могут оказаться слова.
Никто не знает заранее, что в одночасье жизнь может перевернуться с ног на голову настолько резко, что все планы на текущий день, на следующий день и на все оставшееся лето могут буквально провалиться в пропасть.
В один из жарких августовских дней где-то в кастильских землях случилось именно это. Казалось, линия того дня уже была прочерчена на наших ладонях, но это был ничем не примечательный, самый обычный день, когда два мальчика играли во дворе, пока отец, все утро чинивший дом, дремал после обеда. Пока мама и бабушка суетились на кухне, смотря дежурный сериал и с удивлением обсуждая богатых, которые, оказывается, «тоже плачут». И пока дедушка праздно бродил по дому в поисках полезного для себя занятия или, проще говоря, отговорок. Этот прекрасный день, который должен был остаться совершенно незамеченным в череде других, вдруг взбунтовался против нас, подпрыгнул, как испуганный кот в темной комнате, и начал метаться из стороны в сторону словно крокодил, почувствовавший запах долгожданной крови и насилия.
Мы сидели вдвоем уже почти час, играя с песком, пропуская его между пальцами и ничего особенного не делая, и вдруг я услышал, как моя мама зовет нас.
– Полдник! Ребята, бегите полдничать! – прокричала она, как делала это всегда, когда обращалась к нам. – Ребята! – продолжала она настойчиво, что тоже было вполне нормальным для нее.
Мы могли бы просто взять и выйти, могли бы пойти на зовущий нас голос прямиком к галерее, ведущей наверх, и пополдничать вместе с остальными. Если бы мы продолжили скрывать существование нашей хижины, что с успехом делали до сих пор, возможно, нам и удалось бы провести судьбу за нос. Как знать, может, это все и изменило бы. Может, и не изменило бы ничего.
– Мам, сюда! – крикнул я, просунув голову в низкий дверной проем. – Мы здесь, в хижине, которую сами построили! – Моя главная ошибка была в том, что я забыл про причину, по которой мы молчали все это время о нашем строительстве.
Высунувшись наружу почти наполовину, я замахал рукой, предлагая маме подойти поближе. Я сделал это, движимый желанием ребенка доказать своей родительнице, что он сам вполне может ездить на велосипеде: «Мама-мама, посмотри на меня!» Сделал, движимый готовностью ребенка броситься с горки головою вниз, если только его родители смотрят на него в этот момент, или прыгнуть в глубокий бассейн со всего разбегу, даже если он не умеет плавать: «Мама, папа, посмотрите на меня!» Посмотрите, как я прыгаю на батуте, как сталкиваюсь с другими машинками на аттракционе, как я плаваю, как управляю воздушным змеем и как делаю «солнышко» на качелях. С этой неудержимой иллюзией, пульсирующей в голове, я позвал маму, чтобы она похвалила нас за хижину, но так и не получил ожидаемого.
Она слышала нас, но никак не могла понять, откуда доносятся голоса. Позвав нас еще два или три раза, она решила спуститься во двор и посмотреть, что происходит.
Ее тень медленно росла на каменной ограде, и я понял, что она приближается. Не дойдя примерно метров десять, она заметила меня – своего сына, наполовину торчащего из какого-то странного сооружения, чем-то отдаленно напоминающего маленькую хижину.
– Вылезайте оттуда! – крикнула она, оставаясь на месте. Крик, на тон выше ее обычного голоса, прозвучал скорее как угроза. – Немедленно вылезайте оттуда!
Что-то было не так, потому что в этом возгласе я точно уловил звенящие осколки страха. Сам не понимая почему, я вдруг резко занервничал. Упираясь коленями в землю, я торопливо пополз вперед, чтобы как можно быстрее выбраться из постройки, заставившей мою маму столь сильно разволноваться.
– Немедленно вылезайте! – она продолжала кричать, пока я пытался вылезти через темный и узкий проход, понимая, что нам обоим сильно влетит. Я уже почти выбрался наружу, но левая нога зацепилась за один из кирпичей, лежащих в основании входа – он определенно был очень мал.
Моя мама кричала и приближалась к хижине. Или она приближалась и кричала при этом. Я уже ничего не понимал. Я помню только, что ее движения заставляли меня нервничать еще больше. В тот момент я даже ни о чем не думал. Я просто хотел как можно быстрее вылезти наружу. Я не догадался отвести ногу в сторону хоть сантиметров на десять, а просто начал изо всех сил дергать ее вперед. Я не думал, что это может причинить мне боль. Я не думал, что это может причинить боль всем нам. Вот так, не раздумывая, одним рывком я выдернул застрявшую ногу, заметив небольшое расползающееся по коже пятно – это была кровь.
Та же сила, что позволила мне освободить ногу, сместила кирпич в основании хижины, сделав ее еще более неустойчивой. Даже не потребовалось ждать серого волка, который подует на домик. Было достаточно лишь обернуться, чтобы увидеть, как постройка рухнет в одночасье.
Одновременно воздух разрезало два крика: один накрыл меня волною страха, второй раздался за моей спиной. Сухой, приглушенный крик, но не боли – это пришло позже – а паники. Два крика и тишина, застывшая в облаке пыли.
В тот же миг, когда рухнула постройка, моя мать бросилась ко мне, схватила так сильно и обняла так крепко, сжала так неистово… что и сегодня, и каждый раз, когда я вспоминаю об этом, я чувствую, как ее ногти впиваются в мои голые руки. В тот день я открыл для себя самое безопасное место на свете – объятия перепуганной до смерти матери.
Я расплакался. Столько всего появилось в один миг: кровь на моей левой ноге, два этих одновременных крика, откуда-то возникшее чувство неопределенности, облако пыли, окутавшее все вокруг, и это странное ощущение, что лето закончилось…
Все происходящее после было похоже на крутящийся перед глазами калейдоскоп из образов, движений и звуков. Я помню, как мать оттолкнула меня в сторону с той же силой, почти безумным неистовством, с которым до этого схватила, чтобы обнять. Я помню глаза моего отца, прибежавшего на крики и бросившегося откапывать из-под завала Тони. Я помню безмолвную фразу «С тобой мы поговорим позже», явно читавшуюся в его перепуганном взгляде. Я помню туман, который периодически рассеивался. Помню, как хотел, чтобы он не исчезал никогда. И помню слезы на своих щеках…
* * *
Тони был единственным сыном Абатов – лучших друзей моих родителей. Анну и Хосе Антонио, любопытную пару, мне казалось, словно перенесли в реальную жизнь со страниц комиксов. Ее я запомнил очень стройной и высокой, чем-то похожей на Оливию, невесту моряка Попая. Он был больше похож на римского сенатора Брута, только с бородой, из-за которой почти никогда не было видно губ. Все четверо знали друг друга еще с детства, обычно в этот период зарождается самая крепкая дружба, которая с годами только крепнет. Их жизни, казалось, были написаны под копирку: обе пары познакомились в одно и то же время, обе поженились в одном и том же году, у обеих родились сыновья с разницей всего в несколько месяцев. Я был старше.
Дружба с Абатами была крепче любых семейных отношений. Это была дружба, наполненная субботними домашними посиделками, поездками выходных дней, часами, проведенными на пляже под зонтиком с полотенцами, переносными холодильниками и всеми мыслимыми и немыслимыми аксессуарами для комфортного отдыха, походами в горы, где можно было полюбоваться искрящимся на солнце снегом, лежащим в самых непредсказуемых уголках склонов. Это была настоящая дружба, в которой фразы «Ты посидишь сегодня с Тони, а завтра я заберу твоего?» и «Не представляешь, как ты меня выручил» были чем-то само собой разумеющимся.
Каждое лето первые две-три недели июля я проводил в доме Абатов, расположенном в Пиренеях в районе провинции Лерида, а в августе наступала очередь Тони приехать к нам на целый месяц в деревню.
Я с тоской вспоминаю горный дом – именно так я называл дом Абатов. На самом деле это был ансамбль из трех построек, который отец Тони купил за весьма доступные деньги.
Один из домов, наверняка он был самым главным, оказался самым запущенным. Четыре его полуразвалившиеся каменные стены с трудом удерживали удивительной красоты шиферную крышу, которая, несмотря на капризы погоды, чудом не обвалилась. Двери и окна дома были постоянно наглухо закрыты, и только одним летом нам удалось заглянуть внутрь. Измученный нашими вечными вопросами о том, что находится внутри старого дома, и вполне реальными страхами ночного странного шума, доносящегося оттуда, отец Тони однажды отвел нас туда. Мы должны были убедиться, что там не было никаких призраков, не было гигантских размеров хозяина дома, который выходил по ночам, чтобы зажечь фонари, и не было тайных животных, разговаривающих друг с другом. Действительно, там не было ничего. Это был самый обыкновенный дом, брошенный на произвол судьбы, почти без мебели и с растрескавшимся полом, сквозь щели которого пробивалась высокая трава. Дом будто говорил: «Однажды и я воскресну, как птица феникс».
Самый маленький дом, расположенный примерно в двадцати метрах от заброшенного, был заботливо восстановлен отцом Тони. Это лишний раз доказывало, что его родители обладали добротой и щедростью, которых я больше никогда и ни в ком не встречал. В доме была всего одна крохотная комната с двумя двухъярусными кроватями, несколькими одеялами и небольшим санузлом с душевой кабиной. Этого было вполне достаточно для любого покорителя вершин, которого неожиданно застала ночь в горах и который нуждался в убежище.
Ансамбль построек завершал дом, в котором Абаты сами жили на каникулах. На восстановление этой постройки ушло ровно три года. Три года, в которые отец Тони вложил буквально все: свое время, свои деньги и свои надежды. Красивейший дом, построенный из серого камня, благородно подчеркнутого окнами из красного дерева и шиферной крышей, располагался между горами. Он был двухэтажным. Внизу находилась просторная столовая с двумя большими диванами и ковром со странными узорами между ними. В одном конце комнаты стоял телевизор, в другом – камин, который нет-нет да озарял своим светом погруженное во мрак июльской ночи помещение. Столовую от соседней кухни отделяла дверь из закаленного стекла. Еще на первом этаже была небольшая ванная комната и комната с двумя кроватями, где спали мы с Тони. Ванную и нашу спальню разделял лестничный пролет, открывающий доступ на второй этаж, где находились остальные комнаты: спальня родителей Тони с отдельной ванной, а также спальня и ванная комната для гостей.
Я до сих пор прекрасно помню последний отрезок дороги, который вел к участку Абатов. Как только мы проезжали небольшую деревушку Эспот, мы тут же сворачивали в сторону и дальше ехали куда-то вдаль уже по грунтовой насыпи, идеально прямой и широкой линии, которой не было конца. Внедорожник Абатов проворно бежал вперед, оставляя за собой облако пыли, приводящее нас в полный восторг. Прильнув к стеклу, мы наблюдали за тем, как оно скрывает из виду огромные деревья, окружающие нас. Примерно минут через пятнадцать, согласно моим тогдашним детским подсчетам, мы подъезжали к какой-то плотине, огороженной металлическим забором. От нее широкая грунтовка уходила вверх, однако справа была видна еще одна дорога, уводящая в сторону спуска. Она была обозначена небольшим забором из толстых деревянных столбиков, выкрашенных в приглушенный красный цвет. Необычные столбики, как однажды объяснил нам отец Тони, были отмечены на всех старинных путеводителях по альпинизму этого региона и обозначали начало маршрута. Отец Тони решил сохранить историческую достопримечательность и каждый год в конце лета подкрашивал забор свежей краской.
Внедорожник едва помещался на узкой и извилистой каменистой тропе. Пока ветки деревьев хлестали по крыше и стеклам машины, нас бросало из стороны в сторону, это было жутко весело. Отец Тони крепко держал обеими руками руль и всячески пытался избежать острых камней и выступов на дороге, но мы то и дело слышали глухие удары по днищу автомобиля, что заставляло нас инстинктивно поднимать ноги вверх. К нашему огорчению и облегчению Анны, которая уже едва сдерживала приступы тошноты, всего за пять минут мы добирались до небольшой равнины, где нам и предстояло провести следующие две или три недели.
Участок был огорожен забором высотой всего в метр, который выполнял скорее эстетическую, нежели практическую функцию. Пройти на территорию можно было через одну из двух небольших калиток, возле каждой из которых висел уличный фонарь, по форме напоминавший тыкву. И это были не все фонари усадьбы – точно такие же можно было увидеть на крыльце каждого из трех домов, даже того, что был давно заброшен.
Иногда по вечерам, когда становилось уже совсем темно, мы уходили подальше от участка, устраивались под огромным деревом и из нашего убежища любовались созвездием из пяти тыквенных фонарей.
Вчетвером – а я всегда чувствовал себя одним из Абатов – мы ходили в горы с экскурсиями, которые включали в себя не только перекусы на природе шоколадом и содовой, но и посещение близлежащих деревень, поднимались на вершины и гуляли вокруг огромного озера.
Вечерами усталость от многочасовых прогулок по дорогам, тропам и горным закоулкам буквально валила нас с ног, и как только мы заходили в дом, тут же падали без сил на диваны. К счастью, рядом всегда был кто-то, кто следил за тем, чтобы наутро мы проснулись каждый в собственной постели.
Теперь, с моим заметно выступающим животом, который хоть и не выпячивается слишком сильно вперед, но все же не приносит мне ни грамма счастья, с моей коллекцией растяжек в области талии и дряблыми мышцами груди, которые скоро перестанут уступать в размере груди жены, я вспоминаю те годы с особой грустью. Я помню те времена, когда был юным и проворным, когда мы дни напролет покоряли горные вершины, играли в прятки среди деревьев, бросались сосновыми шишками по стеклянным бутылкам и изо всех сил крутили педали велосипеда, чтобы похвастаться новыми наклейками, прикрепленными к спицам колес. Сейчас я отказался даже от возможности снова пережить эти ощущения. Наверное, рано или поздно наступает возраст, когда кажется, что все летит под откос, когда знаешь, что жизнь уже начала распадаться на мельчайшие кусочки.
Хоть мы не были братьями по крови, мы считали себя братьями по жизни. Всякий раз, когда я думаю о своем детстве, он появляется в каждом воспоминании. Даже сегодня я знаю, что никогда и ни к кому в жизни больше не буду испытывать такой привязанности, как к нему.
Я всегда думал, что у нашей дружбы нет срока годности, что она будет длиться вечно, на протяжении многих лет… но именно годы покончили с ней. Каким-то образом мы пришли к тому, что, вопреки пережитому вместе, вопреки желанию прикрыть друг другу спину, вопреки смеху до боли в животе, никто не смог открыто и честно посмотреть в глаза другому.
Эта дружба между мной и Тони, дружба братьев, которые братьями не были, но по-другому и представить себя не могли, закончилась много лет назад. Какое-то время нас объединяла прежняя привязанность, а потом не осталось даже и ее. Сегодня мы просто знакомые, случайно встретившиеся в лифте, в офисе, в городе.
Спустя десять лет после того злополучного лета, когда наша студенческая жизнь как раз подходила к концу, в нас зародилась надежда. В это время у нас стали появляться общие друзья, мы пересекались на некоторых лекциях и иногда даже оставались вместе в библиотеке, чтобы позаниматься.
У нас появился второй шанс, чтобы исцелить отношения, которые уже тогда постепенно разъедала коррозия равнодушия. Какое-то время нам удавалось поддерживать огонек трепетной дружбы: воскресный поход в кино, прогулка на велосипедах по горным тропам, как это бывало когда-то в детстве, и те редкие моменты, когда наши взгляды с еще различимыми осколками братской любви, всегда объединявшей нас, вдруг пересекались, как в той, прежней жизни.
Несколько месяцев я жил, хотелось бы сказать «мы» жили, надеждой, что все еще можно вернуть, пусть и не в точности так, как было, но хотя бы спасти что-то лучшее между нами. Однако разбитую чашку уже не склеить, и судьба принялась за свое: безжалостно стала отдалять нас друг от друга. Когда воспоминания прошлого вдохнули новую жизнь в нашу дружбу, когда казалось, что Тони и я, я и Тони, вновь можем стать родными братьями, коими никогда не были, все снова пошло не так.
Все началось, как и тогда, в один прекрасный августовский день. Один из тех дней, которые мы обычно проводили с друзьями на пляже.
Мы грелись на солнце вот уже два часа, как неожиданно пришел Пабло вместе со своей невестой и еще одной девушкой, которую никто не знал.
– Ребята, привет! – сказал Пабло, подходя к нам.
– Привет! – отозвались мы в унисон, не отрывая ни на секунду взгляда от пришедшей вместе с ними незнакомки. Любопытство в нас перемежалось с удивлением и незнакомым до этих пор желанием.
– Это моя кузина Ребекка. Ее родители только-только переехали сюда жить, и она еще никого здесь не знает… – сообщил Пабло, раскладывая полотенце на песке.
– Всем привет! – послышался мягкий голос.
Все трое разделись до купальников и плавок. Мы с Тони перевернулись на животы и, пряча взгляды за солнечными очками, продолжали наблюдать за незнакомкой.
Ребекка была настоящей красавицей с голубыми глазами, густыми волосами цвета ванили и атлетическим телосложением. Не сказать, чтобы она была высокая или низкая, скорее, среднего роста. Мы были просто ошеломлены, когда она начала растирать солнцезащитный крем по всему телу. Она заметила, что мы наблюдаем за ней, – причем не только она, но и ее кузен, среагировавший недружелюбным взглядом, – и одарила нас улыбкой. Когда с растиранием кремом, наконец, было покончено, она улеглась на полотенце лицом вниз. В тот день она была в черном бикини, которое подчеркивало ее светлые волосы, хотя это было последнее, от чего мы никак не могли оторвать свои взгляды.
С тех пор Реби – так ее по-дружески все называли – стала одной из нашей компании, но не единственной в нашей жизни.
Если что-то и привлекало меня в ней больше, чем ее телосложение, так это неисчерпаемая энергия, какое-то неутолимое желание использовать каждое мгновение жизни, которую она будто заново открывала для себя. Каждое мгновение было для нее возможностью построить новые планы на будущее, она еще не проживала сегодняшний день до конца, а уже думала о дне завтрашнем. Это было время, когда Реби даже не хотела знать значение таких слов, как сон, покой или отдых.
Всего за несколько недель она смогла стать для всех хорошей подругой и обзавестись двумя преданными поклонниками: двумя братьями, которые братьями не были. Я прекрасно помню все эти глупые заигрывания, эти взгляды одного и другого, эти приятные моменты, когда можно было поболтать с ней. Я помню двух детей, которые, будучи уже совсем взрослыми, призывали: «Посмотри на меня, Реби. Посмотри, как я ныряю в бассейн головой вниз. Посмотри, как я могу стоять в воде на голове. Посмотри, как я похож на тебя, а он совсем нет. Посмотри на меня, Реби».
И это подростковое соперничество, дружеское поначалу, постепенно становилось враждебным. В конце концов оно образовало трещину в истории возрождающейся дружбы.
Пока еще не наступил тот день, когда Реби сделала свой выбор, своим решением поставив точку в наших с Тони отношениях. Навсегда.
* * *
Я лежал неподвижно, распластавшись на земле. Сквозь слезы, застилающие взгляд, я видел, как родители пытались отыскать под руинами хижины того, кто всего за несколько минут до этого помог мне ее достроить. Это были мгновения, когда мои мысли, подобно эквилибристу на тонкой проволоке, пытались поймать равновесие между реальностью и бессознательным состоянием.
Из-под завала вдруг появилась голова, перепачканная пылью, кирпичной крошкой и кровью. И прямо к этой голове был прибит кусок дерева: похоже, что мы пропустили один гвоздь, не удалив его из доски.
Кровь, как мне тогда показалось, литрами вытекала из его волос и, словно крошечная река, стекала по лбу. В районе носа она расходилась на два ручейка, стремительно бежавших вниз только для того, чтобы навсегда застыть на шее в области кадыка. Кровь, еще свежая, смешанная с землей, была размазана по всему лицу. Лицу Тони, которое я с трудом узнавал.
Его тело казалось неподвижным. Я посмотрел на его ноги. Они все были перепачканы в земле, как будто, пока я изо всех сил старался вытащить свою ногу, он, предвидя неизбежную катастрофу, также боролся и полз, чтобы как можно быстрее выбраться наружу.
Через несколько мгновений он начал издавать звуки, которые я не забуду никогда в жизни. Это были приглушенные стоны, похожие на грустное мяуканье умирающей кошки. В нем было желание человека, забывшего, как дышать, вдруг сделать глубокий вдох полной грудью. Как только Тони ожил, мой отец стремглав понесся к соседям – в нашем доме не было телефона, чтобы вызвать скорую помощь. Моя мать сидела рядом с ним, держа его за руку, пока он шептал ей на ухо о своих мечтах.
– Не переживай, мое солнышко, не переживай… Скорая вот-вот будет здесь.
Я никогда раньше не видел, чтобы она содрогалась вот так, всем телом, от непередаваемого страха, от безграничной тревоги. Она так крепко держала его за руку, что мне казалось, она ее сломает.
– Ты, главное, не двигайся, Тони. Потерпи еще немного, скоро все пройдет, ты только не шевелись, – шептала она испуганно, смахивая пыль с его ресниц и боясь задеть кусок деревяшки, которая все еще торчала из его головы. По лицу мамы текли слезы.
Но Тони и не двигался. Он продолжал лежать на коленях моей матери, изо всех сил пытаясь вернуть себе утраченное дыхание. Сквозь слезы я видел, как поднимается и опускается его грудная клетка. Я поднес руки к глазам, которые уже начали сильно болеть, и в этот момент вдруг почувствовал, как все закружилось и поплыло передо мной.
Я не смог удержать равновесие и упал.
* * *
Я проснулся весь мокрый в своей постели, в комнате, где мы жили с Тони вдвоем каждый август. Вокруг была кромешная темнота, как и в любую другую ночь. Я подумал, что мне приснился какой-то странный сон – закономерный результат странного дня. Я ощутил непередаваемое облегчение, огромное, почти эйфорическое. Слегка дрожащими от нервного потрясения руками я схватился за собственную голову, за собственную призрачную надежду. Это было лучшее мгновение за весь тот печальный август, когда я, все еще сбитый с толку, вдруг понял: кошмары иногда бывают настолько реальными, что организму требуется время, чтобы понять, что это был всего лишь дурной сон. На несколько минут я погрузился в осознание того, что, несмотря на сильный испуг, никто не упал с кровати, машина не разбилась, и она не сбежала с другим. Я сдался на милость самых страшных мгновений дурного сна: когда вы понимаете, что все уже случилось, но ничего из этого не происходило по-настоящему.
Так что на следующий день, на следующее утро, несмотря на то что мы делаем это тайком, вопреки всем страстям привидевшегося мне кошмара, мы с Тони продолжим собирать крышу. Главное, вытащить все гвозди из досок.
Мое тело продолжало пребывать в состоянии какого-то непонятного волнения. Я закрыл глаза, накрылся одеялом с головой и попытался снова заснуть.
Я уже почти заснул, как вдруг нервное напряжение уступило место легкому дискомфорту в левой ноге. Дискомфорту, который при движении превращался в боль. Острую боль. Боль, которая в считаные секунды разлетелась по всему телу, возвратив меня в реальность, суровую и жестокую реальность.
Я резко подскочил и бросился к кровати Тони. Я судорожно пытался нащупать его тело, но с каждой секундой надежда по частям разбивалась о пустоту.
И там, на пустующей кровати Тони, вся тяжесть, что до сих пор копилась во мне, вдруг ринулась наружу водопадом слез. Опустив голову, уткнувшись в ни в чем не повинный матрас, я начал истошно кричать про себя, срывая всю свою злость на неразобранной кровати. Я потребовал от нее объяснений, я спросил ее, куда она дела Тони, и приказал ей изменить реальность, столь отчетливо подтверждаемую отметинами на моих руках – следами ногтей моей матери.
И там, в сырой бездне беспомощности, после нескольких часов заклинаний о помощи я снова заснул.
* * *
Мама поехала вместе с Тони на скорой помощи, отец последовал за ними на машине.
В больнице ему наложили на голову около пятнадцати швов, и после двух дней наблюдения, в течение которых он проходил разные обследования и сдавал анализы, поскольку от удара он все-таки потерял сознание, врачи подтвердили, что раны не были слишком глубокими и не станут причиной плохих последствий. Очевидно, они говорили только о физических последствиях, последствиях для него. Но они ничего не сказали о том, что будет с нами, что будет со мной.
Мне не разрешили поехать с ними, поэтому, обессиленному и измученному чувством вины, мне пришлось остаться в деревне, чтобы терпеть нескончаемые причитания про «бедняжку Тони» моей бабушки. Это были самые долгие дни моего детства.
Много-много часов спустя настал момент возвращения. Я ждал их с самого раннего утра, ни на минуту не отходя от окна. Только ближе к полудню я увидел вдалеке машину моих родителей, за которой следовал внедорожник Абатов.
– Они едут, едут! – закричал я.
И, не теряя больше ни секунды, тут же помчался на улицу.
Образ мальчика, выходящего из машины с перевязанной головой, навсегда остался в моей памяти. У нас даже не было времени, чтобы посмотреть друг на друга, как это было всегда, мы просто молча обнялись настолько крепко, насколько хватило сил. Мы обнялись, потому что знали, что это не воссоединение, а самое настоящее прощание.
Я расплакался. Он тоже.
И мы оба знали, что с этого момента наши каникулы пойдут разными путями. С годами мы поняли, что и наши жизни тоже.
Вопреки стандартным утешениям типа «Не волнуйся» или «Не переживай, все уже закончилось», я знал, что на самом деле ничего не закончилось. Скорее, наоборот, с этого момента все только начиналось – все становилось другим.
Вместе с хижиной разрушились и многие узы, связывающие наших родителей, в том числе узы доверия.
Мы больше никогда не проводили лето вместе ни в нашей деревне, ни в Пиренеях. Этот инцидент стер из наших жизней все, что было раньше: вечерние «соревнования» бутылочных крышек во дворе – команда «Кельме» против команды «Рейнольдс», Олимпийские игры на двоих с прыжками в длину и метанием ядра, велосипедные прогулки по деревне и ее окрестностям, костры из мусора и чертополоха и, прежде всего, дружбу, которая, несмотря на ее взлеты и падения, уже безвозвратно вошла в штопор.
Даже сегодня, спустя столько лет, перед моими глазами все еще стоит образ мальчика с куском дерева, прибитым к голове. Этот образ переносит меня в ночь, когда я проснулся, думая, что все это лишь плохой сон, когда в свои двенадцать лет я стал по-настоящему взрослым.
Расстояние стало увеличиваться между двумя семьями и, следовательно, между нами. Никто не хотел открыто признавать причиной этого отчуждения случившееся. Никогда не было ни намеков, ни упреков, ни вопросов: «Чья это вина?» Это просто было начало конца.
Я не знал тогда, что Абаты обнаружили глубокие трещины в доверии, оказанном моим родителям. Эти трещины никто никогда раньше не замечал, но теперь был не в состоянии забыть. Их никто так и не осмелился отремонтировать, а со временем они превратились в пропасть.
Я также не смог тогда заметить печаль, охватившую моих родителей, которые вдруг осознали, что не смогли обеспечить безопасность двенадцатилетнему ребенку. Это была единственная ответственность, и с ней они не сумели справиться. Маленький ребенок, к которому хоть и относились как к родному сыну, таковым никогда не был. И осознание этого теперь висело на душе тяжелым грузом, перевешивающим все те моменты, когда мы были по-настоящему неразлучны.
И там, на улице, по ту сторону ворот, мы сделали свой первый шаг друг от друга. Они не хотели – я предпочитаю думать, что в действительности просто не знали, как – скрыть свое желание уйти как можно скорее. Мои родители тоже не знали, что такого предложить в непростой ситуации, что бы не выглядело как неловкое приглашение на обед. Ухватившись за спасательный круг фразы: «Мы что-нибудь перекусим в дороге», обе стороны вздохнули с облегчением.
Тогда я не мог понять причины этого бегства, этой спешки, этого напряжения, возникшего между семьями. Я не мог догадаться, что за словами «Врач сказал, что ему нужно как можно больше отдыхать» скрывалось нечто иное. Все это в моем возрасте было непонятно и необъяснимо.
В тот день мы оба навсегда потеряли друг друга.
Середина марта, 2002
Половина первого ночи, а я так и не заснул. Она спокойно спит уже несколько часов, как когда-то, в старые добрые времена спал я. Времена, которые я все еще храню в своей памяти как бесценное сокровище.
Сколько лет прошло с тех пор, когда мы проводили лето вместе, когда мы упивались свободой и детскими мечтами, когда нам казалось, что впереди у нас еще целая жизнь… Как бы мне хотелось вернуться назад, в те дни, где когда-то жили отношения, которым не суждено было закончиться ничем хорошим: отношения между мной и Тони.
Я стал все чаще вспоминать о своем детстве из-за плана, который последнее время зрел в моей голове. Пиренеи могли бы стать прекрасным местом для того, чтобы начать все сначала. Не знаю, может, в конечном итоге мне не хватит духу. Может, когда я проснусь через несколько часов, я снова забуду обо всем.
Два часа ночи. Надо постараться заснуть, иначе завтра – вернее, уже сегодня – я не смогу проснуться.
– Спокойной ночи, Реби, – прошептал я ей на ухо.