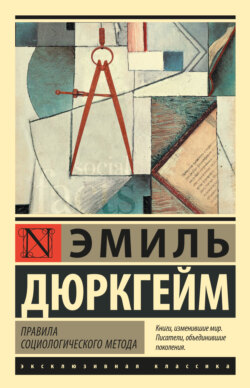Читать книгу Правила социологического метода - Эмиль Дюркгейм - Страница 8
Часть первая. Правила социологического метода
Глава I. Что такое социальный факт?
ОглавлениеПрежде чем приступать к поискам метода, пригодного для изучения социальных фактов, важно установить, что, собственно, представляют собой факты, именуемые «социальными».
Этим вопросом задаться тем более необходимо, что обыкновенно данный термин употребляют не совсем точно. Им зачастую обозначают почти все происходящие в обществе явления – при условии, что последние вызывают сколько-нибудь заметный общественный интерес. Но при таком понимании не существует, так сказать, человеческих событий, которые нельзя называть социальными. Каждый индивидуум пьет, спит, ест, рассуждает, и общество крайне заинтересовано в регулярном отправлении этих функций. Будь указанные факты социальными, у социологии не было бы собственного предмета изучения, ее область слилась бы с областью биологии и психологии.
Но в действительности во всяком обществе имеется определенная группа явлений, отличная вследствие своих наглядно выраженных свойств от явлений, изучаемых другими естественными науками.
Когда я действую как брат, супруг или гражданин и выполняю принятые на себя обязанности, то подчиняюсь долгу перед законом и обычаю, внешним для меня и моих действий. Даже когда закон и обычай отвечают моим собственным чувствам и когда я признаю в душе их реальность, эта реальность не утрачивает своей объективности, поскольку вовсе не я сам создал эти обязательства: они усвоены мною посредством воспитания. Кроме того, как часто нам неведомо полное содержание налагаемых на нас обязанностей, а для их познания мы вынуждены изучать законы и советоваться с уполномоченными их истолкователями! Точно так же верующий с рождения окружен готовыми к применению верованиями и обрядами своей религии; если они существовали до него, значит, они существуют вне его самого. Система знаков, которыми я пользуюсь для выражения мыслей, денежная система, которую я применяю для уплаты долгов, инструменты кредита, служащие мне в коммерческих отношениях, практики, соблюдаемые в моей профессии, и т. д. – все это функционирует независимо от того употребления, каковое я им предназначаю. Беря одного за другим всех членов конкретного общества, можно смело заявлять, что все сказанное может быть повторено для каждого из них. Следовательно, эти способы мышления, деятельности и чувствования обладают тем примечательным свойством, что они существуют вне индивидуального сознания.
Такие типы поведения и мышления не только находятся вне индивидуума, но и наделены принудительной и побуждающей силой, благодаря которой они навязываются ему, хочет он того или нет. Безусловно, когда я добровольно им подчиняюсь, это принуждение мало или совсем не ощущается, поскольку оно в этой ситуации лишнее. Тем не менее оно внутренне присуще этим фактам, доказательством чего может служить то обстоятельство, что принуждение тотчас проявляется, едва я пытаюсь сопротивляться. Если я нарушаю нормы права, они реагируют против меня, как бы норовя воспрепятствовать моему действию, если еще есть время, или упраздняют мое действие – или восстанавливают его в нормативной форме, – если оно совершено и может быть исправлено; или же, наконец, заставляют меня искупать вину, если иначе исправить сделанное невозможно. Если на кону стоят сугубо моральные правила, общественная совесть удерживает от всякого действия, их оскорбляющего, посредством надзора за поведением граждан и посредством особых наказаний, которыми она располагает. В прочих случаях принуждение оказывается менее настойчивым, но все равно продолжает существовать. Если я не подчиняюсь принятым в обществе условностям, если моя одежда не соответствует заведенному обычаю моей страны и моего социального класса, то смех, мною вызываемый, и то отдаление, на котором меня стараются держать, производят, пускай в слабой степени, то же воздействие, что и наказание как таковое. В иных случаях принуждение, хотя и косвенное, оказывается не менее действенным. Я не обязан говорить по-французски с моими соотечественниками или использовать одобренную законом валюту, но я не могу поступать иначе. Попытайся я ускользнуть от этой необходимости, моя жалкая попытка немедленно бы провалилась. Если я промышленник, ничто не мешает мне работать, используя приемы и методы прошлого столетия, но в таком случае я наверняка разорюсь. Даже при фактической возможности освободиться от этих правил и успешно их нарушить я в состоянии это сделать только после борьбы с ними. Если в конце концов они и будут побеждены, то их принудительная сила все же достаточно ощутима в том сопротивлении, которое они оказывают. Нет такого новатора, даже удачливого, предприятия которого не сталкивались бы с противодействием подобного рода.
Итак, перед нами категория фактов, наделенных крайне специфическими свойствами; сюда относятся способы мышления, деятельности и чувствования, внешние по отношению к индивидууму и наделенные принудительной силой, вследствие которой они этим индивидуумом управляют. Также, поскольку они состоят из представлений и действий, их нельзя смешивать ни с органическими явлениями, ни с явлениями психическими, которые возникают лишь в индивидуальном сознании и при посредстве последнего. Они составляют, следовательно, новый вид, которому и надлежит присвоить обозначение социального. Такое обозначение вполне подходит, ибо совершенно ясно, что эти факты, не имея своим субстратом индивидуума, не могут иметь другого субстрата, кроме общества – политического общества во всей его совокупности или каких-либо отдельных групп в его составе, будь то религиозные группы, политические и литературные школы, профессиональные корпорации и т. д. Вдобавок указанное обозначение применимо только к этим фактам, поскольку слово «социальный» имеет единственное значение, характеризуя исключительно те явления, которые не подпадают ни под одну из ранее установленных и названных категорий фактов. Они и образуют, как следствие, область социологии. Правда, слово «принуждение», при помощи которого мы их определяем, может разъярить ревностных сторонников полного индивидуализма. Они-то утверждают, что индивидуум полностью самостоятелен, а потому им кажется, что человека унижают всякий раз, когда ему дают почувствовать, что он зависит не только от самого себя. Но раз ныне уже не подлежит сомнению, что большинство наших идей и склонностей не вырабатывается нами, а приходит к нам извне, то эти идеи и склонности способны проникнуть в нас, лишь заставив признать себя. Именно это подразумевает наше определение. Кроме того, известно, что социальное принуждение отнюдь не исключает индивидуальности[17].
Впрочем, поскольку приведенные нами примеры (юридические и нравственные правила, религиозные догматы, финансовые системы и т. п.) состоят как таковые из ранее принятых верований и практик, то на основании сказанного можно утверждать, что социальный факт возможен лишь там, где присутствует некая социальная организация. Однако существуют и другие факты, которые не обретают такой кристаллизованной формы, но обладают той же объективностью и тем же влиянием на индивидуума. Это так называемые социальные течения. Возникающие на многолюдных собраниях великие порывы энтузиазма, негодования и сострадания не зарождаются ни в каком отдельном человеческом сознании. Они приходят к каждому из нас извне и способны увлечь нас вопреки нам самим. Поддаваясь этим порывам, я могу не осознавать того давления, которое они оказывают на меня, но это давление немедленно проявится, едва я попытаюсь бороться с порывами. Если некий человек попробует воспротивиться любому из этих коллективных ощущений, то он выяснит, что отрицаемые им чувства обращаются против него. Если эта сила внешнего принуждения обнаруживается столь явно в случаях сопротивления, значит, она существует, хотя не осознается, и в случаях противоположных. То есть мы являемся жертвами иллюзии, которая побуждает верить, будто мы сами создаем то, что в реальности навязывается нам извне. Но если готовность, с какой мы впадаем в эту иллюзию, прячет от нас оказываемое давление, отсюда не следует, что она его уничтожает. Так, воздух не лишается веса, пусть мы его не чувствуем. Даже когда мы, индивидуально и спонтанно, содействуем возникновению общего чувства, впечатление, нами полученное, будет разительно отличаться от того, которое мы испытали бы в одиночестве. Когда собрание расходится, когда эти социальные влияния перестанут на нас воздействовать, когда мы останемся наедине с собой, чувства, нами пережитые, покажутся нам чем-то чуждым, в чем мы сами себя не узнаем. Мы заметим тогда, что эти чувства именно испытывались, а не порождались изнутри нас. Порой они даже вселяют ужас, ибо настолько они противны нашей природе. Индивидуумы, в обыкновенных условиях совершенно безобидные, способны, объединившись в толпу, вовлекаться в акты жестокости. Сказанное применительно к этим мимолетным вспышкам относится и к тем более продолжительным волнениям общественного мнения, которые постоянно возникают вокруг нас, во всем обществе или в более ограниченных его кругах, по поводу религиозных, политических, литературных, художественных и иных событий.
Дополнительно это определение социального факта можно подтвердить через изучение характерного опыта. Достаточно понаблюдать за воспитанием ребенка. Если рассматривать факты такими, каковы они есть (и каковы должны быть), то бросается в глаза, что воспитание как таковое заключается в постоянных усилиях по принуждению ребенка видеть, чувствовать и действовать способами, к которым он не пришел бы самостоятельно. С самых первых дней жизни мы обязываем младенца есть, пить и спать регулярно, в определенные часы, и соблюдать чистоту, спокойствие и послушание; позднее мы заставляем его считаться с другими, уважать обычаи и приличия, трудиться и т. д. Если с течением времени это принуждение перестает ощущаться, то только потому, что оно постепенно перерастает в привычку, во внутренние склонности, которые делают принуждение бесполезным, однако все эти качества возникают лишь вследствие того, что они порождаются принуждением. Правда, согласно Спенсеру, рациональное воспитание должно избегать таких приемов и предоставлять ребенку полную свободу действий. Но эта педагогическая теория никогда не практиковалась ни одним из известных народов, и потому она – всего-навсего desideratum[18] конкретного автора, а не факт, который можно было бы противопоставить изложенным выше соображениям. Последние же особенно поучительны потому, что воспитание преследует цель создания социального существа. Тем самым можно увидеть в общих чертах, как складывалось это существо в истории. Давление, которому ребенок непрерывно подвергается, есть не что иное, как давление социальной среды, стремящейся сформировать его по своему образу и подобию; в этой среде родители и учителя оказываются только представителями и посредниками.
Получается, что характерным признаком социальных явлений служит вовсе не их распространенность. Мысли, свойственные сознанию каждого индивидуума, и действия, всеми повторяемые, не становятся по этой причине социальными фактами. Если указанным признаком довольствуются ради определения, то лишь потому, что за социальные факты ошибочно принимаются явления, которые можно назвать их индивидуальными воплощениями. К социальным фактам принадлежат верования, склонности и практики группы, взятой коллективно, тогда как формы, в которые облекаются коллективные состояния, «воплощаясь» в отдельных людях, суть явления иного порядка. Двойственность их природы наглядно доказывается тем, что обе эти категории фактов часто встречаются в разъединенном состоянии. Некоторые способы мышления и действия приобретают вследствие повторения известную устойчивость, которая, так сказать, их выделяет, изолирует от отдельных событий, отражающих сами факты. Они как бы наделяются тем самым обликом, особой осязаемой формой и составляют реальность sui generis, предельно отличную от воплощающих ее индивидуальных фактов. Коллективный обычай существует не только как нечто имманентное последовательности определяемых им действий, но и по привилегии, неведомой области биологической, выражаемой раз и навсегда в какой-нибудь формуле, что передается из уст в уста, через воспитание и даже запечатлевается письменно. Таковы происхождение и природа юридических и нравственных правил, афоризмов и народных преданий, догматов веры, в которых религиозные или политические секты кратко выражают свои убеждения, вкусовых норм, устанавливаемых литературными школами, и пр. Ни один из этих способов мышления и действия не встречается целиком в повседневной практике отдельных лиц, так как они могут существовать без применения в настоящее время.
Разумеется, такое разобщение далеко не всегда проявляется одинаково четко. Достаточно ее неоспоримого существования в многочисленных важных случаях, нами упомянутых, чтобы показать, что социальный факт отличен от своих индивидуальных воплощений. Кроме того, даже тогда разобщение не выявляется непосредственным наблюдением, его нередко можно обнаружить, применяя те или иные методологические установки. Более того, такие процедуры, по сути, необходимо выполнять, если требуется вычленить социальный факт из совокупности явлений и наблюдать его в чистом виде. Так, существуют направления общественного мнения, степень интенсивности которых варьируется в зависимости от эпохи и страны; они побуждают нас, например, к браку или к самоубийству, к более или менее высокой рождаемости и т. п. Очевидно, что это социальные факты. С первого взгляда они кажутся неотделимыми от форм, принимаемых ими в индивидуальных случаях. Но статистика дает нам средство их изолировать. Они и вправду выражаются довольно точно показателями рождаемости, браков и самоубийств, то есть тем числом, которое получают при делении среднего годового итога браков, рождений и добровольных смертей на число лиц, по возрасту способных жениться, производить детей или убивать себя[19]. Поскольку каждая из этих цифр охватывает без различия все отдельные случаи, то индивидуальные обстоятельства, которые могли бы отчасти сказываться на возникновении явления, взаимно упраздняют друг друга и потому никак не могут считаться причастными к результату. Цифра выражает лишь известное состояние коллективной души.
Вот что такое социальные явления, избавленные от всех посторонних элементов. Что касается их частных проявлений, то и в последних присутствует нечто социальное, ибо они частично воспроизводят коллективный образец. Но в значительной мере каждое из них зависит также и от психической и физической конституции индивидуума, от особых обстоятельств, в которых индивидуум пребывает. Следовательно, это не явления, которые можно признать собственно социологическими. Они подвластны одновременно двум областям, значит, их можно было бы назвать социопсихическими. Они тоже интересуют социолога, но не составляют непосредственного предмета социологии. Точно так же встречаются органические явления смешанного характера, которые изучаются смешанными науками, к примеру биохимией.
Могут возразить, что явление становится общественным лишь тогда, когда оно охватывает всех членов общества – или по крайней мере большинство из них, – то есть когда оно признается всеобщим. Без сомнения, это так, но всеобщим оно будет лишь потому, что является общественным (более или менее обязательным); это отнюдь не значит, что оно общественное потому, что всеобщее. Перед нами состояние группы, которое повторяется среди индивидуумов, поскольку оно им навязывается. Оно заметно в каждой части, ибо находится в целом, а вовсе не потому находится в целом, что обнаруживается в частях. Это особенно очевидно в тех верованиях и практиках, что передаются нам вполне сложившимися от предшествующих поколений. Мы принимаем и усваиваем их потому, что видим в них творение коллективное и давнее, облеченное особым авторитетом, который наше воспитание приучает нас уважать и ценить. Здесь надо отметить, что подавляющее большинство социальных явлений приходит к нам именно таким путем. Но даже тогда, когда социальный факт возникает отчасти при нашем прямом содействии, природа его остается все той же. Коллективное чувство на каком-либо собрании выражает не просто сумму индивидуальных чувств, разделяемых многими, – как мы показали, оно есть нечто совсем другое. Это плод совместного существования, продукт действий и противодействий, возникающих между индивидуальными сознаниями. Если оно отражается в каждом из них, то в силу той особой энергии, которой обязано своему коллективному происхождению. Если все сердца бьются в унисон, это не следствие самопроизвольного и предустановленного согласия, а итог действия одной и той же силы и в одном и том же направлении. Каждого вовлекают и увлекают все вокруг.
Итак, теперь мы можем точно определить область социологии. Она охватывает лишь конкретную, четко оформленную группу явлений. Социальный факт опознается через силу внешнего принуждения, которой он обладает или способен обладать применительно к индивидуумам. А присутствие этой силы опознается, в свою очередь, или по существованию какой-то определенной санкции, или по сопротивлению, которое факт оказывает любой попытке индивидуума выступить против него. Впрочем, возможно также его определить по распространенности внутри группы при условии, как отмечалось выше, что будет прибавлен второй основополагающий признак, а именно: что факт существует независимо от индивидуальных форм, принимаемых при распространении в группе. В иных случаях второй критерий применять даже легче, чем первый. Наличие принуждения заметно, когда оно выражается внешне какой-либо прямой реакцией общества, как бывает в праве, в морали, в верованиях, обычаях и даже в моде. Но, когда принуждение всего-навсего косвенное, что имеет место, например, в экономической организации, оно не столь заметно. Тогда бывает проще выявить всеобщность наряду с объективностью факта. К тому же второе определение, в сущности, представляет собой лишь иную форму первого: если способ поведения, существующий вне индивидуальных сознаний, становится общим, он делается таковым только при посредстве принуждения[20].
Однако могут спросить, насколько полным является это определение. Действительно, все факты, послужившие нам основанием для него, отражают различные способы действия, «физиологические» по своей природе. Но ведь существуют и формы коллективного бытия, то есть социальные факты «анатомической», или морфологической, природы. Социология не может отделять себя от субстрата коллективной жизни. При этом число и характер основных элементов, из которых слагается общество, способы их сочетания, степень достигнутой ими сплоченности, распределение населения по территории, число и виды путей сообщения, конструкция жилищ и т. д. не могут на первый взгляд быть сведены к способам действия, чувствования и мышления.
Прежде всего эти разнообразные явления содержат те же характерные признаки, которые помогли нам определить другие явления. Эти формы бытия навязываются индивидуумам так же, как и те способы действия, о которых мы говорили выше. Фактически, желая узнать политическое деление общества, состав его отдельных частей, степень их сплоченности, это можно сделать, не прибегая к физическому наблюдению или географическому обзору; деление социально, даже если какие-то его основания заложены в физической природе. Лишь посредством публичного права мы в состоянии изучать такую организацию, ведь именно право устанавливает ее природу заодно с нашими семейными и гражданскими отношениями. Организация, следовательно, есть форма принуждения. Если население теснится в городах вместо того, чтобы расселяться привольно в сельской местности, это происходит потому, что имеется коллективное мнение, коллективное устремление, обязывающее индивидуумов к такой концентрации. Мы вольны в выборе конструкции жилищ не больше, чем в выборе фасонов одежды; по меньшей мере то и другое предлагается извне. Пути сообщения настоятельно предписывают направления внутренних миграций и коммерческих операций, даже их интенсивность. Значит, к перечисленному нами ряду явлений с характерным отличительным признаком социальных фактов можно было бы прибавить еще одну категорию. Но, поскольку указанное перечисление не было исчерпывающим, такое прибавление необязательно.
Оно даже не слишком уместно, ибо эти способы бытия суть лишь устоявшиеся способы действия. Политическая структура общества представляет собой способ, которым привыкли жить друг с другом различные элементы этого общества. Если их отношения традиционно близкие, то элементы стремятся слиться; в противном случае они тяготеют к разъединению. Тип жилища, который нам навязывается, есть лишь тот способ, которым привыкли строить дома все вокруг нас, отчасти унаследованный от предшествующих поколений. Пути сообщения – это русло, прорытое регулярным коммерческим сообщением и миграцией и т. д. Конечно, будь явления морфологического порядка единственными образцами такой устойчивости, можно было бы счесть, что они относятся к особому виду. Но юридическое правило не менее устойчиво, чем архитектурный стиль, а между тем это факт «физиологический». Простая нравственная максима, разумеется, более изменчива, но ее формы нередко устойчивее профессиональных привычек или моды. При этом существует целый ряд переходных ступеней, которыми, не нарушая непрерывности, наиболее характерные по своей структуре социальные факты соединяются с теми свободными течениями социальной жизни, каковые пока не обрели твердую форму. Потому правильно говорить, что различия между ними затрагивают лишь степень усвоенности. Те и другие факты суть формы жизни на разных стадиях кристаллизации. Несомненно, может быть полезным сохранить обозначение «морфологический» для тех социальных фактов, которые составляют социальный субстрат, но только при условии, что мы будем помнить: они по своей природе тождественны всем прочим фактами.
Наше определение в итоге учтет все, что надлежит учесть, если мы скажем: социальным фактом является всякий способ действий, устоявшийся или нет, который оказывает на индивидуума внешнее принуждение; или иначе: это факт, распространенный по всему данному обществу и обладающий собственным существованием, независимым от его индивидуальных проявлений[21].
17
Более того, всякое принуждение считается нормой. Мы вернемся к этому вопросу ниже.
18
Желание (лат.). – Примеч. ред.
19
Не во всяком возрасте и не во всех возрастах одинаково часто прибегают к самоубийству.
20
Можно увидеть, сколь далеко это определение социального факта от определения, послужившего основанием для оригинальной системы Тарда. Мы должны заявить прежде всего, что наши исследования никогда не позволяли выявить то преобладающее влияние, которое Тард приписывает подражанию, в происхождении социальных фактов. Кроме того, из приведенного определения, которое представляет собой не теорию, а простой итог непосредственных наблюдений, как будто ясно проистекает, что подражание не только не всегда, но даже никогда не выражает того, что составляет сущность и характерную особенность социальных фактов. Конечно, каждому социальному факту подражают и, как мы показали, каждый такой факт склонен обобщаться, но так происходит потому, что он социален, то есть обязателен. Его способность к распространению – не причина, а следствие его социологического характера. Будь социальные факты уникальными по своим последствиям, подражание и вправду могло бы если не объяснять, то по крайней мере их определять. Но индивидуальное состояние, которое воздействует на другие, не перестает от этого быть индивидуальным состоянием. Кроме того, можно задуматься, подходит ли слово «подражание» для обозначения распространения под принуждением. В этом слове выражают крайне разнородные явления, которые следовало бы различать.
21
Это тесное родство жизни и структуры, органа и функции можно легко установить в социологии, поскольку между этими двумя крайними пределами существует целый ряд промежуточных степеней, доступных непосредственному наблюдению и выявляющих связь между ними. У биологии нет такого методологического средства. Но обоснованным будет мнение, что социологические индукции в отношении данного предмета применимы и в биологии и что в организмах, как и в обществах, между этими двумя категориями фактов налицо различие лишь в степени.