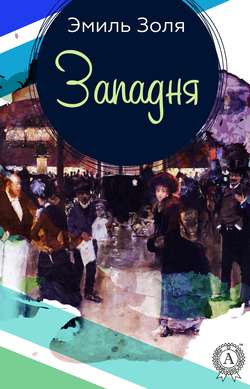Читать книгу Западня - Эмиль Золя - Страница 2
II
ОглавлениеСпустя три недели, около половины двенадцатого, в прекрасный солнечный день, Жервеза и Купо, рабочий кровельщик, угощались сливами в водке в «Западне» дяди Коломба. Купо, куривший папиросу на тротуаре, заставил Жервезу войти, когда она переходила улицу, отнесши белье и возвращаясь в прачечную. Ее большая четырехугольная корзина стояла на полу подле нее, за цинковым столиком.
Заведение дяди Коломба помещалось на углу улицы Пуаесонье и бульвара Рошшуар. На вывеске большими синими буквами значилось только одно слово: «Distillation». У дверей росли две пыльные лавровишни. Налево от входа тянулась огромная стойка с рядами стаканов, краном и оловянными мерками. Обширная зала была украшена большими бочонками ярко-желтого цвета, блестевшими лаком, с медными обручами и кранами, которые так и светились. Выше, на полках, бутылки, всевозможные склянки, расставленные в порядке, закрывали стены, отражаясь яркими зеленовато-желтыми, золотистыми, светло-красными пятнами в зеркале за стойкой. Но главная достопримечательность заведения помещалась в глубине комнаты, за дубовой перегородкой: перегонный аппарат, действовавший на глазах у посетителей, с рядами длинношеих реторт, со змеевиками, опускавшимися к полу, – чертова кухня, перед которой забывались в мечтах пьяницы-рабочие.
В этот час заведение было пусто. Грузный мужчина лет сорока, в фуфайке, дядя Коломб, исполнял требование какой- то девочки лет двенадцати, спросившей на четыре су водки. Сноп света, врывавшийся в дверь, согревал мокрый, заплеванный курильщиками пол. От конторки, от бочек, от всего помещения поднимался водочный дух, запах алкоголя, который, казалось, опьянял пылинки, кружившиеся в солнечных лучах.
Между тем Купо вертел новую папироску. Он имел очень опрятный вид в маленькой голубой холщевой фуражке, и смеялся, показывая белые зубы. Выдающаяся нижняя челюсть, слегка вздернутый нос, красивые темно-карие глаза придавали ему вид веселого и доброго малого. Его густые курчавые волосы стояли копной. Кожа еще сохраняла нежный оттенок в двадцать шесть лет. Жервеза, сидевшая напротив него, в кофте из черного орлеана, простоволосая, доедала сливу, придерживая ее за веточку двумя пальцами. Они сидели близко от входа, за первым из четырех столиков, расставленных вдоль прилавка.
Закурив папироску, кровельщик положил локти на стол, качнулся вперед и с минуту молча смотрел на молодую женщину, миловидное личико которой имело в этот день молочную прозрачность тонкого фарфора. Потом, намекая на какое-то дело, известное им одним и уже служившее предметом обсуждения, он спросил вполголоса:
– Стало быть, нет? вы говорите нет?
– О, разумеется, нет, господин Купо, – отвечала Жервеза со спокойной улыбкой. – Пожалуйста, не говорите здесь об этом. Вы ведь обещали быть благоразумным… Если бы я знала, я отказалась бы от вашего угощения.
Он не отвечал, продолжая смотреть на нее совсем близко с вызывающей и задорной нежностью, восхищаясь в особенности уголками ее губ, маленькими бледно-розовыми, слегка влажными уголками, сквозь которые проглядывал пурпур ее рта, когда она улыбалась. Она, впрочем, не отодвигалась, оставалась спокойной и ласковой. После непродолжительного молчания она прибавила:
– Вы говорите, не подумавши, право. Я старуха, у меня мальчик восьми лет… Что мы будем делать вместе?
– Черт возьми! – пробормотал Купо, подмигивая. – Да тоже, что другие!
Но она сделала жест отвращения.
– Ах, неужели вы думаете, что это весело? Видно, что вы еще не обзаводились хозяйкой… Нет, господин Купо, мне нужно думать о серьезных вещах. Баловство не приводит ни к чему доброму, понимаете! У меня дома два рта и накормить их не шутка! Как же я буду воспитывать их, если вздумаю развлекаться баловством?… И потом, послушайте, мое несчастие послужило мне славным уроком. Нет, знаете, я больше не хочу иметь дело с мужчинами. Больше меня не собьют с толку!
Она объяснялась без всякого сердца, очень рассудительным, холодным тоном, точно обсуждая вопрос о работе, причины, помешавшие накрахмалить косынку. Видно было, что это твердо засело у нее в голове после зрелых рассуждений.
Купо, разнежившись, повторял:
– Вы меня очень огорчаете, очень огорчаете…
– Да, я вижу, – отвечала она, – и мне очень жаль вас, господин Купо… Напрасно вы огорчаетесь. Если бы я вздумала забавляться, то скорее с вами, чем с кем другим. Вы, кажется, хороший малый, вы такой милый. Мы сошлись бы и зажили вместе, будь, что будет. Я не корчу из себя недотроги, не говорю, что этого не могло бы случиться… Только к чему же, раз мне не хочется? Я работаю у г-жи Фоконье уже две недели. Мальчики ходят в школу. Я работаю, я довольна. И, право, от добра добра не ищут.
Она наклонилась за корзиной.
– Я заболталась с вами, а меня ждут у хозяйки… Полноте, вы найдете другую, господин Купо, получше меня, и без двух поросят на шее.
Он взглянул на часы под стеклянным колпаком и усадил ее снова, воскликнув:
– Подождите! Еще только тридцать пять минут двенадцатого… У меня еще двадцать пять минут… Не бойтесь, я не стану делать глупостей, ведь между нами стол… Разве вы меня так ненавидите, что не хотите и двух слов сказать со мною?
Она снова поставила корзину на пол, чтобы не огорчать его; и они стали разговаривать, как добрые друзья. Она позавтракала перед тем, как отправиться с бельем; он наскоро проглотил свой суп и говядину, чтобы застать ее. Жервеза, ласково отвечая на его вопросы, посматривала в окно на улицу, которая в этот час завтрака была битком набита народом. По обоим тротуарам, стесненным между вереницами домов, без конца стремились прохожие, толкаясь, махая руками. Запоздалые работники, задержанные делом, с угрюмыми, голодными лицами, большими шагами переходили через улицу, заходили к булочнику напротив, и появившись обратно с фунтом хлеба под мышкой, устремлялись к «Двухголовому теленку», тремя дверями дальше, чтобы съесть свой обычный обед в шесть су. Рядом с булочником была фруктовая лавка, где продавали жареный картофель и улиток с петрушкой. Непрерывная вереница работниц в длинных передниках уносила картофель в фунтиках, улиток – в чашках; другие, хорошенькие девушки деликатного вида, покупали пучки редисок. Наклоняясь, Жервеза могла видеть еще колбасную, полную народа, откуда выходили дети, уносившие в сальном листочке бумаги котлетку, сосиску или кусок кровяной колбасы. Тем временем, по улице, черной от грязи далее в хорошую погоду, среди общей толкотни появлялись уже рабочие, выходившие из харчевен небольшими группами и прогуливавшиеся, отяжелев от пищи, спокойные и медлительные среди давки. Небольшая группа собралась у входа в кабачок.
– Слушай, Биби-ла-Грильяд, – спросил хриплый голос, – так ты заплатишь за выпивку?
Пятеро рабочих вошли и остановились перед стойкой.
– Ах, мошенник, дядя Коломб, – сказал тот же голос, – что ты нам суешь наперсток, наливай по настоящему стаканчику!
Дядя Коломб спокойно наливал. Вошли еще трое рабочих. Мало-помалу блузы начали собираться на углу тротуара и, потоптавшись немного на месте, протискивались в дверь между двух лавровишен, серых от пыли.
– Какой вы глупый! У вас только сальности на уме! – говорила Жервеза Купо. – Конечно, я его любила… Только с тех пор, как он бросил меня так подло…
Они говорили о Лантье. Жервеза более не встречалась с ним; она думала, что он жил с сестрой Виржини в Гласьер, у того самого приятеля, который собирался открыть шляпную фабрику. Впрочем, она и не собиралась отыскивать его. Сначала ей было очень горько, она подумывала даже утопиться, но мало-помалу успокоилась и теперь находила, что все устроилось к лучшему. С Лантье-то, пожалуй, ей никогда бы не удалось дать воспитание детям; так он транжирил деньги. Он может зайти поцеловать Клода и Этьенна, она не вытолкает его в шею. Но сама она скорее позволит изрубить себя на куски, чем пошевелит хоть пальцем. Она высказывала все это с видом решительной женщины, выработавшей свой план жизни, тогда как Купо, не отказавшийся от желания обладать ею, шутил, обращал все в грязную сторону, предлагал ей насчет Лантье бесцеремонные вопросы, так весело поблескивая своими белыми зубами, что ей и в голову не приходило оскорбляться.
– Это вы его били? – сказал он. – 0, вы не добрая! Вы всегда готовы задать трепку!
Она рассмеялась. Правда, она задала хорошую трепку этой кляче Виржини. В тот день она была способна задушить человека. И она рассмеялась еще громче, когда Купо рассказал ей, что сконфуженная Виржини переселилась в другой квартал. Тем не менее, лицо ее сохраняло выражение детской кротости, она вытягивала свои пухлые руки, повторяя, что не раздавит и мухи. Она знает, что такое обиды, только потому, что сама испытала их много. Тут она стала рассказывать о своей молодости, о Плассане. Она вовсе не была шлюхой; мужчины казались ей несносными; когда Лантье овладел ею, в четырнадцать лет, она нашла это забавным, так как он называл себя ее мужем, и они играли в хозяйство. Ее единственный недостаток, уверяла она, тот, что она слишком чувствительна, любит всех и сколько раз жалела людей, которые потом отплачивали ей гадостями. И если она любила мужчину, то вовсе не ради глупостей, она мечтала только всегда жить вместе, счастливо. Купо подсмеивался и подшучивал насчет ее ребятишек, которых она не под капустой же нашла; тогда она ударила его по пальцам, прибавив, что, разумеется, и она из того же теста, что другие женщины; только напрасно думают, будто женщины всегда лакомы до этого; женщины думают о хозяйстве, суетятся и так устают к вечеру, что засыпают сейчас же, как лягут. Она к тому же похожа на свою мать, работягу, которая умерла от натуги, прослужив двадцать лет точно вьючное животное папа Маккара. Правда, она тоненькая, тогда как ее мать могла бы двери высадить своими плечищами; но это ничего не значит, она похожа на нее по своей привязчивости. Она и хромает от того, что папа Маккар колотил беднягу. Последняя рассказывала ей сотни раз, как отец, вернувшись домой пьяный, набрасывался на нее с ласками так зверски, что чуть не ломал ей костей; наверно Жервеза была зачата в одну из таких ночей, оттого и оказалась хромой.
– О, это пустяки, вашей хромоты совсем незаметно! – сказал Купо, желая угодить ей.
Она дернула подбородком; она очень хорошо знает, что хромота у нее заметна; в сорок лет она будет совсем колченогой.
Потом Жервеза прибавила тихонько, с легким смехом:
– Странный у вас вкус: влюбиться в хромую.
Тогда он, по-прежнему облокотившись на стол и еще более приблизив к ней лицо, принялся говорить любезности, выбирая самые сильные выражения, стараясь вскружить ей голову. Но она только покачивала головой, не сдаваясь, хотя этот масляный голос действовал на нее. Она слушала, глядя в окно, делая вид, что снова заинтересовалась давкой на улице. Теперь в опустевших лавках шла уборка; хозяйка фруктовой вынимала последнюю сковородку жареного картофеля, а колбасник приводил в порядок тарелки на стойке. Из всех харчевен рабочие валили толпами; бородатые молодцы угощали друг друга пинками, возились, как малые ребята, постукивая своими большими подбитыми гвоздями башмаками, скользя и царапая мостовую; другие, засунув руки в карманы, курили с глубокомысленным видом, поглядывая на солнце, моргая ресницами. Тротуары улиц, канавки, все было загромождено толпою; поток блуз, курток, старых пальто, полинявших и бледных в волнах яркого света, заливавшего улицу, лениво стремился из открытых дверей, останавливаясь среди экипажей. Вдали звонили колокола на фабриках; но рабочие не торопились, закуривали трубки, потом, заглянув в тот, в другой кабачок, решались, наконец, отправиться в мастерскую, еле волоча ноги. Жервеза забавлялась, наблюдая за тремя рабочими, большим и двумя маленькими, которые то и дело возвращались обратно, в конце концов, они спустились вниз по улице и вошли прямо в заведение дяди Коломба.
– Вот молодцы! – пробормотала она.
– Э, – сказал Купо, – я знаю этого верзилу; это Сапог, мой приятель.
Кабак был полон народу. Все галдели, раскаты резких голосов выделялись среди гуденья хриплых. По временам стаканы дребезжали от удара кулаком по стойке. Все стояли, скрестив руки на животе или закинув их за спину, пившие теснились кучками, некоторые группы, у бочек, дожидались по четверти часа, пока им удавалось вытребовать свою порцию у дяди Коломба.
– Как, это наш барчонок Каде-Касси! – воскликнул Сапог, хлопнув по плечу Купо. – Франт, который курит папироски и носит белье. За ним ухаживают, ему строят куры!
– Эй, отвяжись! – с досадой огрызнулся Купо.
Но тот подсмеивался.
– Ладно, понимаем, в чем дело, приятель…
И повернулся спиной, страшно скосив глаза на Жервезу. Она отшатнулась несколько испуганная. Дым трубок, едкий запах всех этих людей разносились в воздухе, пропитанном алкоголем. Она закашлялась.
– О, какая гадость это пьянство! – сказала она вполголоса.
И рассказала Купо, что когда-то, живя с матерью, она пила анисовку, но чуть не умерла от нее однажды, и с тех пор не выносит крепких напитков.
– Видите, – сказала она, показывая свой стакан, – я съела сливу, но оставила сок.
Купо тоже не понимал, как можно лакать водку стаканами. Слива другое дело, да и то изредка. А водка, полыновка, и все эти гадости, – нет, Бог с ними. Сколько бы ни смеялись над ним товарищи, он не потащится за ними в кабак. Его отец, тоже кровельщик, сломал себе шею о мостовую улицы Кокенар, свалившись после выпивки с крыши № 25, и, помня об этом, все в их семье благоразумны. Когда он проходит по улице Кокенар и видит это место, то готов скорее выпить воды из канавы, чем стакан водки даром в кабаке. В заключение он прибавил:
– В нашем ремесле нужны крепкие ноги.
Жервеза взяла свою корзину, но не уходила, а держала ее на коленях, задумавшись, с блуждающим взглядом, точно слова молодого работника пробудили в ней давно забытые воспоминания. Наконец, она сказала, медленно, без видимой связи с предыдущим:
– Бог мой, я не честолюбива, я не требую многого… Моя мечта – работать спокойно, иметь кусок хлеба, да угол, где преклонить голову, кровать, стол, пару стульев, не более… Да вот еще воспитать бы детей, вывести их в люди, если это возможно… Есть и еще: не быть битой, если обзаведусь хозяйством; да, колотушки мне вовсе не по вкусу…
Она искала, спрашивала самое себя, нет ли у нее еще каких-нибудь желаний, и не находила ничего серьезного. Впрочем, помедлив немного, она прибавила:
– Да, конечно, хотелось бы умереть в своей постели… Протаскавшись всю жизнь по чужим людям, я была бы рада ум в своей постели, у себя дома.
Она встала. Купо, одобрявший все ее желания, тоже поднялся, беспокоясь насчет позднего времени. Но они не сразу ушли; она подошла к дубовой перегородке, заинтересовавшись огромным перегонным кубом красной меди; а кровельщик, следовавший за ней, объяснял ей действие аппарата, указывал пальцем его различные части, огромную реторту, из которой била светлая струйка алкоголя. Аппарат, с приемниками странной формы, с бесконечными извивающимися трубками, имел мрачный вид: ни облачка дыма не исходило из него, едва слышно было внутреннее дыхание, какое-то подземное хрипение; казалось, тут шла ночная работа, исполняемая среди бела дня угрюмым, мощным и немым работником. Между тем Сапог со своими двумя приятелями подошел к перегодке, в ожидании, пока очистится местечко у стойки. Его смех напоминал скрип дурно вычищенного блока; он смотрел на эту машину для пьянства, покачивая головою, нежными глазами. Ей Богу, она мила! В этом медном барабане довольно спирту, чтобы утешаться целую неделю. Эх, кабы ему вставили в зубы конец змеевика, чтобы можно было тянуть теплый спирт, накачиваться до краев, без конца, без перерыва. Черт побери, это не то, что наперстки дяди Коломба! Товарищи смеялись, говорили, что это животное Сапог только бахвалится. Аппарат, мрачный, без искры веселья в тусклых переливах своей меди, продолжал глухо ворчать, истекая, точно потом, алкоголем, напоминая медленный, упорный источник, который, в конце концов, должен был наполнить кабак, разлиться по бульварам, затопить эту огромную яму – Париж. Наконец Жервеза отшатнулась с дрожью и пробормотала, пытаясь улыбнуться:
– Как это глупо, мне просто холодно от этой машины… мороз пробирает…
Потом, возвращаясь к своей заветной идее совершенного счастья, прибавила:
– Что, не правда ли, это гораздо лучше: работать, иметь кусок хлеба, свой угол, воспитать детей, умереть в своей постели…
– И не быть битой, – весело добавил Купо. – Но я бы вас не бил, если бы вы согласились, г-жа Жервеза… Этого нечего опасаться, я никогда не пью, и потом я вас так люблю… Ну, до свидания, вечером мы еще потолкуем!
Он понизил голос, говорил ей на ухо, между тем как она проталкивалась в толпе мужчин, выставив перед собой корзину. Но она все еще отнекивалась, качая головой. Однако обернулась, улыбнулась ему; по-видимому, была рада узнать, что он не пьет. Конечно, она сказала бы ему «да», если бы не поклялась никогда больше не сходиться с мужчиной. Наконец они добрались до двери, вышли на улицу. Кабак остался за ними, полный народа; но даже на улице слышалось гудение пьяных голосов и водочный запах. Слышно было, как Сапог ругал дядю Коломба мазуриком, уверяя, будто тот налил ему только полстакана.
– Ах, тут можно хоть дух перевести! – сказала Жервеза на улице. – Ну, до свидания, и благодарю вас, господин Купо… Я скоро вернусь домой.
Ей нужно было идти по бульвару, но он, схватив ее за руку, не пускал, повторяя:
– Пройдемтесь со мной, пойдемте по улице Гут-Дор, это небольшой крюк… Мне нужно зайти-к сестре… Пойдемте вместе.
В конце концов, она согласилась, и они медленно поднялись по улице Пуассонье, рядышком, не подавая друг другу руки. Он рассказывал ей о своей семье. Мать, мама Купо, бывшая жилетная мастерица, нанималась прислугой, так как глаза изменяли ей все больше и больше. Ей исполнилось шестьдесят два года третьего числа прошлого месяца. Он был младший. Одна из сестер, г-жа Лера, вдова тридцати шести лет, занималась цветочным ремеслом и жила в улице Монахов, в Батиньоле. Другая, тридцати лет, вышла за цепочного мастера, хитреца Лорилье. К ней-то он и шел в улицу Гут-Дор. Она жила в большом доме, налево. По вечерам он ужинал у Лорилье; это составляло экономию для всех троих. Он к ним-то и собирался зайти, предупредить, чтобы не ждали сегодня, так как его пригласил один приятель.
Жервеза внезапно перебила его, спросив с улыбкой:
– Так вас зовут Каде-Касси, господин Купо?
– О, – отвечал он, – товарищи дали мне это прозвище, потому что я обыкновенно спрашиваю черносмородинной наливки (cassis), когда они затащат меня в кабак… Каде-Касси не хуже Сапога, не правда ли?
– Конечно, это очень мило: Каде-Касси, – объявила Жервеза.
Она стала расспрашивать его о работе. Он работал по-прежнему за заставой в новом госпитале. О, работы достаточно, хватит на весь год.
– Знаете, мне видно сверху гостиницу «Бонкер»… Вчера, когда вы были у окна, я махал руками, но вы не заметили.
Между тем они сделали уже сотню шагов по улице Гут-Дор, когда он остановился и, взглянув вверх, сказал:
– Вот этот дом… Я родился дальше, в № 22… А изрядный домище! Внутри точно казарма!
Жервеза, подняв голову, осмотрела фасад. Со стороны улицы он имел пять этажей, каждый в пятнадцать окон, с поломанными черными ставнями, придававшими вид руины этой громадной стене. Внизу четыре лавки занимали подвальный этаж: направо от ворот – обширная грязная харчевня, налево – угольщик, мелочной торговец и лавка зонтиков. Дом казался тем более колоссальным, что стоял между двумя низенькими, ветхими постройками, точно прилипшими к нему; квадратный, похожий на грубо отесанную глыбу известняка, выветривающуюся и крошащуюся на солнце, он выдвигал над соседними кровлями, на ясном небе, свой громадный, неуклюжий куб, свои неоштукатуренные бока грязного цвета, голые как тюремная стена, с рядами перевязных камней, напоминавших дряхлые зевающие в пустоте челюсти. Но Жервеза обратила особенное внимание на ворота, огромные ворота аркой, доходившие до второго этажа, с глубоким проходом, в конце которого брезжил тусклый свет большого двора. Среди этого прохода, вымощенного как улица, протекал ручеек нежно-розовой воды.
– Зайдите же, – сказал Купо, – вас не укусят.
Жервеза хотела подождать на улице. Тем не менее, она не утерпела и прошла по проходу до дворницкой, которая находилась направо. Тут она снова подняла глаза. Внутренние фасады были шестиэтажные, – четыре правильных фасада, замыкавшие огромный квадрат двора. Серые стены, точно изъеденные какой-то желтой проказой, исполосованные подтеками дождя, струившегося с крыш, возвышались, плоские как скатерть, без всяких лепных украшений; только водосточные трубы спускались от этажа к этажу, и зияющие свинцовые желоба мелькали ржавыми пятнами. Окна без ставен глядели своими голыми мутными зеленовато-серыми стеклами. Иные были открыты, из них висели проветривавшиеся матрацы с синими клеточками; перед другими на протянутых веревках сушилось белье: весь домашний гардероб, мужские рубашки, женские кофты, детские штанишки; перед одним, в третьем этаже, красовались запачканные пеленки. Сверху донизу мелкие квартиранты лезли наружу, выставляли из всех трещин свою нищету. Внизу, в каждом фасаде, узкая высокая дверь, без всякой деревянной обшивки, пробитая прямо в стене, вела в обшарпанный коридор, в глубине которого начинались ступени грязной лестницы с железными перилами; эти четыре лестницы были обозначены четырьмя первыми буквами алфавита, нарисованными на стене. Подвальные этажи с черными от пыли окнами были заняты огромными мастерскими; тут светился огонь в горне слесаря, там визжал струг столяра, а подле дворницкой, из мастерской красильщика выбегал розовый ручеек, струившийся по проходу. Грязный, усеянный разноцветными лужами, стружками, осколками угля, заросший по краям травой, пробивавшейся между развороченными камнями мостовой, двор был озарен ярким солнцем и точно перерезан пополам по линии, до которой достигали лучи. На теневой стороне, подле водоема, кран которого поддерживал вечную сырость, три курицы с грязными ланами рылись в земле, отыскивая червяков. Жервеза медленно переводила взгляд с шестого этажа вниз и обратно, удивленная этой громадой, чувствуя себя внутри живого тела, в самом сердце города, заинтересованная домом, точно каким-нибудь великаном.
– Кого вам угодно, сударыня? – крикнула дворничиха, появляясь на пороге своей каморки.
Молодая женщина сказала, что дожидается одного человека. Она вернулась на улицу, потом, так как Купо не показывался, снова прошла во двор посмотреть. Дом не казался ей безобразным. Среди тряпья, развешанного перед окнами, мелькали более веселые вещи: цветущая гвоздика в горшке, клетка, из которой неслось щебетание чижика, зеркальце, блестевшее в темноте. Внизу распевал столяр, под аккомпанемент своего рубанка; а в мастерской слесаря мерные удары молотков раздавались серебряным звоном. Затем, почти в каждом открытом окне, на фоне нищенской обстановки, виднелись перепачканные и смеющиеся рожицы ребятишек или спокойный профиль женщины, наклонившейся над бельем. Возобновилась работа, прерванная завтраком, мужчины разошлись по мастерским, в доме водворилась глубокая тишина, нарушавшаяся только звуками работы и усыпительным припевом ремесленника, всегда одним и тем же, повторявшимся в течение целых часов. Только двор был сыроват. Если бы Жервеза жила здесь, она предпочла бы квартиру на солнечной стороне. Она сделала несколько шагов, вдыхая характерный промозглый запах бедных квартир, давнишней пыли, застарелой грязи, но так как острый запах красильной господствовал над всеми, то она нашла, что здесь все же не так дурно пахнет, как в гостинице «Бонкер». Она даже наметила себе окно в углу, налево, с ящиком, в котором росли испанские бобы; их тонкие стебли уже начинали обвиваться вокруг веревочной беседки.
– Я вас заставил дожидаться, а? – раздался голос Купо над самым ее ухом. – Вечно выходит целая история, когда я не ужинаю у них; сегодня особенно, так как сестра купила телятины.
Заметив, что она слегка вздрогнула от неожиданности, он продолжал, следя за ее взглядом:
– Вы осматривали дом. Всегда битком набит сверху донизу. Триста жильцов, кажется… Будь у меня мебель, и я бы нанял здесь каморку… Тут славно, не правда ли?
– Да, тут славно, – пробормотала Жервеза. – У нас в Плассане куда меньше народа. Посмотрите, какое милое окошечко, вон, в пятом этаже, где бобы.
Тогда, в своем упрямстве, он снова спросил, согласна ли она. Как только у них наберется денег, чтобы купить кровать, они поселятся здесь. Но она обратилась в бегство, поспешила на улицу, требуя, чтобы он не повторял этих глупостей. Пусть этот дом развалится – она никогда не будет ночевать в нем под одним одеялом с Купо. Однако Купо, расставаясь с нею перед квартирой мадам Фоконье, задержал на минуту ее руку в своей, и она дружески допустила это.
В течение месяца хорошие отношения между молодой женщиной и кровельщиком не прекращались. Он находил ее молодцом, видя, как она убивается над работой, возится с детьми, да еще находит время шить по вечерам. Есть женщины-неряхи, гулящие, обжоры, но она не из таких, черт побери! Она серьезно относится к жизни. Жервеза смеялась, скромно отнекивалась. До своего несчастия она тоже не всегда была благоразумной. И она намекала на свои первые роды, в четырнадцать лет, вспоминала о бутылках анисовки, истребленных в обществе матери. Опыт немножко образумил ее, – вот и все. Не следует думать, будто у нее сильный характер, напротив, она очень слаба; она шла, куда ее толкали, чтобы не огорчить человека. Ее мечта жить в порядочном обществе, потому что дурное общество – обух, оно вам разбивает череп, оно уничтожит женщину так живо, что и оглянуться не успеешь. Она содрогалась при мысли о будущем и сравнивала себя с монетой, брошенной вверх; упадет ли она орлом или решеткой – дело случая. Все, что она уже видела, дурные примеры, бывшие перед ее детскими глазами, послужили ей славным уроком. Но Купо подтрунивал над ее черными мыслями, пробуждал в ней мужество, стараясь ущипнуть ее за ляжку; она отталкивала его, шлепала по рукам, а он восклицал со смехом, что хоть она и слабая женщина, а постоит за себя. Он, балагур, не беспокоился о будущем. День да ночь – сутки прочь, вот и вся недолга. Как-нибудь всегда можно перебиться. Квартал ему нравился, исключая пьяниц, от которых давно бы пора отделаться.
Он был не дурной парень, говорил иногда очень разумные речи, любил даже прифрантиться, носил тщательный пробор сбоку головы, хорошенькие галстуки, лакированные ботинки по праздникам. К этому присоединялись ловкость и проворство обезьяны, зубоскальство парижского рабочего, вечно готового к дурачествам, которые еще шли к его молодому лицу.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу