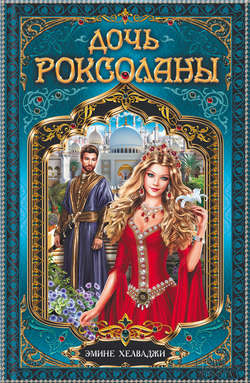Читать книгу Дочь Роксоланы - Эмине Хелваджи - Страница 4
I. Пардовый крап
2. Двойное зеркало
Оглавление– …А юные девицы из хороших семей у них зачесывают волосы вот так. – Басак-ханум показала сначала на себе, но обе девочки захихикали (уж больно она не походила на «юную девицу из хорошей семьи», тем паче венецианской), а потом, улыбнувшись, на каждой из них – поочередно. – Две заколки вот тут, по одной на боковые пряди, еще пара сверху, и все это накрывается волосяной сеткой из тонких цепочек.
– Золотых?
– В по-настоящему хороших семьях – обязательно. И с диадемой, тоже чеканного золота. Камнями ее украшать – дурной вкус считается, тут нужен жемчуг. И вокруг тройного пучка на затылке – тоже жемчужная нить. Такая. Или вот такая.
Женщина вздохнула.
– Ну, няня, жемчуга-то у нас больше, чем у всех этих юных венецианок вместе! – утешила ее та девочка, над которой она сейчас трудилась. – И золота тоже. Мы ведь из самой хорошей семьи!
Они снова хихикнули и, лишь мимолетно бросив взгляд в зеркало, начали вертеться друг перед другом – им так было куда привычнее. Придирчиво осматривали новые прически, трогая, поправляя каждую прядь, бурно споря по поводу того, хорошо ли она лежит и какой жемчуг тут смотрится лучше – искристый кивилцим или розовый пембе.
Няня и кормилица украдкой переглянулись.
– А есть и другие прически, еще красивее, – заговорила Басак-ханум, может быть, чуть торопливее, чем обычно, – вот, посмотрите, как раз к вашим кудряшкам.
Она быстро перелистала книгу и распахнула ее на странице с изображением стройной светлоликой девушки с длинными белокуро-рыжеватыми локонами, волнами ниспадающими до плеч.
– Да ну ее, няня, такие у нас все носят, – отмахнулась одна из девочек, – и служанки Гюльфем-хатун, и старшая банщица, хотя она-то с такими локонами на заросшую верблюдицу похожа. – Девочка прыснула. – А вот тот зачес, что ты нам сделала, это да… Как он, говоришь, называется?
– Делла Франческа, – чуть помедлив, ответила няня. – А второй – ди Креди. По имени той, которая под венец шла с таким вот волосяным убранством. Была это внучатая племянница дожа… вот уже и забыла, какого именно. Да и ее-то имя помню лишь по прическе.
На сей раз обе девочки засмеялись одновременно. Они вообще были хохотушки.
– Няня! Ты… ты такое носила? Может, у тебя и локоны тогда светлые были?
– Отчего же нет, – сейчас в голосе женщины звучала легкая грусть, – очень даже были. И кожа молочного цвета, как на этом вот рисунке. Для этого особые шляпы есть. Поля широкие, чтобы лицо в густой тени, а верх открыт: волосы пропусти сквозь него, потом служанка их тебе волной по спине рассыплет, расчешет черепаховым гребнем… И сиди себе на балконе, позволяй солнцу их выбеливать. Основное занятие для юницы из хорошей семьи. Чтоб когда под венец идти, твои локоны если не льняного цвета были, то хотя бы пшеничного. Зря, что ли, думаете, меня «Басак» прозвали?
Девочки промолчали, явно растерявшись. Такое с ними бывало редко.
– Так я и говорю, – спохватилась Басак-ханум, – к вашим кудряшкам ди Креди лучше подойдет. Вам-то волосы осветлять незачем, они у вас и так золотистые: что от отца, что от матушки.
Кормилица, все это время молчавшая, одобрительно кивнула и тем привлекла к себе внимание одной из девочек.
– Скажи, Эмине, а ты тоже была вот такая? – Девочка жестами показала нечто стройное и пышноволосое в духе того рисунка, на котором была изображена венецианка с прической ди Креди. – То есть давно, в прежние годы?
– «Такая» я не была, – по губам Эмине-ханум, полногрудой и крутобедрой, скользнула улыбка, – а вот молодой быть довелось. И совсем не так уж давно. Ну, слушайте няню, роднульки мои, будьте умницами. Сами ведь знаете, почему вам так волосы убирать негоже…
Две последние фразы она произнесла на «матушкиной молви», Басак-ханум непонятной. Однако няня безошибочно догадалась:
– Так, озорницы, кому сказано: делла Франческа не для вас. Если хотите знать, венецианки вообще лица посторонним показывают реже, чем женщины и девушки правоверных. У нас… то есть там, маску-бауту сплошь и рядом носят даже внутри дома… кажется… Вам бы точно не помешало!
– А мы не просто внутри дома, мы в своих покоях! – фыркнула старшая из девочек. – Не хватало нам чадру носить, хоть бы даже и во дворце!
Тем не менее она послушно отошла в угол комнаты, опустилась, скрестив ноги, на подушки. Кормилица склонилась над ней с гребнем в руке.
Младшая девочка (впрочем, она была младше всего на полчаса, тем не менее это имело значение), непокорно тряхнув зачесом делла Франческа, осталась стоять возле столика с зеркалами.
– Скажи, няня, – с любопытством поинтересовалась она, – а ты, когда была «Басак», и вправду никому лица не показывала? Или специально придумываешь? Ну, из-за… – Девочка сделала незавершенное движение рукой.
Басак-ханум давно уже была не басак, не «пшеничноволосая». Но Эмине-ханум, безусловно, всю жизнь оставалась эмине, «верная и надежная».
Имя старшей девочки было Михримах, «Солнце-и-Луна». Младшая же девочка…
Ее чаще называли Разия, хотя, вообще-то, она звалась Орыся. Но дело в том, что этого имени как бы не было. И ее самой – тоже.
* * *
…Шаги в коридоре приблизились внезапно и быстро – множественные, стремительные, мужские и юношеские. Так в этих коридорах, вообще-то, ходить не полагается. Няня с кормилицей разом побледнели.
Но прежде в покои, просеменив на цыпочках, успела скользнуть женщина, одна из доверенных служанок. Доверенных, однако не самого ближнего круга. Поэтому она, даже в панике строго соблюдая приказ, усвоенный давно и намертво, застыла у самой двери, не приближаясь ни к одной из девочек более чем на десяток шагов.
«Шахзаде!» – беззвучно прошептали ее губы.
«Какой?» – так же беззвучно спросила няня, как будто это имело значение.
Ответить у служанки времени уже не было, она едва успела чадру на лицо опустить. Дверь рывком распахнулась.
Как оказалось, все трое. Шахзаде Мехмет, шахзаде Селим и шахзаде Баязид. А за их спинами в коридоре еще и лала-паша маячил, почтительно держась на пару шагов позади.
Шахзаде, наследники престола, имеют право ходить… да можно сказать, повсюду. Никто не решится закрыть перед ними какую-либо дверь. Особенно сейчас, когда нового, настоящего гарема, по сути, нет вообще (поскольку единственная хасеки в нем – их общая мать), а тот, что называется «старым гаремом», сильно потерял в запретности. Мехмету, старшему из всех шахзаде, что сейчас в столице, уж точно путь не преградят. Впрочем, дверь распахнул Баязид, самый младший, неполных десяти лет от роду…
Все склонились перед тремя шахзаде именно так, как того требовали правила. Все, кто были в покоях: четыре служанки и сестра.
Сестра, впрочем, сразу выпрямилась. Глянула на братьев с девчоночьей вредностью, так что средний из них, Селим, даже попятился.
– Тесен дворец, больше ходить негде? – спросила она.
– Мы в отцовском доме! – немедленно ответил Баязид. – Где хотим, там и ходим!
Ну конечно, разве может без него хоть что-нибудь обойтись! По ехидной зловредности и стремительной решительности действий ли, поступков ли он точно опережал всех братьев, а временами и сестру.
– Ой, молодые господа, гоже ли вам посещать отцовский гарем… – начала было Басак-ханум, но двое из трех «молодых господ», старший и младший, немедленно рассмеялись.
– У отца нет гарема, – солидно, как он все делал, произнес Мехмет, – у него есть наша матушка. А если ей угодно называть покои своей дочери и своих служанок гаремом, так это ваши дела, женские.
– Сегодня в покои ко мне без спроса зашел, – сказала девочка и, полуотвернувшись от старшего брата, взяла со столика зеркало, – завтра со служанок моих чадру сорвешь…
– Еще не хватало! – Мехмет рассудительно покачал головой. – Мужчине в женские дела вмешиваться – только себя ронять. Раз уж решила матушка отчего-то ввести обычай, что все твои ближние служанки должны носить чадру, – вольно вам всем.
Собственно, на этом разговор мог и завершиться, тем более что девочка, явно утратив интерес к спору, принялась рассматривать себя в зеркале и прихорашиваться. Мехмет уже повернулся к выходу, а ожидавший в коридоре наставник чуть отступил, готовясь пропустить своих подопечных мимо себя и сопроводить их прочь из женской части дворца.
Только так все и должно было произойти в следующие мгновения. Если бы не Баязид.
– Должны носить чадру, должны! – закричал он в восторге. – Чтобы никто не видел, какие они уродины! А еще – чтоб не было видно: они все равно красивее тебя! И она, – он ткнул пальцем в сторону Эмине-ханум, которая только хмыкнула, сложив руки на полной груди, – и она… – Во второй раз его рука указала на самую юную из служанок, почти неразличимую за спинами няни и кормилицы, робко переминавшуюся с ноги на ногу возле дальней стены.
Служанка, издав возглас испуга, уклонилась от направленного на нее Баязидова пальца, словно тот был копьем.
Следующая минута была наполнена рыданиями, воплями и бранью. Рыдала юная служанка, в ужасе отбежав в самый темный угол покоев и скорчившись там на полу, слезно причитала служанка возле дверей, а вот Басак и Эмине, уперши руки в бока и придвинувшись к шахзаде почти вплотную, высказывались сочно и цветисто, гневно и громогласно. Прямо как торговки на чаршы-сы (или, как теперь пошла мода называть рыночную площадь, базар-майдан), где, впрочем, кроме них самих, никто из здесь присутствующих в жизни не был, а потому оценить это сравнение не мог.
– Ладно тебе, няня, – звонко сказала девочка, и все как-то разом смолкли. – И тебе будет, кормилица. Не злитесь. Было бы на кого. Или вы забыли: Джихангирчик маленький еще совсем…
Издевка была едкой: Джихангиру, четвертому из шахзаде, пока не сровнялось и трех годков, ему еще нескоро надлежало обретать юношеские привычки, потому его сейчас со старшими братьями и не было, он покамест поручен женской опеке, а не наставнику-лале.
– Сама с малышом якшайся, тебе и подобает! – запальчиво ответил Баязид, не осознавший, что его, можно сказать, сравнили с младенцем, и поэтому задетый гораздо меньше, чем рассчитывала сестра.
– Ну да. Мне – с малышом, а тебе, взрослому, с санджак-беем Манисы.
Это была фраза то ли отчаянно дерзкая, то ли просто странная. Услышав такое, прямо-таки не знаешь, как поступить.
Впрочем, не знал этого скорее шахзаде Мехмет, на год старше сестры, уже, можно сказать, юноша, целых пятнадцать ему. То есть он знал, что в таких случаях мужчине, а хоть бы и юноше, надлежит делать с женщиной, равной ему по статусу. Надлежит ударить так, чтобы она замолчала. В Блистательной Порте не только мужчины, но и юноши поступают именно так. С равными, конечно.
С теми, кто по статусу ниже (а перед шахзаде Блистательной Порты все таковы… ну, почти все), подобный вопрос и возникнуть не должен. Им просто не дадут возможности сказать или сделать такое, за что шахзаде их собственноручно ударить должен.
* * *
Санджак-бей Манисы. Мустафа. Тоже шахзаде, наследник султана – старший наследник. Всем им брат, но… брат единокровный. По отцу, блистательному и несравненному Сулейману Кануни, тени Аллаха на земле, халифу правоверных, у которого ищет убежища всякий обиженный.
Отец действительно кануни, справедлив. Однако матери его детей… враждуют они, чего уж там говорить. Иначе в Блистательной Порте и не бывало.
Сейчас верх Хюррем-султан, их собственной матери. Но, может, потому что та, другая, уехала со своим сыном Мустафой в санджак Манису. Куда тот отправлен, как сказали бы франки, губернатором. Чтобы набираться мудрости и государственного опыта в управлении: сперва ключевым санджаком, а там, много лет спустя, и всей Портой, надо думать.
Потому что главный наследник – он. Старший из сыновей. Воистину справедлив блистательный Сулейман: даже если и правда, что из всех сынов чресел своих он больше других любит второго, Мехмета, престол – первому. Хотя бы потому, что он того достоин.
И вправду достоин. Совсем уже взрослый юноша Мустафа, девятнадцать ему. Отважен, гибок умом и щедр сердцем. Всем хорош он как будущий султан.
Даже как брат он, если говорить честно, хорош.
Быть бы ему не только единокровным, но и единоутробным…
Однако иначе распорядилась судьба – и он не таков. Потому он на одной стороне, а трое младших шахзаде (точнее, четверо, считая маленького Джихангира) – на другой.
Что бы сами они о себе не думали. И что бы не думал Мустафа.
* * *
Все это Мехмет знал. Но, похоже, как-то усомнился, что ему сейчас до́лжно ударить сестру. Прежде меж ними такого не водилось.
А еще он, кажется, вдруг усомнился, что это получится. Да, она и младше, и девчонка, а он-то обычаи юноши уже несколько лет усваивал вполне успешно, лук и сабля ему привычны были, а они со слабой рукой не дружат. Но вот – усомнился.
Баязид же не сомневался ни в чем и никогда. Так что он стремительно метнулся вперед, норовя вцепиться сестре в волосы. И даже в самом деле вцепился, потому что она отшатнулась с какой-то странной для себя неловкостью.
Тут последовало то, что на базар-майдане бывает, конечно, причем очень часто, – но только не в старых приличных бедестанах, где продаются благовония, ковры, рабы, зеркала (во всяком случае, хорошие), ювелирные украшения (во всяком случае, настоящие) и сталь (во всяком случае, достойная воинской руки). А вот за пределами крытых рядов, то есть там, где торговцы, сидя прямо на земле, хрипло зазывают купить непременно у них старую глиняную посуду, поношенную обувь и позолоченный свинец вместо драгоценностей, где в толпе шныряют карманники, где не продохнуть от запаха уксуса и сумаха, – там да, без такого рынок не рынок.
Никто и слова сказать не успел, как Баязид, шипя от боли, тряс в воздухе пострадавшей рукой (хныкать он, надо признать, не хныкал, такого за ним с малолетства не водилось), а девочка, лишь слегка растрепанная, стояла посреди комнаты, воинственно сверкая глазами на всех своих братьев разом и сжав в ладони рукоятку маленького зеркальца, как сабельный эфес.
Мехмет так и замер с раскрытым ртом. Степенность и осознание собственного старшинства сыграли с ним злую шутку: он промедлил сделать хоть что-либо, а теперь уже, наверное, и поздно было.
Селим, за все время так и не сказавший ни слова, попятился к выходу. Смотрел он в пол, а по лицу его мелькали не поймешь какие тени. Впрочем, это-то как раз привычно, Селим не только сейчас такой, но и всегда, все почти тринадцать лет своей жизни: молчаливый и, что называется, «в тенях». Странный он парнишка. Зла от него никто не видел, но, должно быть, это все-таки хорошо, что ему, при всех обстоятельствах среднему сыну, султаном вряд ли когда предстоит быть.
Пауза зависла надолго, однако чем-то прорваться она все же была должна.
Баязид в последний раз тряхнул рукой, убедился, что она на месте, и злобно ощерился, как волчонок перед прыжком. А Мехмет, как видно, решил, что бездействие наносит ему, старшему брату, гораздо больший урон, чем хоть какой-то поступок, даже ошибочный или опасный. И шагнул вперед.
Но тут в покоях словно бы разом стало теснее. Это через порог, пригнувшись, чтобы не задеть чалмой о мраморную притолоку, ступил лала-Мустафа.
* * *
Он был из тех евнухов, которых называют сандала, то есть «срезано все». Такие ценятся гораздо выше и, само собой, достигают при дворе куда более значимых должностей, чем обычные семивиры, у которых срезано лишь кое-что. Лала, наставник султанских сыновей, – должность наивысочайшая, не случайно и вовсе не в насмешку его иной раз лала-паша именуют. Евнуху, что приставлен к султанской дочери, никогда выше звания аги не подняться.
Ага, «старший», тоже, конечно, немало, но это ведь «звание силы», подобно тому, как эфенди – звание книжной премудрости. Оба они примерно равны друг другу, хотя и противоположны. Когда ага командует отрядом в бою, под рукой у него обычно десятки человек, редко-редко немногие сотни. При дворе мера того, что под рукой, конечно, иная, хотя ответственность порой даже больше, чем в бою. И опасность больше.
Однако лала – звание и силы, и премудрости. То есть – могущества. Прямо сейчас у него этого могущества может не так уж и много, но кто знает, как там дальше сложится… Всем известно, что лала Шахин-паша настоящим пашой сделался. Двумя провинциями управлял, в двух полевых сражениях и в пяти успешных осадах был командующим, десятки тысяч ходили под его рукой.
Давно это было, правда. В ту пору, когда еще не считалось, что наставником шахзаде может быть только евнух.
Но могущество могуществом, а у тела свои законы. Если таким, как семивир, человека могут сделать в любом возрасте, то таким, как сандала, – только в нежные годы, иначе не выжить после операции. К тому же оскопление в столь раннем возрасте еще кое-какие последствия имеет.
Тело сандалы (да и семивира, если стал он евнухом в такие же годы, – но так бывает редко, сущее расточительство это) не знает тех сроков и пределов, которые отведены подростку, юноше, мужчине. Только один рубеж ему ведом: старость, в которую евнух шагнет не раньше обычных людей, в положенные годы, – зато как бы прямо из отрочества. Потому что сандала продолжает расти. Всю ли жизнь, даже до самой старости ли – это чуть по-разному бывает. На пятом десятке рост в любом случае становится малозаметен, это специально измерять надо для полной уверенности, а все те века, которые существует гарем, доселе ни у кого не возникало такой необходимости, да и сугубого желания.
Тем не менее до трех с половиной локтей такие евнухи дорастают точно.
В лале-Мустафе было три локтя с четвертью, это если без сапог и чалмы считать. Тоже вполне достаточно, чтобы все мгновенно смолкли и замерли на полудвижении.
А как ударил он в пол своей ротанговой тростью, которая для человека обычного роста за посох сойдет, так и вовсе дыхание затаили. Не только старший из шахзаде, но даже и до дерзости бесстрашный Баязид. Селим вообще чуть ли не втянулся в глубину своего кафтана, как улитка в раковину.
– Прости меня, госпожа Михримах, – ровным голосом произнес лала-Мустафа, обращаясь к девочке. – Я виноват. Мне надлежало, приближаясь к твоим покоям, прокричать «Дестур!».
– Прощаю тебя, достойный Мустафа, – церемонно ответила та. – Не столь уж и велика твоя вина. Не сомневаюсь, что, просто проходя по гарему, ты, как и подобает, всегда кричишь «Дорогу!», но странно бы делать это, препровождая ко мне моих же братьев. А что один из них неправильно повел себя с моими служанками, так это по малолетству.
Баязид гневно втянул ноздрями воздух, но евнух вновь пристукнул тростью по полу – и ни слова произнесено не было.
– Благодарю, госпожа Михримах. – Лала поклонился. – Надеюсь, то же самое ты скажешь и своей матушке-хасеки, госпоже Роксолане, да исполнятся все ее чаяния.
Прозвание «Роксолана» во дворце совсем не в ходу – разве что среди дипломатов из франкских посольств оно ходит, причем как секретное, когда другим не нужно знать, о ком идет речь (наивные: думают, что можно сохранить тайну… во дворце и в Истанбуле вообще). Поэтому сейчас всем пришлось потратить несколько мгновений, чтобы понять: евнух использовал это имя как дополнительно величальное, вроде «прославленная даже меж сановными чужеземцами». Пожалуй, он даже чуть перемудрил в своем стремлении выказать почтительность, но само стремление понятно.
– Вовсе незачем беспокоить матушку такими рассказами. Да и рассказывать-то не о чем. – Та, которую евнух назвал Михримах, небрежно махнула рукой.
– И за это благодарю тоже. А сейчас мы оставляем тебя.
Мустафа ступил назад – и с первого же шага оказался в коридоре. Трое мальчишек, не медля и стараясь ступать беззвучно, тоже просеменили прочь из комнаты, делая по два шага на один шаг наставника, а Баязид так и два с половиной.
Доверенная служанка подскочила было к двери, чтобы закрыть ее изнутри – оглянулась, увидела, как на ней скрестились все взгляды, и, поклонившись, выскользнула прочь, затворив дверь снаружи, за собой. Теперь в покоях остался только самый ближний круг. Но кормилица сперва все-таки поспешила к входу и, выглянув, удостоверилась, что служанка действительно убралась с глаз долой, а главное – со слуха подальше. Убедившись, что опасность миновала, все равно так и осталась при двери, на страже.
– Ну, вы сегодня с огнем играли, девоньки… – обессиленно произнесла няня.
– Мы? Это братики наши по огню гуляли! – бойко и совсем без следа недавних слез (да взаправду ли они были?) возразила одна из девочек, та, на которую кормилица с няней успели набросить головную повязку с легкой чадрой. Эту чадру она как раз сейчас и сняла, открывая лицо.
Такое же лицо, как и у второй девочки.
Не отличить. Особенно сейчас, когда у обеих волосы, свободно распущенные, струятся вдоль щек.
– Да уж как сказать…
– Так ты ведь, няня, им все и сказала сразу, – ответила вторая девочка, по-прежнему не выпускавшая из рук зеркальце. – Рано мальчишкам слоняться по гарему. А по отцовскому гарему – тем более!
– Ты, умница, уж лучше молчи! – Басак-ханум укоризненно покачала головой. – Тебе только и надеяться теперь остается, что эта овца яловая, – няня кивнула подбородком в сторону коридора, где давеча скрылась служанка, – действительно не осмелится беспокоить вашу матушку таким рассказом. Ведь ее же, овцы́, просчет! Ну, я ей еще задам… Однако если все-таки расскажет, ох и прогуляешься же ты в комнату для одеяний, «госпожа Михримах»!
При этих словах порывисто вздохнула не Орыся, стоявшая с зеркальцем в руках, а настоящая Михримах, только что сбросившая чадру. В комнате для одеяний действительно хранились запасные одежды султанских дочерей (точнее, как считалось сейчас, султанской дочери и ее любимой служанки-наперсницы, которой дозволено донашивать платья госпожи), но было у нее и… другое назначение, совсем особое.
– А вот и нет, – спокойно возразила Орыся, наконец положив зеркальце на столик, – хасеки-хатун меня даже похвалит. Я ведь что сделала? Пальцем даже не шевельнув, привлекающих чей-то взгляд движений не сделав, только обидные слова сказав – руками нашего младшенького закрыла «шайтанову метку». Да так, что ни он и никто другой ничего не заметили.
Няня, подумав, склонила голову в знак признания правоты. Да, наилучшим образом поступила младшая из сестер. И действительно, мать, если узнает, хотя лучше бы ей все-таки не узнавать, сочтет ее действия достойными скорее похвалы, чем наказания.
Блистательная хасеки, Хюррем-султан, супруга султана и правительница его гарема, из нее одной состоящего, надо признать, не слишком внимательна к тому, что творится с ее детьми – девочкой (девочками!) и мальчиками. Правда, до тех пор, пока это не коснется одного – подлинной опасности. Вот тут чутье ее безошибочно, действия стремительны, а решимость подобна отваге пантеры, защищающей свое логово.
– Мальчишки вообще ничего не замечают, они такие, даже Мехмет, – подтвердила Михримах. – А вот лала…
Няня снова кивнула. Лала-паша, не будь он умен и приметлив, до своих нынешних лет вряд ли дожил бы, а уж звание наставника точно не смог получить бы. Он, конечно, в дворцовой большой игре на стороне хасеки, ведь он же наставник ее детей, но… Вот именно, что слишком уж много «но» в этой игре. Иные из них, сейчас маловажные, почти не заметные, через годы могут стать решающими. И неизвестно, как все повернется.
Поэтому лучше не давать лишнего знания никому, даже явному союзнику.
– Как он своих питомцев резво увел, да и сам прочь заспешил! – усмехнулась стоявшая у двери кормилица, которая, конечно, слушала их разговор. – Право слово, девоньки, ему будто вживую увиделось, как за вашими плечами Узкоглазый Ага стоит!
Сестры недоуменно переглянулись друг с другом.
– Так и было, – выразила общую мысль Михримах. – Конечно же, Доку-ага всегда стоит за нашими плечами.
– Даже когда он далеко, – завершила Орыся.