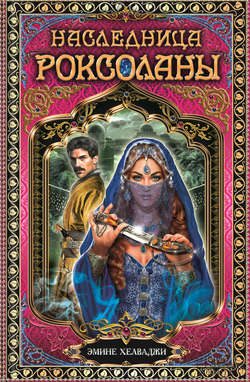Читать книгу Наследница Роксоланы - Эмине Хелваджи - Страница 2
Оглавление1
Амасья – город старый, очень старый, помнящий понтийца Митридата, римлянина Лукулла… Страбон, гяур, живший тут в далекие времена, – тот вообще утверждал, будто бы заложила этот город царица амазонок Амазис. Ну, вообразить себе женщин, бегающих по огромной скале голышом и воинственно потрясающих копьями, правоверный, конечно, может, но делать этого не станет, если он воистину правоверный. А то вообразится еще, чего доброго, в таком виде почтеннейшая матушка твоей достойной супруги и окажешься потом в Бимархане – доме, где лечат скорбных разумом звуками воды и музыки… И кто сказал, что тебя там вылечат?
Милость Аллаха на Амасье – вот и все, что надо знать правоверным. Сколько народов живет здесь, а еще больше – по деревням, и все как-то уживаются. Не иначе милостью Аллаха, а как же еще? Мир огромен, людям в нем всегда земли не хватает, вот и воюют они раз за разом, а тут, в Амасье, грек и татарин, турок и армянин – все торгуют на одном базаре, все дышат одним воздухом. Ну а если случаются между ними драки, так это дело житейское: вот в Истанбуле…
Тут говорящий, даже не понижая голоса, рассказывал обычно очередную сплетню, а то и байку про хитрого вора или про гаремные дела, про роксоланку-Хюррем, с открытым лицом сидевшую перед художником-гяуром, или еще про какие каверзы, которые иблис будто из бездонного мешка высыпал на головы обычных жителей столицы. И слушатели соглашались – да, хорошо, что мы живем в благословенной Аллахом Амасье, а не там, где иблис давно уже смущает умы правоверных, и не сказать, что делает это безуспешно.
Почтенный Аджарат такие байки выслушивал довольно равнодушно. Дела, происходящие за пределами Амасьи, казалось, не трогали его вовсе, если, конечно, разговор не касался цен на зерно и грузоперевозки. Такие вещи всегда интересовали любого уважающего себя амасьинца, даже того, чье имя переводилось как «пришелец из дальних краев, бежавший от кровной мести», и, если вдуматься, именем не было вовсе… Но тем и благословенна Амасья, что тут не задают лишних вопросов. Особенно людям, носящим такие имена, которые в любом другом месте вопросы бы вызвали.
Но не в Амасье. Здесь хватает людей, подобных почтенному Аджарату, с именами, говорившими подчас куда громче, чем сам человек.
Аджарат приехал в Амасью не один, а с семьей. О его жене по имени Эдже известно было еще меньше, чем о нем самом: женщина почти не появлялась в людных местах, и ничего мало-мальски злого о ней не могли выдумать даже самые худые языки, как ни старались. Уже в Амасье Эдже-ханум родила близнецов, мальчика и девочку… Да нет же, почтенный рассказчик, ты ошибаешься, Эдже появилась тут уже с младенцами на руках… А вот даже и ты ошибаешься, не менее почтенный, не такими уж младенцами были эти близнецы: то ли около года им было, то ли даже двухгодовалыми их увидели здесь… Да и ладно. Об этих близнецах, носящих единое имя «Джан», то есть «душа», как раз многое можно было бы сказать, да только не болтали в Амасье о чужих детях. Вот вырастут, тогда будет о чем говорить, а пока малы еще для серьезных взрослых пересудов.
Впрочем, сам Аджарат тоже редко становился мишенью для сплетен. На острое словцо он умел ответить остротой, на почтительную речь – добрым словом, а подзуживать и стравливать людей между собой пришелец не любил, чем почти сразу снискал меж соседей расположение. Поселился он в квартале тихом, пользующемся достойной славой, дом купил у человека достойного, да и сам ни в чем дурном замечен не был – что еще надо для амасьинцев, чтобы признать пришлого своим? Да почитай что и ничего!
И лишь когда случилось то, что случилось, поползли по Амасье слухи, обрастая по пути вымыслами столь удивительными, что даже шейхи среди рассказчиков, услышав подобное, утратили бы важный вид и залились бы горькими слезами, сетуя на злосчастную судьбу, лишившую их дара красноречия. И была истина в этих сплетнях погребена столь же глубоко, сколь личинка прекрасной бабочки погребается в коконе тутового шелкопряда.
Если же распутать нити этого кокона, то выйдет вот что…
* * *
Сейчас уже даже сам шахзаде Мустафа не мог с уверенностью сказать, что чувствовал и о чем думал, пускаясь в эту авантюру. Вспоминал ли о Гаруне-аль-Рашиде или просто оказался в чужом городе и решил развлечься? И не юнец же вроде бы, а вот поди ж ты…
Над Амасьей зажигался удивительный закат, каждый раз потрясавший шахзаде своей дикой, мучительной, почти первозданной прелестью. Краски его были горячи, как норов необъезженного жеребца, как споры ученых улемов – те, на которых вырывают друг другу бороды, как разнузданные женские ласки, о которых любят поговорить юнцы, не ведавшие еще любви. В Истанбуле не так. Впрочем, в Истанбуле все не так.
Там не удерешь из своего дворца, в котором ты то ли владыка, второй после отца, великого султана, то ли бесправный пленник… А здесь – запросто: иди себе по улицам, изображай беспутного гуляку, каковых хватает в любом городе. И Амасья не исключение.
Впервые в жизни шахзаде Мустафа шел по городским улицам.
Шел. Своими ногами. Один, а не в окружении свиты и охраны. Один-одинешенек, открытый всем ветрам, обряженный в спешно украденный (стыд-то какой, сладкий и жгучий одновременно!) у одного из охранников жилет-йелек, какой носил в Амасье едва ли не каждый первый мужчина. Шел и любовался закатом.
Семь мостов перекинуто через Ешиль-Ирмак, реку, разделяющую Амасью на две части. Одна прижалась к подножию горы Харшена, той самой, с которой, по старинной легенде, сбросился вниз прекрасный художник и архитектор Ферхад, узнавший о гибели возлюбленной своей Ширин. Жил ли тот Ферхад на свете, был ли только красивой легендой – эту тайну гора Харшена хранила свято, а вот каналы, якобы прорубленные сквозь скалу этим самым Ферхадом, стремящимся добиться руки возлюбленной, до сих пор поили водой половину города. Вторая часть Амасьи была попросторнее, улицы на ней немного пошире, но дома все те же: двух-и трехэтажные ялыбою теснились друг к другу, стремились прилепиться стена к стене, словно в городах гяуров. Да, многим, очень многим Амасья отличалась от Истанбула!
И все же прошли времена, когда город этот носил гордое прозвание «шехзаделер», то есть место, где обучались основам управления султанские сыновья, прежде чем занять высокий престол Оттоманской Порты. Теперь разве что старики рассказывали молодежи о тех славных деньках. Молодежь скучающе кивала – слышали, как же, слышали не раз и не два – и шла заниматься своими делами: ловить рыбу, плести сети, выращивать яблоки или варить черешневое варенье…
Ничего. Все вернется. Ведь имел же отец что-то в виду, отправляя своего наследника в эту глушь! Может, хотел, чтобы шахзаде своими глазами увидел, как живут люди, не связанные с гаремом ничем, кроме славных баек, которые хорошо травить на базаре или в чайхане.
Мысль о том, что отец просто сплавил неугодного роксоланке-Хюррем отпрыска куда подальше, Мустафа от себя честно гнал. Но даже если и так, даже если подумать о султане худое, разве не велел Аллах терпеливо сносить тяготы и всюду, где бы ты ни был, жить праведно? А там и вознаграждение не замедлит себя ждать. Да и какие тяготы, если Амасья столь восхитительно не похожа на Истанбул и ты можешь безвозбранно ходить по ней, улыбаясь в бороду и представляя ошарашенные лица охраны?
Солнце уже почти нырнуло за крыши домов, а гора Харшена из темно-серой с зелеными прожилками стала темно-фиолетовой, словно отчаянно желая хоть в сумраке слиться окраской с ночным небом, когда из-за очередного поворота вынырнула странная троица.
Случайными грабителями они не были – по крайней мере шахзаде Мустафа понял это сразу, стоило ему увидеть этих троих, закрывших лица черными платками. Шахзаде не слишком-то смыслил в грабителях, да и как же ему повстречаться с ними в Манисе, где за каждым шагом его бдительно следили если не янычары, так советники, а не они – так отцовские шпионы? Еще меньше шансов повстречаться с этими отродьями иблиса было в Истанбуле, где шахзаде вообще не покидал пределов дворца. Да, в грабителях Мустафа не понимал практически ничего. Но вот хорошо обученных убийц видел не единожды.
А охрана небось сейчас обыскивает дворец сверху донизу…
Звезды в безлунном небе давали мало света – окна соседних домов светились куда ярче. Но Мустафа готов был поклясться, что холодный блеск стали он увидел именно в блеске ярко сверкнувшей звезды.
От первого удара удалось отшатнуться, но дальше отступать было некуда. Стена ограждавшего дом глиняного дувала, о которую шахзаде чувствительно приложился, на ощупь оказалась шершавой и чуть теплой, будто не хотела отдавать ночному воздуху тепло, накопленное за долгий безоблачный день.
Следовало кричать, бежать, делать хоть что-то, но шахзаде молча стоял и смотрел, как убийца заносит руку для удара. В голове стремительной ласточкой носилась лишь одна мысль: только бы не отец. Пусть этих убийц пошлет не отец. Пусть Аллах убережет султана от такого греха, за который не расплатиться на том свете ни простолюдину, ни правителю.
Хюррем, братья, кто угодно – мало ли на свете заговорщиков? Но только не отец.
Семь мостов перекинуто через реку Ешиль-Ирмак. Жаль, побывать удалось лишь на четырех из них. Мустафа как раз направлялся к пятому. Ах, жаль.
Убийца сделал шаг – и вдруг рухнул, упал лицом вперед, так что шахзаде пришлось отпрянуть, дабы тело не свалилось прямо на него. Двое других обернулись – дружно обернулись, не сговариваясь, так слаженно, как и не снилось некоторым из охраны Мустафы. В тот же миг сталь звякнула о сталь, а шахзаде увидел своего нежданного спасителя.
По всей улице яростно взревели во дворах сторожевые собаки, но ни одна дверь не распахнулась. Трое танцевали друг против друга – на границе вечера и ночи, жизни и смерти; плясали молча, лишь их клинки изредка перекликались звонкими чистыми голосами.
Отсутствие оружия шахзаде сейчас ощущал как физическую боль. Но… у него ведь есть оружие, точнее, есть возможность его добыть – оружие его несостоявшегося убийцы, первого из троих!
Немощеная улица казалась сейчас рекой, до дна которой никакой свет не дотягивался: на уровне колен расплывалась густая тьма, мертвец канул в ней, оброненный им клинок (ятаган?) тоже. Мустафа торопливо зашарил в темноте, нащупывая невидимое. Эфес скакнул ему в руку, а мгновение спустя звенящая перекличка вдруг резко вскипела, как бывает перед завершением схватки… и шахзаде опоздал. То есть он стремительно шагнул к сражающимся, даже успел принять на ятаган качнувшуюся к нему черную фигуру, но этот удар был уже лишним.
Второй убийца качнулся в его сторону, не атакуя, а падая. Третий тоже оседал на землю – так, как падают не раненые, а убитые, тонул в потоке тьмы, таял в нем.
Шахзаде во все глаза смотрел на человека, рискнувшего вступить в схватку с тремя обученными убийцами, лишь бы защитить невинного прохожего, о котором и не знал-то ничего. А тот вытер саблю, кивнул коротко и собрался уходить, не желая награды и не спрашивая ни о чем.
– Погоди, воин. Как зовут тебя?
Незнакомец обернулся. Сверкнули в короткой улыбке зубы.
– Я не воин. И мое имя – Аджарат.
Чем-то странным дохнуло на Мустафу и от этого имени, и от всей этой сцены под звездным небом Амасьи. Чем-то, о чем ранее писали поэты, прославляя не дела любовные, но воинскую доблесть и честь, воздавая хвалу походам и битвам, в которых добывалось не признание чернооких красавиц, но зéмли и слава. Тогда, в те давние времена, подобные имена были в ходу, а вот, оказывается, не перевелись и поныне, и стоит перед Мустафой воитель из тех, о ком писали давние, канувшие уже в небытие сказители.
– Подожди, не уходи, Аджарат… Как-никак ты мне жизнь спас.
Человек, чье имя означало – шахзаде сосредоточился – «беглец от кровной мести», остановился, пожал широкими плечами.
– Мне ничего не нужно от тебя.
– А вот мне нужно. – Мустафа снова пришел в себя и стал деятельным государственным мужем. – У меня для тебя есть предложение, достойнейший Аджарат.
– Сзади!
Шаг вперед. Вес на правую ногу. Резкий уклон в сторону на случай, если невидимый враг сейчас использует оружие дальнего боя. Так и есть: почти одновременен тугой гул спущенной тетивы, короткий посвист стрелы и ее тупой удар, судя по звуку, в глиняную плоть дувала на противоположной стороне улицы.
Развернулся Мустафа уже с занесенным ятаганом. А не опустил его тут же с размаху, потому что не на кого было: стрелок, хрипя, бился на дне тьмы. Вот из ее бесплотного потока взметнулась его левая рука с коротким луком, все еще зажатым в окровавленных, судорожно стиснутых пальцах… А на его спине возился зверь.
Сперва шахзаде показалось, что это крупный пес, и, значит, нашелся все-таки в одном из соседних домов смельчак, спустил с цепи волкодава, да и сам вслед за ним выскочил на ночную улицу… Но голова, приподнявшаяся над поверхностью темноты, была не собачья, и не собачьи были движения лап там, в глубине чернильной мглы: когтящие четвертого убийцу, разрывающие его тело…
Того, кто стоял рядом со зверем, трудно было назвать «смельчаком», потому что слово это мужского рода, а в фигуре неуловимо, но безошибочно угадывалась кошачья гибкость женского тела.
Кошачья…
Аджарат, без всякой учтивости отпихнув спасенного – вот уже от четвертой смерти подряд! – наследника престола, склонился над лежащим. Почти сразу распрямился, и шахзаде понял, что последнего убийцу тоже не удастся допросить.
(Хвала Аллаху. Никто не скажет, что этих людей прислал отец. Ни из страха пытки не скажет, ни спасая свою жизнь. Все! Не отец их послал!)
– Это моя жена Эдже, – ответил Аджарат на незаданный вопрос. – И Вашак-Парс. Его не опасайся, путник. Ну, прощай! И будь осторожен, пока не вернешься под свой кров.
– Постой, многодостойный Аджарат…
Мустафе стоило изрядного труда собраться с мыслями. Все-таки число странных событий, которые обрушила на него эта ночь, превышало любое вероятие. Эдже, повелительница зверя, именуемого Вашак-Парс – «рысь-леопард»?
Как бы там ни было, он, шахзаде, санджакбей Амасьи, сейчас остался жив. Благодаря этим людям. И их зверю.
А еще он хорошо знает, что в Амасье не принято задавать определенного рода вопросов. Но за спасение своей жизни принято платить везде. Даже если это спасение бескорыстно. Особенно в этом случае.
– Постой… – повторил Мустафа. – У меня, как я уже сказал, есть для тебя предложение…
* * *
Сулейман Кануни охотиться любил, и сыновьям своим старался передать страсть свою. К стыду своему, Мустафа вынужден был признать: в этом деле он отца разочаровал.
Если, конечно, отцу вообще дело было до того, как его старший сын и наследник относится к охотничьим забавам.
Там, в Истанбуле, толпы охотников собирались в Топкапы, дабы составить великому султану компанию. Орты[1] янычар отвечали за то, чтобы все ловчие звери были готовы выполнить любой приказ повелителя. Мустафа помнил, что шестьдесят восьмая орта янычар носила название «турнаджи», что значило «ловчие», и занималась дрессировкой охотничьих птиц. Ох, много птиц было у Сулеймана Кануни! Шестьдесят четвертая и семьдесят первая орты отвечали за собак, причем шестьдесят четвертая так и называлась – «загарджи», то есть «псари», а семьдесят первая натаскивала собак для охоты на медведей, и звались эти янычары «саксонджу», ибо именно из Саксонии привозили огромных тварей, которых и собаками-то язык не поворачивался назвать. Таким не страшны были ни медведи, ни барсы. Под стать своим питомцам был и начальник орты – саксонджубаши: огромный, заросший черной бородой, свирепо глядящий на мир маленькими темными глазами из-под нависших кустистых бровей… По крайней мере Мустафа запомнил саксонджубаши именно таким.
А еще люди, отвечающие за лошадей, за каракалов, за то, чтобы добычи всегда было вдосталь. И те, кто организовывает охоту – шикер-агалары, входящие в состав «людей внутреннего круга». И обслуга султанских охотничьих дворцов. И… О Аллах, да разве же всех упомнишь?
Четыреста человек в каждой орте. Несколько орт, а вдобавок охрана. Да, выезд на охоту султана Сулеймана всегда выглядел… впечатляюще.
Здесь все-таки не столь пышно, тем не менее приличия нужно соблюдать. Султан обязан охотиться, ибо так поддерживает воинскую форму в мирные дни, – и наследник ни в чем не должен уступать отцу. Ни в чем… но кое в чем просто обязан.
Достаточно и того, что сидит шахзаде Мустафа в Амасье, а не в Манисе и даже не в Кютахье. А ведь известно, что чем ближе сын находится к Истанбулу, к султанскому сердцу и султанскому трону, тем вероятнее он станет наследником…
Пока перст Судьбы указывал на Селима. Но Судьба переменчива, а Селим, как говорили Мустафе доверенные люди, увлекся винопитием, причем далеко не вчера. Простит ли Сулейман беспутного сына?
Мустафа устало покачал головой. Не его это дело – гадать об отцовском сердце. Просто нужно быть достойным, и тогда Аллах вознаградит за труды.
К сожалению, «быть достойным» означало охотиться не реже одного раза в несколько месяцев.
Выезд шахзаде Мустафы можно было, не кривя душой, назвать достойным, почти ничем не уступающим султанскому. В этом «почти» скрывалась та тонкая грань, переходить которую не следовало ни в коем случае, но и отходить от нее далеко – тоже. Свиты… ну ладно, не почти столько же, а значительно меньше, чем у Сулеймана Кануни, но все-таки хватит для того, чтобы даже у самого злоязыкого не хватило духу назвать выезд шахзаде бедным. Собак и соколов – почти столько же, сколько у Сулеймана во время не самой «парадной» охоты. Каракал, правда, всего один, но зато есть ли у Сулеймана зверь диковинной породы вашак-парс? Шахзаде сильно в этом сомневался. Ну а пышностью нарядов свита Мустафы вполне могла соперничать с придворными, наводнявшими Топкапы во время султанской охоты. И пусть некоторые из этих нарядов носили еще во времена предыдущего султана, стоит ли заострять на этом внимание? Есть ведь волшебное слово «почти»…
И хвала Аллаху за это волшебное слово.
Взгляд Мустафы вновь пробежался по пестрому сборищу, выхватив на миг рыжевато-пятнистую шкуру пардовой рыси. Кто сейчас с ней рядом, Джанбал или Джанбек? А, оба… Мустафа не слишком одобрял Аджарата, откровенно попустительствовавшего дочери, разрешавшего ей расхаживать повсюду с открытым лицом, в мужской одежде, ничем не отличавшейся от одежды брата. А ну как вскроется, кто потом эту несчастную замуж возьмет? Впрочем, в Амасье, вполне возможно, и отыщется пара-тройка безумцев. Это ведь Амасья.
Но одобрять – не одобрял.
Хотя и помалкивал. Султанский сын властен в жизни и смерти верных ему людей, а вот в семейные дела таких странных людей, как Аджарат, лучше не вмешиваться. Иначе верность может… куда-нибудь деться.
В теперешней верности Аджарата Мустафа не сомневался. Наветы на нового телохранителя, конечно, слушал, но куда же без наветов, если ты стоишь за плечом шахзаде? Слушать – слушал, а всерьез не воспринимал. Незачем Аджарату изменять. Нет у врагов Мустафы ничего такого, ради чего Аджарат предал бы своего повелителя.
Шахзаде, несмотря на относительную молодость, в людях разбирался неплохо. Аллах дал ему этот дар, а почтенная матушка научила им пользоваться. О, если б не вспыльчивый характер, Махидевран-султан и до сих пор бы… впрочем, зачем думать о несбывшемся и несбыточном? Людей шахзаде знал, пускай даже и хотел временами ошибаться. Знал о том, что предают те, кому не хватает чего-то в жизни. Те, кто мечтает о несбыточном, или те, чьи желания окружающие почитают пустяком, глупой безделицей… Аджарату нечего было желать. Он любил жену, любил детей, а к самому шахзаде относился ровно и приветливо. Не боготворил, не считал единственным и неповторимым – просто служил тому, кто дал ему шанс возвыситься. Мустафе такие нравились. Они мало лгали (и в основном лгали о своем прошлом, а потому о прошлом шахзаде старательно не спрашивал) и почти не предавали.
Почти, да. Поэтому наветы шахзаде все-таки выслушивал, не прерывая тех, кто нашептывал ему в уши всякие гнусности. Мало ли…
* * *
Вашак-Парс выступал гордо, чувствуя себя звездой нынешней охоты. Конечно, порезвиться вдоволь ему не дадут: люди вообще плохо понимают в истинной охоте, с этим грациозный зверь смирился уже давно. Вот и сейчас – да разве ж это охота? Даже на гору никто не поднимется. Примостятся на берегу реки, лениво постреляют куда-нибудь вдаль и примутся чесать языками, услаждая напитками и яствами слабые тела…
Когда Вашак-Парса дернули за ошейник, он лишь лениво пошевелил ушами. Повторный рывок заставил его сесть и широко зевнуть, обнажив острые белоснежные зубы.
– Вот же ленивый сын ишака! – беззлобно ругнулся подросток, державший поводок.
– И верблюдицы! – усмехнулся второй подросток, похожий на первого, словно… нет, две капли воды были похожи все-таки значительно сильнее, чем эти двое. Словно колеблющееся в слегка волнующемся озере отражение, когда непонятно – то ли ты смотришь сам на себя из подернутой легкой рябью воды, а то ли уже и кто-то другой.
– А дед его был бесхвостым петухом!
– А бабка… бабка – каркающей вороной!
– Джан, ну ты…
Огромный кот благосклонно слушал болтовню подростков, время от времени поводя пушистым ухом, словно отметая всякие сплетни и нелепицы, которыми люди любят обмениваться, попусту сотрясая воздух. Что птицы, что люди – все одинаковы, все любят галдеть почем зря.
Но вот до чутких ноздрей рыси донесся запах, так же сильно отличимый среди прочих, как запах вонючей паленой тряпки отличается от аромата луговых цветов. Так пахнет беда – черная, вязкая, гниющая от собственной мерзости.
Вашак-Парс, которого иногда (только в кругу близких ему людей, никак иначе!) называли Пардино, приподнялся и встревоженно огляделся. Близнецы как по команде прекратили перепалку, в две пары глаз следя за действиями своего зверя.
Медленно, то и дело пробуя ноздрями воздух и временами подрагивая хвостом, огромный кот шел туда, где пахло бедой.
Туда, где сидела единственная и неповторимая его хозяйка.
* * *
Румейса-султан любила поболтать с Эдже-ханум на роксоланском наречии.
Пускай и велено было забыть маленькой Наде, кто она и откуда, когда попала в гарем шахзаде, пускай говор у Эдже не тот, на каком говорят в родных сербских селениях, – а все веет родиной, ее протяжными напевами, ее гордыми людьми, которых ломала-ломала османская плеть, да не доломала. У жены шахзаде изменилось имя, изменилась походка, наряды теперь совсем другие, да и лицо матери вспоминается уже с трудом – но разве саму Надю Франкос изменили, назвав ее Румейсой, а позже прибавив к имени пышное и ничего в ее ситуации не значащее «султан»?
А может, и изменили. Иисус стал пророком Исой, крестик с груди давно уже снят – кто ты, маленькая Надя? Где ты, в какую пропасть канула, какие воды шумят над тобой и памятью о тебе? На каком языке ты думаешь теперь, какие песни поешь в одиночестве, о чем видишь сны?
Эдже понимала. Роксоланкой ли была новая подруга Румейсы, из иного ли народа, но главное, ту суть, о которой даже не говорят, она ухватить могла. А потому беседы их на роксоланском наречии были ни о чем – и об очень многом.
Даже с мужем, бывает, о таком не поболтаешь, что уж о служанках говорить, о каждой из которых знаешь, кому она еще служит, и больше чем о половине – сколько за это получает. Здешний гарем не только из рук Румейсы-султан ест, ну да так оно и везде было. Даже в Истанбуле, и тем более в Истанбуле.
При мысли о той, которая сейчас плетет паутину, сидя в султанском гареме, привычно сжалось сердце. Сжалось – и отпустило: Эдже подбросила очередную шуточку насчет неповоротливого Йылдырым-бея, которого родители не иначе как под водительством Иблиса назвали «молнией». Язык у Эдже-ханум всегда был острым, а шутки смешными. И видела Эдже-ханум многое, ох, многое…
Например, видела, что тучный телом Йылдырым-бей не умен, нет, но хитер, как хитры бывают лисы, убегающие от псовой охоты. И что сейчас он спелся с Тургай-беем, тающим от приторных улыбок, стоит ему бросить взгляд на кого-либо из семьи шахзаде, а за пазухой держащим даже не камень, а целую каменоломню. Так сказала Эдже, и Румейса еще долго не могла сдержать улыбку, представляя, как невидимые невольники вырезают каменные глыбы где-то там, за пазухой у Тургай-бея. Может, потому он такой тощий и жилистый, что все силы уходят на каменоломню?
А еще Эдже заметила, что рядом с Тургай-беем часто видят шахзаде Орхана. Даже обронила как-то раз в случайном разговоре (впрочем, с Эдже случайных бесед не бывает, особенно когда женщины переходят на роксоланский), не рано ли пасынок Румейсы-султан спутался со змеей? Тут ведь не разберешь, укусит или просто приползла погреться и молока попить…
Хотя о шахзаде Орхане Румейса не собиралась заботиться больше, чем обязывало ее высокое положение жены султанского наследника. Орхан был ей неприятен, и поделать с этим женщина ничего не могла. Хотя и старалась – Аллах ей свидетель! – делать это искренне, как велит Коран! Но парень, похоже, вообразил, будто Румейса – это вторая Хюррем-хасеки, будто она вышвырнула интригами его мать из сердца Мустафы, а теперь жаждет смерти пасынка. И сыном называет его только насмешки ради. Даже если делает это по воле отца.
Снова мысль о Хюррем обожгла сердце. То ли сказывалось влияние свекрови, ненавидевшей нынешнюю супругу султана истово и яростно, как и положено дочери гордого черкесского племени, то ли просто сердце чуяло беду. Ох, бедное сердце, зачем же ты иногда бываешь вещим?
Румейса сердито тряхнула головой, завела с Эдже ни к чему не обязывающий разговор о последних сплетнях, благо их в Амасье хватало. Перемыли косточки купцу по имени Ышик, решившему сменить вывеску на своей лавке, но не потрудившемуся закрепить ее как следует. Аллах милостив, и вывеска свалилась ночью, до смерти напугав соседского осла, чей рев разбудил три соседние улицы. Или четыре?
– Вот увидишь, госпожа, к завтрашнему дню рев этого воистину удивительного осла разбудит половину Амасьи и каждый базарный зевака клясться будет, что слышал его собственными ушами, – посмеиваясь, сказала Эдже. И без перерыва добавила на роксоланском: – Вашак-Парс беспокоится. Что-то неладное творится.
– Может, съел что-то не то? – отозвалась Румейса, все еще улыбаясь, представляя себе перепуганного ишака и толстого ленивого купца, чем-то неуловимо напоминающего Йылдырым-бея. А сердце уже затрепетало перепуганной птицей, забилось в силках страха.
– Вашак-Парс не умеет есть «не то», – с милой улыбкой ответила Эдже, наклонив голову. Встала, сделала пару шагов, безмятежно огляделась вокруг, будто просто устала сидеть и решила размять ноги.
В этот момент Вашак-Парс резким движением выдернул поводок из руки одного из своих вожатых и, оскалившись, прыгнул.
Прыгнул на шахзаде Мустафу.
* * *
О том, что случилось в тот день, шахзаде Мустафа вспоминать не любил. И знал, чуял просто, что ни дети его, ни самые близкие ему люди (среди каковых с недавних пор числился и Аджарат) тоже не хотели вспоминать день, когда, как написали впоследствии амасьинские поэты, безоблачное небо, излучавшее зной, потемнело от горя.
Не потемнело оно, Мустафа помнил это совершенно точно. Небо – ему не привыкать, оно видало и не такое. Что ему сделается?
Когда Вашак-Парс прыгнул, Мустафа не успел подумать ничего определенного. Мысль о том, как же просто организовать покушение даже тогда, когда шахзаде окружен стеной телохранителей, пришла позже. Да и прочна ли стена из тел человеческих? Дырявая она, честно скажем, эта стена.
Да, думал шахзаде потом, уже после. А тогда он просто попытался отпрянуть, уйти с пути зверя, понимая, чувствуя всем телом, что не успевает. И памятуя о судьбе того, кого послал не отец, но кто-то другой и кому не повезло оказаться на пути разъяренного Вашак-Парса.
Аджарат дернулся навстречу опасности – и застыл, даже, казалось, чуть расслабился. Это Мустафа тоже заметил. И не один он: долго потом в доносах наветчики ссылались именно на это обстоятельство, пытаясь очернить телохранителя шахзаде. Коротко вскрикнула женщина – Румейса ли, а может, Эдже-ханум? Обернуться и выяснить Мустафа тоже не успевал.
Охрану шахзаде составлял не один Аджарат, и кто-то даже успел выстрелить в обезумевшего зверя. Стрела просвистела мимо: Вашак-Парс был быстрее, намного быстрее. Как смазанная жиром молния, огромный рыже-пестрый кот упал на четыре лапы на стол перед шахзаде… перед ним, не на плечи! Не на беззащитную шею нацелились острые клыки, не в глаза метили смертоносные когти! Или промахнулся? Нет, Вашак-Парс никогда не промахивался. Мощная рыжая лапа смахнула со стола вазу со сладким шербетом, жалобно зазвенело стекло тонкой венецианской работы, разбиваясь о скальную породу. Затем Вашак-Парс мотнул головой, уклоняясь от очередной стрелы, и расселся прямо на столе, подвинув пару блюд, коротко мяукнув и принявшись сосредоточенно вылизываться.
Первым тогда недоуменно рассмеялся сам Мустафа. Рассмеялся, подавая остальным сигнал, расслабляя плечи и качая головой. Вот же шайтаново семя, глупый кот, лишай ему в неудобосказуемое место! И чем ему шербет так не глянулся?
Шахзаде тогда еще ничего не понял. Или не захотел понять? А ведь должен был, в конце концов, не в первый раз враги порывались отнять у него жизнь! Обернулся, чтобы отдать приказ Эдже-ханум унять зверя, раз уж ее дети не справляются… и натолкнулся на острый, как кинжал, взгляд мертвенно-бледной Румейсы.
– Проверить бы… – Жена произнесла эти слова едва слышно, но Мустафа угадал их смысл, увидел, как шевелятся губы Румейсы, пусть и закрывала лицо его супруга, как и положено правоверным мусульманкам… Увидел и прищурился недобро, понимая и принимая ее правоту. А рядом качнула головой Эдже-ханум:
– У Вашак-Парса тонкий нюх, мой господин. Может, учуял что?
– Может… – эхом повторила Румейса, становясь еще бледнее, хотя, казалось бы, и так белее мела.
И в этот миг к отцу подбежал шахзаде Мехмед.
Сын тоже был бледен – на миг Мустафе показалось, что Мехмед намазал лицо какой-то белой гадостью, но это просто кровь отлила от смуглых мальчишеских щек. Зрачки сына были расширены, а ресницы беспомощно трепетали.
– Отец… господин мой… С Орханом беда.
И тут же откуда-то слева раздались крики.
Мустафа повелительно махнул рукой, приказывая Румейсе подозвать служанок и дочерей.
– Уходи, – тихо произнес он, и супруга тотчас склонилась, признавая волю мужа. Не женское это дело – смотреть на смерть, особенно на смерть от яда.
Почему-то об Эдже-ханум Мустафа не подумал. Эдже-ханум… она другая. Ей можно.
Или же пускай муж скажет ей, что нельзя.
Крики стали громче и требовательнее. Завыла собака.
Вашак-Парс спрыгнул со стола, задрал кверху морду с встопорщенными усами, прижал уши к голове и вскрикнул. Это был всего один горестный вопль, словно зверь извинялся за свою нерасторопность. За то, что не успел.
Эдже-ханум наклонилась, подняла с земли брошенный поводок, и огромный кот прижался к хозяйке. Короткий рыжий хвост бешено хлестал по бокам.
Женщина кивнула Мустафе:
– Я позабочусь о нем, мой господин.
«И о твоей жене тоже», – сказали глаза Эдже. Шахзаде кивнул в ответ и произнес, ни к кому конкретно не обращаясь:
– Идем…
Сам зашагал первым. Походка утратила упругость, Мустафа шагал грузно, казалось, что, если кто предложит свое плечо, чтобы шахзаде оперся, он не откажется. Но никто, разумеется, не приближался, благоразумно оставаясь позади повелителя Амасьи. Лишь тенью за левым плечом плавно скользил Аджарат.
Орхан, скрючившись, лежал на левом боку, за тремя чинарами, стоящими, словно сестры, в зеленых платках листьев. Видать, отошел, когда скрутило живот. Пальцы левой руки юноши были выпачканы землей и травой – перед смертью сын Мустафы в агонии скреб землю. Лицо искажено, глаза невидяще уставились на муравейник перед самой большой чинарой… Один из трудолюбивых муравьев уже полз по лицу Орхана, направляясь по щеке ко лбу.
Мустафа сдул муравья с лица сына и присел на корточки перед телом. Придворные толпились сзади, их шепот был подобен дуновению промозглого осеннего ветра.
Отношения шахзаде Мустафы со старшим сыном можно было назвать… сложными. И до боли напоминающими те, какие установились между Мустафой и Сулейманом Кануни.
С одним отличием… Мустафа запрокинул голову, прикрыл глаза, скрывая набежавшие слезы, и стиснул зубы так, что они заскрипели. С одним отличием – он, Мустафа, немедленно бы оставил Румейсу, сколь бы сильно ее ни любил, если бы она попыталась подослать убийц к старшему сыну. Немедленно, не раздумывая. И Румейса об этом знала.
Знала ли Хюррем-хасеки? И… знал ли отец?
Не думать об этом. Нельзя о таком думать, Аллах покарает того, кто не почитает родителей своих…
Шепот за спиной усилился. Уже можно было расслышать отдельные голоса. И голоса эти проклинали «роксоланку, зловонную дочь Иблиса, укравшую султанское сердце».
– Довольно!
Мустафа хотел произнести эти слова спокойно, с достоинством, но вышло так, что рявкнул. Гул голосов словно кинжалом обрезало. Ну и хорошо. Так даже лучше. Ни к чему тревожить то, что не следует тревожить.
А вот убийц нужно найти, и чем быстрее, тем лучше.
И – нет, вот это точно не отец. Сулейман Кануни не унизился бы до презренного яда. По крайней мере в отношении старшего сына и наследника.
Мустафа истово верил в это – а что еще ему оставалось?
Ну а Хюррем… что ж, Хюррем есть Хюррем. Эта женщина и впрямь способна на многое.
Последний взгляд на сына, такого вот, измученного подлой смертью. В следующий раз Орхан уже будет благообразен, увит пеленами, над ним прочитают погребальные молитвы… Но Мустафа запомнит своего мальчика таким. Запомнит, чтобы отомстить, когда придет срок.
Сколько раз Румейса отводила гнев Мустафы от Орхана, повторяя, как заклинание: «Он еще юн, мой господин, вырастет – поумнеет»? Пятьдесят раз, сто? Румейса – хорошая жена и хорошая будущая султанша. Айше-хатун, мать Орхана, была совсем не такой. Румейса умеет отделять веление сердца от того, что требуют от нее высокое положение и заветы Аллаха. Она защищала Орхана так, как, наверное, не могла бы это сделать и мать…
Вот только Орхан уже не вырастет. Не поумнеет. Никогда.
– Что он ел?
Задав этот вопрос, Мустафа повернулся к придворным, смерил их тяжелым взглядом. Свита загалдела, все заговорили разом, и выходило, что шахзаде Орхан последний раз ел еще до того, как охотничий кортеж покинул стены дворца. Но Мустафа поймал взгляд Тургай-бея и не отпускал до тех пор, пока худой и жилистый придворный не выдавил из себя:
– Шахзаде Орхан выпил тот шербет. Совсем немного, глоток или два. Он испытывал сильную жажду…
Мустафа кивнул. Ну да, разумеется. Орхан не придавал значения старинному обычаю, по которому первым еду должен пробовать глава рода. Разумеется, после специально назначенных придворных, чьей прямой обязанностью было пробовать ее первыми.
Успели ли они? Пробовали ли они вообще тот шербет? Живы ли?
Если да – дело плохо: убийца среди тех, кто стоит перед ним. Среди приближенных.
Мустафа повернулся к Мехмеду. Взял за подбородок, заглянул в глаза:
– Никогда не поступай так, как он.
Сын кивнул, губы его подрагивали.
– Возьмите моего первенца, – приказал шахзаде охране. – Приготовьте его к погребению. Позовите муллу.
Развернулся – и пошел к своему коню. Теперь, когда никто не видел его лица, можно ненадолго дать волю слезам.
Аджарат, как и прежде, следовал за своим повелителем.
2
Повествователи событий и преданий часто описывают, как султан или шахзаде советуется с главой своих телохранителей или с кем-то из его помощников. Всегда это происходит во дворце.
Иногда бывает на городских улицах, куда мудрый султан (или юный шахзаде) выходит, обрядившись в простые одежды, в сопровождении одного лишь старшего телохранителя, тоже переодетого. А еще бывает на поле боя, непосредственно перед сражением. Но и на улицу, и в бой шахзаде отправляется прямо из дворца.
Если верить повествователям.
(Сразу скажем вам, правоверные: когда правитель скрытно отправляется проверять, как живет простой люд, – это та еще морока для всех его телохранителей, не только для того одного, что с ним. И улицы, по которым правитель пройдет, заранее вычислить надо, и охрану на них расставить, да еще сделать это так, чтоб она была незаметна. Ну и случайных встречных обеспечить в достаточном количестве: надежных, проверенных, на вопросы умеющих отвечать толково, а вдобавок тоже не слишком бросающихся в глаза. Иначе, если встречные и вправду окажутся случайными, то они, может, и не зарежут, но ох и наговорят… Чего доброго, после такого кому-то из уважаемых людей придется расстаться с должностью, а то и с жизнью. Ну и кому от такого польза? Если вы думаете, что после такой проверки взятки станут брать меньше или иное что произойдет, то вы и впрямь даже глупее гяуров, не способных осознать преимущества Истинной Веры.)
Собственно, отчасти можно даже и верить повествователям: шахзаде Мустафа, сами знаете, как-то последовал примеру Гаруна аль-Рашида, было дело. Тогда и довелось человеку по имени Аджарат стать его телохранителем.
Можно верить, можно не верить, но речь сейчас о другом: никогда повествователи преданий не сообщают, где сам этот телохранитель живет. А ведь он не юноша и не евнух. Должен быть у него дом, должна быть семья. Обычно и есть. Если кто не забыл, то в тот самый день, как Аджарат оказал своему повелителю услугу, жене Аджарата тоже выпал случай быть замеченной. А потом и детям его.
Итак, слушайте, правоверные, историю о том, как шахзаде Мустафа (вовсе не юный) оказал ответную честь своему телохранителю, посетив его дом.
Впрочем, не о Мустафе в первую очередь будет наше повествование, не с него оно начнется и не им завершится.
* * *
– А это ваши невольники ночуют здесь? – поинтересовалась Айше, кивнув на беседку.
– Нет у нас невольников, – фыркнула Бал. – Двое слуг есть и садовник, но они тут не живут: свободнорожденные оба, приходящие. И конюх еще, но он при стойлах спит.
– Матушкина служанка… – напомнил ее брат.
– А, да, она невольница… наверное. Но она ведь не наша, то есть и не мамина. Скорее уж твоя. – Девочка кивнула на Айше.
– Как это? – удивилась дочь шахзаде.
– Да очень просто. Ну, не твоя, так твоего отца. Из дворцовой прислуги. Нам ее, как мы переселились сюда, с женской половины дворца направили. Кажется, прямо в тот самый день.
Айше едва заметно усмехнулась. Она была уже совсем взрослым человеком, четырнадцать лет – не шутка, поэтому отлично знала: когда ее отец назначает кого-нибудь своим ближним сподвижником и переселяет в апартаменты на территории дворца, то при этом новом сподвижнике обязательно и сразу окажется некто из штата дворцовых слуг. Не только для того, чтобы служить, но и чтобы присматривать. Просто на всякий случай.
Другой вопрос, знают ли об этом ее нынешние… ну ладно, пусть будут друзья. Они ведь еще малявки, двумя годами младше.
Дру-зья… Айше покатала на языке незнакомое слово. Пока дочь шахзаде не могла решить, нравится оно ей или нет.
Может быть, все же правильней, чтобы они, как положено, называли ее «госпожа»? Надо бы сказать им, раз уж сами, по недостаточной воспитанности, никак не догадаются.
– А этот дылда у вас кто? – вместо этого поинтересовалась она, кивнув в сторону дома. Никакого дылды там сейчас видно не было, но близнецы сообразили мгновенно.
– Это? Это Ламии! – ответили они в один голос.
Айше прыснула, однако ее собеседники этого не заметили: им часто доводилось вот так одновременно говорить. Продолжили близнецы, впрочем, уже порознь:
– Он уж точно не невольник! – сказал брат.
– И не слуга, – добавила сестра.
– А кто же?
– Ну… – Бал и Бек недоуменно переглянулись, словно впервые задумавшись над этим вопросом. – Да Ламии и есть! – произнесли они снова в один голос. – Он в нашей семье всегда жил.
Несколько мгновений дочь шахзаде и дети его телохранителя озадаченно смотрели друг на друга. Потом Айше, вспомнив, с чего вообще начался этот разговор, вновь перевела взгляд на увитую плющом садовую беседку и на места для лежанок внутри.
– Это мы с сестрой тут ночуем, когда тепло, – пояснил Бек, проследив за ее взглядом. – То есть с весны по осень.
– А… – Мест было три, но свой вопрос Айше так и не задала, потому как успела заметить, что средняя из лежанок короче двух других, а в следующий миг увидела хозяина этой лежанки, который, протиснувшись меж близнецов, с царственным видом прошествовал в беседку. Ростом он был не больше крупного гончего пса, но, конечно, такой пес при виде его с визгом бросился бы наутек. Величав, как султан на троне. По-барсовому пятнист, короткохвост и кистеух.
А еще ему, Айше отлично помнила, полагался золотой ошейник, пожалованный – именно так, как особая награда, – за спасение жизни санджак-бея. Но сейчас на хозяине вообще никакого ошейника не было.
Гостью он не удостоил даже мимолетным вниманием.
– Ну да, он тоже с нами. Всегда был с нами. И рождены мы при нем, и даже зачаты, – без тени смущения поведал мальчик.
– Джан! – шепнула его сестра.
– Э-э… – Айше снова осеклась, так и не решив, что хочет сказать. И надо ли.
– Да ты не волнуйся, места всем хватит. – Бек, кажется, неправильно истолковал ее заминку. – Хочешь переночевать тут? Мама наверняка разрешит, у нас есть запасные тюфяки и одеяла. Только сперва у своей мамы спроси.
– Джан! – остерегающе произнесла девочка.
– Ой, ну то есть сначала у отца, конечно. Господина правителя, шахзаде и санджак-бея, да будет угодно Аллаху любое его желание. – Бек церемонно прижал ладонь к сердцу и символически поклонился куда-то в сторону главных зданий дворца, отсюда не видимых.
– Джан! – повторила сестра, делая страшные глаза и краснея.
– А что?
– Ничего страшного. – Айше милостиво улыбнулась обоим близнецам и отдельно, понимающе, девочке: «Вот дураки мальчишки-то!» – Ну, показывайте, что тут у вас еще интересного.
Бал, торопясь сгладить неловкость, повела ее по двору, что-то объясняя на ходу. Айше слушала вполуха. Ей как-то очень зримо вдруг все представилось: близнецы притаскивают в беседку еще один тюфяк и прочие спальные принадлежности, обустраивают третье – да нет, четвертое! – спальное место… И она, получив от своего отца разрешение, остается там ночевать. По-простому, словно не знающая чадры малолетняя простолюдинка у деревенских соседей.
Айше чуть запоздало вспомнила, что и на ней сейчас чадры нет. Ладно, можно сказать – целых четырнадцать лет, а можно – всего четырнадцать. И она сейчас в доме своего отца, поскольку все эти постройки находятся внутри дворцовых пределов. И если уж на то пошло, это Амасья.
Вот у франков (которые, конечно, гяуры, но предания у них красивые, да и читать их не харам, не запретно) такие, как она, называются принцессами… или это только про дочерей тамошних султанов так говорят? Да нет, и про дочерей их наследников тоже… кажется… Так принцессам этим многое позволено, отнюдь не сидят они в закрытых хоромах и с закрытыми лицами!
Во всяком случае, если верить книгам. Ну и рассказам тоже.
А чем внучка повелителя правоверных, султана Блистательной Порты, хуже любой из этих принцесс?! Наоборот, лучше она!
Принцесса Айше. Девушка вновь словно бы попробовала это непривычное слово на вкус.
Было сладко.
Вот так взять и остаться на ночлег у своих… допустим, друзей. Безгрешно провести ночь в одной беседке с юношей. Ну, пускай мальчиком, ребенком. Как у франков прекрасная Иссоте с доблестным сипахи Тристрамом. А вместо меча между ними будет лежать рысь.
Нет уж. Здесь, конечно, Амасья, но не настолько!
– А это наш хаýз, – гордо сообщила Бал, словно ее госпожа-подруга в жизни не видела таких вот бассейнов во внутренних двориках. – С проточной водой, от того же акведука, что в Изумрудном павильоне, вот!
Айше, настроенная в очередной раз милостиво-покровительственно улыбнуться, вдруг по-настоящему удивилась. Совсем не тому, что дочь отцовского телохранителя разбирается в дворцовых водоводах, хотя это и было странно: просто на мраморном бортике бассейна лежала, вальяжно развалившись, все та же пардовая рысь, которая вроде должна была оставаться в беседке.
Или другая все-таки? Тогда сколько их тут?
– Пардино, ты отстанешь от нашей гостьи или нет? Тебя тут только не хватало! – шутливо прикрикнула на зверя девочка. Осеклась. Поднесла руку к губам. Виновато посмотрела на Айше: – Ох, слушай, ты не рассказывай никому, пожалуйста, что я Пардино-Бея так при тебе назвала, а? И сама его так не называй, ладно? Это внутридомное имя, межстенное. Мама нам настрого запретила его при ком-то постороннем произносить.
Айше кивнула. Чего уж тут не понять: если главу семейства зовут Аджарат, то в его доме, конечно, хватает имен, которые лучше не выносить за пределы стен.
Забавно, что девчонка и свою гостью всячески избегает хоть как-то называть: просто по имени – вроде как нарушение этикета, а «госпожой», видать, не хочется. Такое меж подруг не принято.
Ну и ладно. Можно подумать, у нее, госпожи, так уж много подруг. Чтобы настоящих – вообще ни единой, если честно. А этикет… К иблису его, этикет: они в Амасье. Да и к тому же никого из старших рядом нет…
– Меня, вообще-то, Айше зовут, – сказала дочь шахзаде. Без милостивой улыбки, без покровительственного тона. Как равной.
– Джанбал, – все сразу поняв, девочка назвала свое полное имя. – Для тебя Бал.
– Джанбек, – так же просто сказал ее брат. – Для тебя Бек.
И смутился.
– Ну, можешь и меня, и его просто Джан звать. – Бал лукаво покосилась на дочь шахзаде. – Но тогда и откликнемся мы вместе, а не только тот из нас, кто прямо сейчас тебе нужен.
– Оба вы мне нужны, – с такой же лукавинкой ответила Айше. И отвернулась. Отчего-то у нее вдруг защипало в носу.
Потом они все втроем сели на край бассейна и, сняв туфли, свесили ноги в воду. Айше потянулась было погладить Пардино, но огромный кот неуследимо-плавным движением отодвинулся, глянув на новую подругу своих юных хозяев без враждебности, но строго.
Ей еще надлежало заслужить это высокое право: прикасаться к нему.
– В чифтлыке[2] у нас бассейн еще лучше, – глядя прямо перед собой, сообщил Бек. – Без мрамора, но гораздо больше. И глубокий, в два отцовских роста.
– Ты что, ныряешь в него? – фыркнула Айше.
– А как же! – двуголосо ответили близнецы, посмотрев на нее с искренним удивлением.
– Я тот наш хауз под водой четыре раза переплываю, – похвасталась Бал. – А брат раньше столько же, но теперь на полбассейна меня обгоняет. Ныряем вместе, до противоположной стенки – оттолкнуться, не всплывая, – еще раз… второй, третий… Ну и на четвертый я выныриваю все-таки у самой стенки, а ему дыхания хватает, чтобы еще аж до середины донырнуть.
– Вот погоди, через год я тебя на целый переплыв обгоню, не на половину! – шутливо пригрозил мальчик.
– Да, наверное, – с сожалением признала сестра. – Дурное дело нехитрое…
Айше промолчала, не зная, что сказать по этому поводу. Для нее купание – это толпа служанок вокруг (одна принимает платье, другая рубашку и так далее, но вообще-то, чтобы на них всех хватило, дочери шахзаде следовало бы носить в десять раз больше одежд, чем на самом деле), массажистки, специальная девушка для флаконов с благовониями, другая – для притираний… для купальных простыней еще несколько девушек… опытная пожилая чесальщица волос… А сама-то разве что по грудь в бассейн входишь, позволяя этой толпе женщин совершать над тобой священнодейство омовения, умащения и так далее.
У дальнего края большого дворцового бассейна, может, и вправду больше чем с головой глубина (с бортика понять трудно: вся вода тут, даже для семьи шахзаде, из реки Ешиль-Ирмак, а она мутновата и не меняет своих обыкновений ни для кого, будь он хоть султан). Но туда Айше как-то ни разу и не добралась.
Попробовать, что ли, сегодня во время вечернего омовения?
– А ты сколько раз под водой переплывешь хауз? – словно прочитав ее мысли, поинтересовалась Бал. – Вот этот, маленький?
– Не знаю… – чуть виновато ответила Айше.
– Спорим, я – больше, чем ты, а Бек тем паче! – Бал азартно вскочила, потянулась к шнуровке вóрота. – Ну, давай!
– Джан… – Брат дернул ее за рукав.
– Тут всего-то десять шагов от края до края! – Девочка, отмахнувшись от него, нетерпеливо переступала босыми ногами по мраморному бортику. Она уже сбросила верхнюю безрукавку и теперь возилась с застежками платья. – Или хочешь не по прямой, а наискось попробовать, из угла в угол? Все равно не очень, но хоть как мул против ишака… Тесно здесь у вас, во дворце, – пожаловалась она.
– Джан! – повторил Бек уже громче.
– Купальных простыней у нас не водится, но можно потом расстелить рубахи и посидеть на них, пока обсохнем. Или Пардино обнять: он пока тебе это не очень позволит, но мы его уговорим. Его шерсть лучше всякого полотенца!
– Джан!!!
Сестра непонимающе оглянулась сперва на Бека, свекольно-красного, затем на Айше, тоже до ушей налившуюся багрянцем, и ойкнула. А потом захихикала.
Миг спустя они смеялись уже все трое. Как сверстники. Как ровня друг другу.
Как друзья.
* * *
– Да, с вами не соскучишься, – признала Айше, когда они наконец умолкли, обессилев от хохота.
– А то! – задорно подтвердила Бал.
Дочь шахзаде снова опустила босые ступни в бассейн, поболтала ногами в теплой воде. Какое счастье, что вокруг – Амасья, а не Истанбул, великий город, султан среди столиц мира! Тамошний гарем она, вообще-то, по малолетству помнила плохо, но вот год назад пришлось с матерью побывать в столице столиц – и, тоже не все понимая, главное ощутила безошибочно: словно по лезвиям кинжалов меж ядовитых змей ступаешь.
Потому что она – дочь шахзаде Мустафы: того, которому быть следующим султаном. Какие бы козни ни строила роксоланка-Хюррем, да будет проклята ее утроба!
В Амасье можно спокойно ходить по отцовскому дворцу, не очень-то задумываясь, где проходит граница между гаремом и селямлыком, мужской половиной. Равно как и о том, что во внутридворцовом жилье отцовского телохранителя деления на мужскую и женскую половины как-то вообще не заметно.
И с детьми этого телохранителя можно дружить, даже если он всего лишь чифтчи.
– А вы своему отцу на пахоте помогали? – спросила Айше специально для того, чтобы закрепить эту мысль. И тут же испугалась, что ее слова, наоборот, покажутся обидными.
– Ты что, думаешь, в чифтлыке только пахать и можно? – Бал явно не обиделась, и Айше с облегчением перевела дух.
– Ну… А что еще?
– Да много чего. Наша семья никогда не была так бедна, чтобы самим за волами ходить. Отец, когда здесь поселился, сразу пару работников нанял, да еще у нас доля в кюрекчи-орта, лодочной артели была… да и есть до сих пор. Там сейчас заправляет старший брат Ламии, а раньше их отец верховодствовал, только он умер в позапрошлом году. А главный владелец все равно наш отец, Аджарат! Из пяти больших ладей, что там сейчас в ходу, три на наши деньги выстроены, вот! И полторы водяной мельницы у нас есть. Одна – целиком наша, а другой мы пополам с Мохаммедом туршуджу[3] владеем.
– То есть вы больше на реке росли, чем за плугом? – уточнила Айше.
– Дался тебе этот плуг! – ответила девочка по-прежнему без обиды, но с досадой; дочери шахзаде даже пришлось напомнить себе, что она сейчас говорит не со служанкой, а с новой подругой… с первой в своей жизни настоящей подругой. – Я же говорю, мы с самого начала богатые были. Даже мамины украшения не пришлось продавать, у нее они до сих пор остались…
Тут Джанбал покосилась на брата и, наверное, вспомнила о чем-то. К Айше вновь повернулась уже с виноватым видом:
– Мама нам и об этом запрещала говорить. Крепче, чем про Пардино-Бея. Отец тоже очень недоволен будет. Но ты ведь никому не расскажешь, правда?
– Да пребудут мои уста могилой для того, что вошло через мои уши! – важно ответила дочь шахзаде.
– Спасибо, я сразу поняла, что ты так скажешь! В общем, у нас всегда были хлеб и досуг. Даже чтобы учиться. Не только плаванию, конечно, но и чтению, и языкам. И даже сабле.
– Шутишь? – Айше с изумлением окинула свою подругу взглядом: ну да, двенадцатилетняя малявка, два локтя в тюрбане и в прыжке. – Тебя тоже?
– Нас с Беком всему и всегда вместе учили. А как же иначе, раз уж Аллах послал нас на свет вдвоем!
Тут дочь шахзаде вспомнила, как, увидев близнецов на охоте, ни на миг не усомнилась, что это мальчишки-ловчие. Ну, может, они и правда в других благородных искусствах столь же сноровисты, причем сноровисты одинаково.
(В этот миг какая-то мысль кольнула Айше – смутная, неразличимая, неприятная… Ну и к джиннам ее, отмахнуться, как от назойливого комара.)
Ха! Раз уж они так всему вместе обучались, не спросить ли, насколько искусен Джанбек в златошвейном мастерстве? Или в другой высокой науке, что сродни ему, например, в низании жемчужного бисера?
Но, пожалуй, такому и сестра его не училась. Слишком уж дворцовое это дело, не для отпрысков чифтчи, даже если он столь загадочно богат. Или это жена его богата, с этими своими украшениями.
Как ее…
Эдже, вот как. Надо, вообще-то, помнить подруг своей собственной матери. Ой… Да, вот так оно и выходит: Эдже и Румейса тоже подруги. А больше у мамы тех, кого можно назвать подругами, и нет, кажется. Точно нет.
Получается, связаны их семьи двойной нитью. Того пуще: даже тройной… если вспомнить, что и отец, шахзаде Мустафа…
А ведь это знак. Столько нитей таким сложным узлом сами по себе не завязываются.
Тут снова назойливым комариком зажужжала недодуманная мысль, но дочь шахзаде опять отмахнулась от нее.
– Айше… – вдруг тихо позвал Джанбек.
Он, в отличие от сестры, молчал давно, с тех самых пор, как Бал едва не заставила их всех нырять наперегонки. Так что дочь шахзаде повернулась к нему немедленно – и с изумлением.
Паренек то ли не смотрел на нее, то ли мгновенно успел отвести взгляд. Сидел, уставившись строго перед собой. И почему-то был красен, как свекла.
– Айше… – снова проговорил он, все так же не поворачиваясь.
– Пятнадцатый год уже Айше. Что сказать-то хочешь?
– Айше… – негромко выдохнул мальчик в третий раз, и вдруг на его щеке неровными пятнами вспыхнул такой румянец, что это стало заметно даже поверх прежней свекольности. – А ты… А твой отец, он не разгневается, если узнает, что ты, никому не сказав, гостишь у нас?
Ну и вопрос! Дочь шахзаде недоуменно пожала плечами. Вообще-то… вообще-то, это действительно был вопрос, на который так с ходу не ответишь. У шахзаде и санджак-бея Мустафы могли по этому поводу самые неожиданные чувства прорваться. Скорее всего, даже почти наверняка он воспримет это как нечто малозначимое. Но нельзя исключить, что и гнев вдруг может вспыхнуть. Ведь его дочь – взрослая девушка, а не ребенок, чтобы шляться невесть где без присмотра служанок и евнухов!
Или просто за ее безопасность испугается. Сейчас, после того покушения…
(Комарик непрошеной мысли торжествующе взвыл, явившись во плоти: вот оно – после покушения! Покушения, жертвой которого стал твой брат.
Нелюбимый брат, скажем прямо. К тому же брат только наполовину, от прошлой, давно забытой кадинэ отца.
Но все равно: лишь позавчера истек сорокадневный траур по нему, а ты, Айше, дочь Мустафы и единокровная сестра Орхана, веселишься сейчас со своими новыми друзьями. Сидишь с ними в селямлыке, срамным для взрослой девицы образом, словно какая-нибудь гяурская принцесса: без чадры и без служанок, не говоря уж о евнухах. Чуть ли не в бассейне купаешься. Рассуждаешь шайтан весть о чем.
От стыда она вспыхнула еще почище Джанбека.)
– Айше… – опять произнес Бек, катая ее имя во рту, словно медовую пахлаву, сладость несказанную. И наконец решился продолжить: – Твой отец, наш повелитель, первый после султана, он ведь… Он ведь вон там, в нашем доме сейчас. Наверное, зашел через заднюю калитку. Почему-то.
– Что?! – От изумления Айше забыла о стыде.
– Посмотри сама. Вон туда. Так что, если ты не хочешь, чтобы он тебя заметил…
* * *
Да уж, сразу ясно, что садовник тут свободнорожденный, приходящий, избалованный прежней службой на задворках амасьинского дворца. К делу он относился с прохладцей, живую изгородь вдоль длинной стороны бассейна подстригал давно и сделал это неаккуратно.
Попробовал бы раб так пренебрегать своими обязанностями…
Хотя говорят и другое: мол, если уж кому взаправдашнюю работу выполнять, так это именно свободному. Раб – он ведь денег стоит! То есть сад обихаживать, землю пахать, камни тесать – найдется кому, вон их сколько. Куда ни плюнь, обязательно в свободнорожденного попадешь. А невольники и невольницы – особый товар, ценный, для богатого дома и достойного владельца. Или владелицы. Халат подать, чалму намотать (это особое искусство: должным образом освоившие его рабы стоят тройную цену!), послужить стражем гарема как евнух или стражем султана как янычар, тоже ведь «воин-невольник» изначально… Впрочем, янычары – такие рабы, что никаких хозяев не пожелаешь.
Все эти мысли, лишние и испуганные, Айше торопливо додумывала, сидя на корточках под сенью живой изгороди меж близнецами Джан (слева – Бал, справа – Бек). О, будь благословен, садовник, за свое небрежение! Сквозь разлапистую зелень можно видеть то, что происходит в доме, а вот из дома тех, кто в зелени притаился, не рассмотреть.
Отец расхаживал по выложенной зелено-голубыми изразцами комнате, что-то говорил Аджарату. Пару раз надолго останавливался, выслушивал ответ. Один раз кивнул.
Тем временем из соседней комнаты на веранду, осторожно ступая, выскользнул кто-то рослый в темном, без вышивки, одеянии простолюдина. Айше сперва посмотрела на него с удивлением, а через миг-другой насторожилась. Внезапно вспомнилось, что ведь покушения на ее отца – не выдумка, они действительно были. А он сейчас без телохранителей явился! Ну, еще бы – ведь во внутридворцовый дом Аджарата пришел, своего собственного телохранителя…
К счастью, тут же стало ясно, что этот верзила вовсе не подбирается к шахзаде Мустафе с преступными умыслами: наоборот, чувствуя себя неуместным в доме, удостоенном столь высокого посещения, он хочет оттуда потихоньку убраться. Но не решается, так как, попытавшись спуститься с веранды, неминуемо попадет в поле зрения шахзаде.
Надо думать, это и есть тот самый Ламии. Средних лет мужчина, даже немолодой, под тридцать, наверное; жилисто-широкоплечий, но на воина не похож. Близнецы сказали, что его отец и старший брат верховодили в лодочной артели? Вот и сам он, видать, лодочник, кюрекчи.
Девушка улыбнулась, довольная своей проницательностью. Опаска у нее давно уже почти исчезла, сменившись любопытством.
В этот самый миг Ламии, вероятно, сообразил, что оставаться на веранде для него с каждой минутой становится все менее и менее уместным, а лестница и путь к ней так и пребудут хорошо видимыми из внутренних комнат. Осознав это, положил на высокие перила ладонь и перемахнул через них с упором, легко, невесомо, будто на крыльях взлетел. Приземлился на лужайку перед домом тоже мягко, почти беззвучно, хотя, получается, с высоты двух своих ростов спрыгнул.
Айше даже присвистнула от изумления – и тут же торопливо прижала ладошку к губам, испугавшись, что обнаружит себя.
– Вот такой он у нас! – шепотом сообщила Джанбал, лучась гордостью, словно именно она самолично обучала Ламии, пестовала его умения, придирчиво следила за тем, как растут его сила и ловкость.
Айше покосилась на девочку с удивлением, а брат – совсем иначе, понимающе-насмешливо. Под этими взглядами Бал смущенно потупилась.
Когда Айше вновь посмотрела в сторону дома, верзила-лодочник уже куда-то исчез. Да и пусть себе, до него ли. Главное – понять, зачем пришел в этот дом шахзаде.
На что же это он, ее отец, обратил такое особое внимание, раз за разом возвращаясь взглядом в одну и ту же точку? Судя по расположению, там что-то должно висеть на стене – или, возможно, стоять в стенной нише. Но отсюда, от кустарниковой изгороди, этого не рассмотреть.
– Что у вас там, Джан? – шепотом спросила Айше.
Близнецы разом втянули воздух, готовясь ответить, но ответа уже не потребовалось: ее отец шахзаде задал какой-то вопрос, кажется, словно бы спрашивая разрешение (неужто?), отец близнецов, чуть помедлив, не очень охотно (неужто?!) кивнул, прижав ладонь к сердцу и склонив голову… А потом шахзаде Мустафа протянул руку и взял это, невидимое, со стены.
Оказалось – сабля. А на стене, значит, оружие развешано.
Мустафа, шахзаде и санджак-бей, сам был бойцом настоящим, не ряженым. Со знанием дела осмотрел клинок, махнул им накрест, навзлет и наотмашь, перебросил из руки в руку… И вдруг удивился чему-то, поднес саблю ближе к глазам. Покачал головой, снова задал вопрос Аджарату – тот коротко объяснил что-то, коснувшись левой руки правой.
– А это они о чем? – полюбопытствовала Айше, снова обращаясь к обоим близнецам сразу, и тут же сообразила, что им неоткуда знать ответ, они ведь видят то же, что и она, а разговора в помещении точно так же не слышат.
Но близнецы, оказывается, знали. Или хотя бы догадывались.
– О том, что наш отец… он, знаешь ли, чуточку Хызр, – без всякой охоты ответила девочка.
– Что?
– Потом объясню, – совсем хмуро, даже грубовато произнес мальчик.
Айше, поняв, что ненароком опять коснулась какой-то очередной семейной тайны, не стала настаивать. Да ведь и сабля к тому времени вернулась на место.
Мустафа теперь держал в руке совсем коротенькую аркебузу с чем-то вроде сабельного эфеса вместо приклада и странной уродливой штукой там, где у обычной аркебузы-туфанга размещается крепление фитиля. Рассматривал эту штуковину с большим интересом, слушал объяснения Аджарата, сам в ответ что-то говорил; потом они оба склонились над аркебузкой и принялись обсуждать ее совсем уж увлеченно. Ламии, пожалуй, поспешил: сейчас ему не пришлось бы прыгать с веранды – он мог пройти к лестнице открыто, даже с топотом, и все равно остался бы незамеченным.
Айше, разумеется, сто раз видела туфанги в руках стражи, иногда и с тлеющим фитилем. Но не принцессино дело ими по-настоящему интересоваться. Поэтому она довольно-таки равнодушно восприняла объяснения близнецов, в два уха принявшихся рассказывать ей, что это вообще не туфанг, а пистойя, причем с искровым кресальным замком – какая-то сумасшедшая новинка, доставленная их отцу трижды окольными путями. Лишь усмехнулась чуть заметно: выходит, и вправду брат с сестрой одинаковое обучение получают.
Как бы там ни было, этот новомодный туфанг, который пистойя, тоже вернулся на оружейную стену. А мужчины в доме уже принялись за новые игрушки. Нельзя так думать, особенно о своем отце, тем более что он будущий султан, повелитель правоверных, но сейчас шахзаде Мустафа и Аджарат, его телохранитель, выглядели так, словно были не старше близнецов Джан.
Верно бабушка говорила: мужчины – по гроб жизни малолетки, их даже опасаться нечего, все зло от женщин. Правда, первое ее утверждение мама хотя и не оспаривала (спорить с бабушкой Махидевран-султан не решался никто), но как-то давала понять свое несогласие: улыбкой, отведенным взглядом, переходом на разговор о другом… А вот со вторым, кажется, и вправду была согласна. Еще бы, разве мало горя причинила их семье хасеки-роксоланка!
Хотя, если вдуматься, то будь с бабушкой можно спорить, возможно, дедушка, повелитель правоверных, и не отдалил бы ее от себя…Так что зло, наверное, действительно в женщинах, но тогда уж не стоило бы прекрасной черкешенке Махидевран-султан забывать о своей принадлежности к тому же полу.
Тут Айше почувствовала, что, следуя по этому пути рассуждений, может зайти слишком далеко. И постаралась вернуться к созерцанию происходящего. Но, как выяснилось, уже успела что-то пропустить.
…Вроде бы ничего не изменилось в комнате: шахзаде и его телохранитель все так же стояли у оружейной стены и обсуждали боевые возможности чего-то, с этой стены снятого. Это был небольшой предмет, даже меньше той пистойи, которая не туфанг. Наверное, кинжал какой-нибудь. Но… на самом деле они говорили не так, как прежде.
Дочь шахзаде затруднилась бы определить, в чем именно заключается это «не так». Аджарат по-прежнему был исполнен того сочетания достоинства, гостеприимства и почтительности, которое подобает человеку, принимающему в своем доме высокопоставленного гостя. И гость этот тоже держался одновременно милостиво и учтиво, со всей определенностью давая понять: да, весь дворец – его дом, но если кому-то из верных слуг тут выделен домик для семейного проживания, то под этим кровом и меж этих стен даже сам шахзаде Мустафа признает права хозяина.
Однако что-то странное сейчас просвечивало сквозь их жесты и позы, как дно хауза сквозь воду. Не угроза, нет. Напряженность? Непонимание? Поди знай, тут слова слышать надо – и то не наверняка поймешь…
Айше украдкой посмотрела на близнецов. Те тоже почуяли неладное, тоже тревожились – и недоумевали.
За окном коротко и ослепительно сверкнула сталь. Теперь сделалось окончательно ясно: предмет, который рассматривает Мустафа, действительно кинжал. Вот сейчас шахзаде снял ножны, они у него в левой руке, благородно-янтарные (из янтаря, наверное, и есть… или из старой слоновой кости…), а клинок поднес к глазам, должно быть, стремясь прочесть змеящуюся по нему надпись.
– Это же… – потрясенно выдохнула Бал. И осеклась.
– Ничего особенного, – угрюмо продолжил ее брат, перехватив вопросительный взгляд Айше. – Бебут побратима нашего отца.
Ну, значит, бебут, а не бичва, не индийский катар, не кама или джамбия, не еще что-то там. Для мальчишек это очень важно: какая у каждой из этих разновидностей кинжала форма клинка и рукояти, как именно им человека лучше всего резать, а как совсем не стóит.
(Тут же Айше пугливо объяснила сама себе, что под мальчишками она подразумевает только Бека и… ладно, пусть его сестру тоже. А еще их отца. Но ни в коем случае не своего отца. Как можно!)
Впрочем… Побратимство – это серьезно не только для мальчишек. А если этот кинжал действительно родовое оружие, хранящееся в их семье еще с тех пор, как отец ее друзей (да, так!) не носил имя-прозвище Аджарат…
– Вот именно, – все так же мрачно ответил мальчик, без слов угадав так и не заданный вслух вопрос. – В нашем роду этот бебут хранится с той самой ночи, как мы с сестрой…
– Родились, – невольно подсказала Айше.
– …Были зачаты, – завершил он, опять без всякого смущения.
– Тогда наш отец и стал Хызром, – шепотом добавила девочка что-то вовсе непонятное, вконец запутав свою старшую подругу.
Опять семейные тайны какие-то сгустились, подобно грозовым тучам. И, как видно, эти тайны вправду грозные. Не понять только почему.
Тут Айше едва удержалась от вскрика, причем совсем не из-за этих тайн. Пардино, о котором она совсем забыла, вдруг длинным скачком махнул на открытое пространство перед домом – прямо через их головы и через живую изгородь. Следующий прыжок – и он уже оказался на веранде, взметнув свое тело вверх даже с большей легкостью, чем Ламии это недавно проделал вниз.
По самой веранде он уже прошествовал вальяжно, как и подобает хозяину дома, дворца и всех его окрестностей. А на подоконник оружейной комнаты вспрыгнул уже с подлинно владычественным, царственным видом. И развалился там, позволяя собой любоваться. А еще – отвлекая на себя внимание.
Вовремя. Потому что напряженность, кажется, уже приближалась к опасному рубежу.
Мустафа усмехнулся, что-то произнес. Указал на Пардино – рукой с кинжалом, сам не заметив этого! – и, к счастью, остановился на полудвижении, когда зверь, только что лениво возлежавший на подоконнике, как на троне, мгновенно оскалил клыки, выгнул спину и отвел назад лапу для удара.
Шахзаде снова усмехнулся. Вложил клинок в янтарные ножны. Покачал головой, снова осторожным и плавным движением показал на рысь, без гнева, кажется, даже восхищаясь, но Аджарат шагнул к Пардино-Бею, положил ладонь на пятнистый загривок…
И ничего не произошло. Зверь не выказал злобы, но остался на прежнем месте, даже голову отвернул, явно не намереваясь повиноваться.
– Кто пойдет, я или ты? – быстро прошептала девочка, обращаясь к брату.
– Вместе, – так же быстро ответил тот уголком рта.
– Он что, только вас слушается? – догадалась Айше.
– Еще маму. А вот отца – не очень. Ой, что сейчас будет… – вздохнула Бал. – Ну, ты притаись тут, а мы пойдем к ним.
Однако близнецам не пришлось подниматься из-за живой изгороди на глазах своего отца и отца Айше, недвусмысленно демонстрируя, что они все это время там и прятались. В глубине дома мелькнула тень: женщина, до глаз укутанная в покрывало, возникла на пороге внутренней двери, коротко поклонилась шахзаде Мустафе и, выпростав из-под покрывала руку, поманила к себе рысь.
Ни мгновения не помедлив, зверь соскочил с подоконника внутрь комнаты. Еще миг – и он уже терся о ноги женщины. Это, разумеется, Эдже, его хозяйка; хотя кто бы мог подумать, что она здесь, под своим кровом, придерживается столь… гаремных обычаев: чтобы соблюсти приличия перед гостем, даже столь высоким, хватило бы и легкой чадры.
А в следующую минуту женщина, снова поклонившись высокому гостю, пятится внутрь дома, исчезает там. Рысь, как привязанная, спешит за ней, тоже скрываясь из виду.
Двое мужчин остаются в оружейной комнате.
Видимо, все уже сказано, но их беседа, так и не достигшая ушей прячущихся за живой изгородью подростков, требует какого-то завершения. Шахзаде протягивает хозяину дома оправленный в янтарь бебут, как бы возвращая его… но именно «как бы», на самом деле в этом возвращении различима толика ожидания. И действительно, Аджарат, приняв кинжал обеими руками, подносит его к сердцу, ко лбу – и возвращает своему повелителю.
Это дар.
Повелитель явно очень доволен. Что при этом чувствует даритель, понять сложно.
Айше с любопытством окинула взглядом близнецов. Они насуплены. То, что случилось, им крайне не по душе.
– Да что вы, право слово? Сами знаете, ведь нет же высшей чести… – начала она, стремясь их утешить.
– Да, конечно, – совершенно забыв о вежливости, прервала ее Бал. – Давай-ка, пока не поздно, выбираться отсюда. Твой отец, высокодосточтимый санджак-бей, судя по всему, вот-вот соберется покинуть наш дом. И только Аллаху ведомо, через какую калитку он на сей раз захочет это сделать. Если через главную, то мы все окажемся здесь как на ладони…
Она была совершенно права. Но Айше все равно в очередной раз разозлилась на всех играющих в кинжальчики мальчишек, даже если среди них есть и девчонка, и мужчины, включая будущего повелителя правоверных.
* * *
От живой изгороди они поспешили не прочь от дома, но, наоборот, вплотную к нему, укрываясь его стеной от возможных взглядов из комнат. Это как на войне: чем ближе к стене осаждаемой крепости, тем безопаснее. До определенного предела. Говорят.
Тут гнев Айше прошел: она вдруг осознала, что и сама думает, как мальчишки – те из них, которые уже мужчины. Что поделать, как видно, это и для женщин неизбежно, при таком-то отце… Разве что и вправду быть гаремной затворницей, не знающей иных забот, кроме как о благовониях, притираниях, украшениях и одеяниях. Нет уж, спасибо!
Там они некоторое время сидели, не зная, ушел ли шахзаде Мустафа. Потом Айше увидела, как к дому, не скрываясь, направляется тот верзила, Ламии, и поняла, что отца здесь уже нет.
Дощатый пол над их головами скрипнул: кто-то вышел на веранду. Видеть его было невозможно, но солнце било сбоку, и тень от веранды падала так, что она-то оказывалась хорошо видна. Аджарат это. Стоит, тяжело опершись на перила и понурив голову.
Собственно говоря, Айше незачем от него таиться, он наверняка не наябедничает ее отцу. Вот сейчас она выйдет из-под стены, уважительно и при этом милостиво кивнет хозяину…
– Я понимаю: иначе было нельзя… – Голос принадлежит не Аджарату, он женский.
На веранде появляется еще одна тень. Эдже? Или служанка? Как для служанки, то слишком смело говорит, а для почтенной матери семейства излишне стройна, по-женски некрасива – это ее дочери или самой Айше пока еще простительно иметь такое телосложение, почти мальчишеское.
Какова жена Аджарата в лицо, Айше хорошо помнила еще по той проклятой охоте. Но тогда Эдже в основном сидела рядом с ее матерью и несколькими наперсницами из материнского гарема. Женщины обсуждали свое, скучное, к их фигурам Айше не присматривалась, да и были все они, как подобает, в платках, в широких верхних балахонах, под которыми осленка можно спрятать.
А вот сейчас даже по тени видно изящество фигуры и движений, она ведь без покрывала и без головного платка. Выходит, верно Айше рассудила, что это специально для высокого гостя такие преувеличенные правила приличия приняты… и все равно избыточные для Амасьи, даже странно, не Истанбул же тут…
Нет, не Эдже: та уже немолода, где-то ровесница Ламии, под тридцать, а эта слишком гибка и худощава. Юная служанка, конечно. Не дворцовая, те все кисломордые квашни, овцы бестолковые – а…
То-то она чересчур смело обращается к хозяину. Известно ведь, что между подневольной работницей и привилегированной наложницей грань порой неуловима. Потому близнецы о ней не упомянули.
Айше с сочувствием покосилась на своих друзей.
– Это ведь твой дар… – извиняющимся голосом произносит мужчина.
– Не мой. – Женщина отрицательно качает головой. – Моей сестры. Ее возлюбленному. Ты ведь не мог этого забыть.
– Все равно – твой. Без тебя не было бы ни тех даров нам обоим, ни всего остального.
– Но этот клинок получил твой побратим. А он уж точно не захотел бы сегодня ввергнуть тебя и всех нас в пучину бедствий.
– Ты права… как всегда… Знаешь, у меня было такое чувство, словно до этого дня он хранил нашу семью. А вот сейчас… что-то ушло.
Дочь шахзаде слушала этот разговор с все возрастающим недоумением. И сама не могла понять, в чем тут дело. Не только в словах. Хотя… А! Говорили они не по-турецки, но на славянском наречии! Впрочем, невелика диковина: в Блистательной Порте женщин из славянских и франкских краев полным-полно, для каждого второго это материнский язык, на турчанках пускай простолюдины женятся, кому иноземных наложниц не по средствам завести. Сама Айше потому и понимала славянскую речь, что мать ее, Румейса, в юности, прежде чем попасть в отцовский гарем, звалась Надежда.
Сейчас, правда, звучал чуть иной говор: не балканский, как у мамы, а… роксоланский, что ли… Ничего, тоже все понятно. Опять-таки невелика диковина: одна из трех ближних служанок Айше была роксоланка родом, да и среди маминых наперсниц пара таких. Совсем не за то мы Хюррем-хасеки не любим, что она в Роксолании на свет появилась.
– Тут иное. – Женщина вновь качает головой. – Знаешь, в ту ночь, когда брат подобрал не твой кинжал, а этот, я вдруг испугалась. Да так, что чуть не выбросила его за борт. Но отчего-то вдруг поняла, что этого делать нельзя, иначе слезы моря омоют еще одну могилу. Два этих дара, янтарь и топаз, они ведь вышли из одной сокровищницы, вручены братьям, пусть и названым… Вручены сестрами-близнецами. И произошло это в канун праздника Месир Маджуну, когда сбываются потаенные желания… Они… они – близнецы. Как мы с сестрой. С бывшей моей сестрой… Они тянутся друг к другу. И отталкиваются, когда тому наступает срок. Не ранее.
– Ты это так чувствуешь? – изменившимся голосом спрашивает Аджарат.
– Да. Не спрашивай почему.
(В этот миг рядом с тенью женщины появляется тень рыси. Женщина, не глядя, треплет Пардино за ушами. Тот так и льнет к ней, просит ласки.
Надо же! Все-таки Эдже, никакая не наложница. Кто бы мог подумать.)
– Не спрошу. – Тень мужчины протягивает левую руку, касаясь тени женского лица.
– Хызр… Мой Хызр… – Эдже обеими руками охватывает ладонь мужа, покрывает ее поцелуями.
На мгновение другая пятерня Аджарата поворачивается так, что видна тень от всех его пальцев. Ей, Айше, кажется или действительно его большой палец укорочен, лишен последнего сустава?
А вообще, дочь шахзаде сейчас по горло сыта этими тайнами: кинжалы какие-то, сестры-близнецы, янтарь и топаз, побратим и брат, упоминаемые порознь… Да и незачем ей в этом разбираться. Все, нагостилась на сегодня. Что она намеревалась делать, когда шахзаде Мустафа оставил этот дом? Выйти на открытое пространство, милостиво кивнуть хозяевам, попрощаться с их детьми и, не таясь, уйти. Так отчего бы не проделать все это прямо сейчас?
На веранде вновь послышались шаги: кто-то поднимался туда по лестнице, ведущей из сада. Айше замерла, но тут же сообразила, что вряд ли вернулся ее отец. Скорее всего, это тот верзила, Ламии.
– Пора звать детей… – тихо говорит Эдже. И, переходя на турецкий, произносит громче, обращаясь, видимо, через всю веранду к Ламии: – Ты видел сейчас Джан, брат?
– Нет, сестра, – отвечает тот.
И снова Айше не уверена, кажется ей или нет, что перед ответом была крохотная заминка, а если действительно была, означает ли это, что Ламии (он, получается, просто-напросто брат Эдже?) все же заметил их, прячущихся под верандой? В таком случае только близнецов он заметил – или всех троих?
Ей-то все равно. Но выходить сейчас Айше передумала: ведь тогда она, получается, заодно выдаст и своих друзей, будто бы подслушивающих родительские разговоры, явно для их ушей не предназначенные.
Даже и вправду подслушивающих, без всяких «будто бы». Но не по своей воле, а помогая ей, принцессе Айше, избежать неприятностей.
– Все равно они где-то неподалеку, – вздыхает Эдже. И, ракушкой сложив ладони у рта, кричит, склонившись через перила: – Джа-а-ан!
– Мы тут, мама! – мгновенно отзываются брат и сестра.
Айше ожидала, что после этого они поспешат к одной из лестниц, но близнецы снова удивили ее: бросились к резным столбам колонн, подпирающих веранду, и мгновенно вскарабкались по ним вверх, как акробаты или (дочь шахзаде тут же упрекнула себя за это сравнение) обезьянки.
Бал, прежде чем скрыться из виду, торопливо обменялась взглядами с Айше: «Все поняла?» – «Да». – «Никому не расскажешь?» – «Нет». – «Вон по той тропке можно тайком уйти» (девочка, уже со столба, мотнула подбородком, указывая на неприметную дорожку, что тянулась от дома через сад).
– Ах вы, паршивцы, – без гнева, но как-то сокрушенно говорит Аджарат, когда его дети оказываются на веранде.
– Мы готовы к сабельному бою, отец! – звонкий голос девочки.
– Да куда же вы денетесь, готовы там или нет… – Это Аджарат, похоже, произносит с усмешкой.
– Брат, помни: твоя дочь уже взрослая девушка! – вмешивается Ламии.
Он придвинулся к перилам, сейчас его тень впервые становится видна. Действительно верзила, на голову выше собеседника.
– Как видишь, покамест еще далеко до этого. – На сей раз усмешка в голосе Аджарата совершенно несомненна.
– Замолчите, мужчины, – говорит Эдже. – И ты, брат, и ты, муж мой. Джан… Джанбал, дочь моя, подойди.
Что следует дальше, по теням разобрать трудно, они сливаются. А слова какие-то при этом если и произнесены, то шепотом.
Кажется, женщина вешает на шею своей дочери какое-то… ожерелье, что ли. Или просто медальон на цепочке. Впрочем, может быть, это тумар, амулет со строкой из Корана, мама не расставалась с таким, когда носила под сердцем младшего братика, Мехмеда: он помогает сохранить беременность…
(Вспомнив о Мехмеде, Айше, как всегда, ощутила в груди ласковую теплоту. Это не Орхан, несносный задавака, хоть и грех такое думать теперь, когда старший брат предстал уже перед Аллахом.)
Но… ее подруге Бал, конечно же, тумар сейчас еще ни к чему. Уж настолько рано, что смех один, а не обережение.
Тогда, наверное, это назар бонджук, «глаз Фатимы» – или хамса, «рука Фатимы». Они от многого помогают, в том числе и просто от сглаза или порчи. Двенадцатилетней девчонке тоже можно носить, ничего смешного тут нет.
– Береги сестру, Джан, – это Эдже говорит Беку.
– Береги Джанбал, сын, – эхом повторяет Аджарат.
– Береги Бал, брат, – подхватывает и Ламии.
В воздухе повисает короткая пауза. По-видимому, все ждут каких-то слов от мальчика, но он молчит. Еще бы. Айше на его месте точно не знала бы, что сказать.
– Буду беречь, – просто отвечает он. С такой спокойной твердостью, что ему веришь.
Айше, во всяком случае, поверила.
И тут же окончательно, бесповоротно ощутила, что больше ни одна тайна не уместится в ее голове. По крайней мере сегодня. Да и о разгадке уже подслушанных тайн думать абсолютно не по силам.
Кто там этот Ламии, которого и муж, и жена называют братом, а он сам зовет братом их сына; что еще за названный брат, побратим, когда-то владевший тем оправленным в янтарь бебутом, и что за «бывшая» сестра-близнец; чью могилу омыли слезы моря; почему девочке надо вручать оберег именно сейчас, когда кинжал сменил владельца, и зачем сопровождать это таким странным ритуалом…
Хватит. Принцесса сыта загадками по горло, до тошноты.
Обретенные сегодня друзья, Бал и Бек, потом ей об этом расскажут. Или не расскажут. Спрашивать-то у них нельзя, это Айше ясно: дружбу загубишь сразу, напрочь.
И очень хорошо, что от угла дома через сад тянется потайная тропинка.
3
Ну, вы все знаете, правоверные: шахзаде Мустафу не смогли убить тайно – потому убили в ставке отца, облыжно обвинив в измене. И сделано это было так, что нет никакой возможности отрицать вину самого султана, повелителя правоверных; единственное, что может пусть не оправдать, а смягчить ее, – это тот яд, который влили в уши султану двое злочестивых потомков-гяуров, роксоланка Хюррем-хасеки и великий визирь Рустем-паша, тоже гяур по рождению. Тсс, правоверные… А вы, гяуры, ликуйте: не случись этого, смени Мустафа Чистосердечный на троне Сулеймана Великолепного, туго бы вам пришлось. А возьми Сулейман, чьи руки уже начали слабеть, своего старшего и лучшего сына в соправители, и вовсе следа бы от вас, гяуры, не осталось. Взяла бы верх Блистательная Порта в Мухаребеси[4], стали бы все моря внутренними водоемами Порты, были бы поставлены на колени все земные владыки от Кастилии до Роксолании и от Ирана до неведомых стран Доку, дальних пределов Востока… И вообще, те десятилетия, которые мы называем мухтешем юзйыл, «блистательный век», были бы по меньшей мере удвоены в продолжительности своей.
Ладно, гяуры. В ту пору этого не только вы – ни единый из правоверных не знал.
Но уже тогда было известно, что вызванный в отцовскую ставку шахзаде Мустафа отправился в путь с легким сердцем, не зная за собой вины. Но, наверное, просто на всякий случай предпринял кое-какие действия, чтобы, постигни его злая участь, не пострадали близкие к нему люди. Так, главу своих телохранителей он не то чтобы выгнал со службы, но удалил от себя, выделив ему в семейное владение еще один чифтлык, на самой окраине города Амасья. Вернется он как шахзаде и санджак-бей – легко будет позвать этого телохранителя обратно; нет – не подвергнется тот гонениям.
А еще Мустафа перед отъездом разослал подарки всем, кто был дорог его сердцу.
Но вот чего он вовсе не мог предвидеть, так это то, что злая участь обрушится на всю его семью. Насчет сына-то Мехмеда – ладно, это в обычаях и даже законах Блистательной Порты… хотя, скажем вам, предварительно оглянувшись по сторонам, не подслушивает ли кто: гнусное дело – убивать тринадцатилетних. Даже если они нежелательные наследники, из-за которых может когда-то возникнуть смута. Будто без них не найдется из-за кого… Будто Мехмед – единственный внук султана…
Однако мужской корень порой рубят, такое известно. А вот женский, жен и дочерей, трогать не принято. Положим, старшую, Нергисшах, принудительно выдать замуж – тоже ничего особенного, такое как раз бывает. Но вот младшую, Айше, за что под стражу взяли? И, по слухам, так взяли, что не намерены выпустить ее живой.
Что вы говорите? Да неужто, правоверные? Значит, она привселюдно дала торжественную клятву посвятить всю оставшуюся жизнь мести потомкам Хюррем? За отца и за братьев, особенно младшего?
Да еще на каком-то особом кинжале эту клятву принесла?
Ай-ай-ай, правоверные… Давайте лучше разойдемся сейчас.
* * *
Гонец появился неожиданно. Впоследствии Айше готова была поклясться, что он соткался из солнечных нитей, из полуденного марева. Впрочем, тогда заплаканные глаза девушки много чего не видели, а что видели, то видели неверно. Или наоборот – лучше, чем раньше… Горе размыло мир, обнажило его черные углы, приглушило яркий свет дешевых светильников. И только солнце по-прежнему светило над Амасьей ослепительно ярко. Словно Аллаху не было дела до смерти отца и Мехмеда.
А может, и не было. Шахзаде Мустафа теперь на небесах, и ему там хорошо. Айше верила в это свято. Рядом с шахзаде – его сын, шахзаде Мехмед. Аллах воздал им по делам их.
Ну а живым остается лишь оплакивать близких.
С мамой в последнее время стало невозможно общаться, и дело было не в пронырливых служанках, половина из которых шпионила для проклятой Хюррем, а вторая половина больше всего боялась, как бы их не коснулась десница султанского гнева. Просто Румейса… погасла. Исчезла чуть рассеянная, но неизменно добрая улыбка. Потухли прекрасные глаза. Мама словно бы отстранилась от этого мира, готовая к переходу в мир иной, неизмеримо лучший. О бедах своей дочери Румейса-султан слушала вполуха, отвечала невпопад… То ли живая, то ли уже там, на небесах, с мужем и сыном.
Бабушка, великая Махидевран, которая и сейчас отзывалась исключительно на «Махидевран-султан», обняла как-то Айше и спокойно, прикрыв тяжелыми веками совершенно сухие глаза, сказала:
– Оставь ее, деточка. Со временем придет в себя. Если, конечно…
Махидевран не договорила, но Айше поняла и без слов: если Румейсе будет позволено выжить. Если проклятая Хюррем не доберется и до женщин их рода и их крови.
А еще бабушка добавила:
– Быть близкой к султанскому роду – нелегкая судьба, девочка, и никто не выбрал бы ее по доброй воле. Но Аллах дает каждому по способностям его. И лишь некоторым дает по способностям шайтан.
Приоткрылись веки, блеснули неистовые черкесские глаза, и Айше в который раз удивилась, почему Сулейман Кануни променял это воплощенное пламя, эту неистовую страсть на какую-то бледную моль, у которой и достоинств-то – беспечальный смех, рыжие космы (повыдергать бы их!) да змеиный яд вместо души. Не иначе шайтан, нечестивый покровитель Хюррем-хасеки, сделал под покровом ночи свое грязное дело.
Тогда Айше не выдержала, отошла от бабушки подальше и разрыдалась в глубине сада. Наверняка не одна пара глаз увидела, как некрасиво плачет Айше-султан, и не одни губы донесли эту ну очень важную новость в широко расставленные уши желающих послушать, но Аллах воздаст сплетникам и шпионам по заслугам. А сама Айше после той истерики сделалась на диво спокойной. И вправду женщинам становится легче, если удается выплакать горе.
И вот теперь – гонец от дяди Джихангира. К шахзаде Мехмеду.
Как Айше не расплакалась снова, ведает только Аллах, всемилостивый и милосердный. А он там, в небесах, не расскажет никому, лишь впишет очередную страницу в Книгу Судеб.
Черную весть принес гонец – да и в ответ услышал не веселый девичий смех. Нынче сплетни в Амасье клубились черным дымом, пахли гарью и дурными делами, теми, которые не делают на виду у всех правоверных.
Шахзаде Джихангира Айше толком не знала – отец уехал из Истанбула, когда его самому младшему брату (тоже выкормышу проклятой Хюррем – не было у шахзаде Мустафы иных братьев!) исполнилось лишь два года. Слышала о Джихангире лишь то, что знала вся Оттоманская Порта: не довелось Джихангиру родиться стройным, будто кипарис, с детства венчал его спину отвратительный горб, а потому мальчик не стал бы султаном, даже если б его братьев всех до одного выкосила неведомая хворь. Или ведомая – в конце концов, Хюррем-хасеки сойдет за смертельную болезнь! Тем не менее образование мальчик получил вполне подобающее для шахзаде, лишь в воинских забавах участвовать в полную силу не мог. Знала Айше и то, что отдал Сулейман Кануни своему младшему сыну правление в провинции Халеб, которую гяуры еще называют Алеппо, и засел там Джихангир во дворце Аль-Матбах Аль-Аджами, обложившись книгами и каким-то образом умудряясь неплохо править своей провинцией. Назначив шахзаде Джихангира в Халеб, Сулейман Кануни в который раз обидел наследника своего, Мустафу, отрядив того в затрапезную Амасью, ну да что уж теперь…
Главное – шахзаде Джихангира отец Айше отличал от прочих. Мало того, говорил, что любит того братскою любовью. Было это так или не было, Айше уже не знала и знать, если честно, не очень-то желала. Братья от разных матерей переписывались, иногда встречались – редко, но шахзаде Мустафа каждый раз после этих встреч приезжал веселый и отдохнувший, привозил новые шуточки и стихи, посвященные женским красотам, из тех, что не читают обычно при женщинах, но те все равно каким-то образом о них прознают… Может, и не таким уж плохим человеком был шахзаде Джихангир. В конце концов, что ему, убогому, дрязги и война за султанский трон? Мог и живым при смене султана остаться, даже если отец и не… Даже теперь мог остаться живым. Калека не вправе наследовать трон Блистательной Порты, так что Джихангир мог жить.
Мог.
Но вот не случилось.
Айше изо всех сил закусила губу, так что выступила соленая капелька крови. А ей-то, глупой, казалось, что после смерти отца и брата сердце ее омертвело и больше не сможет оплакивать никого! Но вот же – оплакивает она шахзаде Джихангира, которого и не видела-то ни разу.
Глупо? Наверное. Зато правильно. Уж кто-кто, а Айше-султан была уверена, что правильно.
Гонец мялся, словно хотел сказать что-то еще, но не смел. Айше твердо кивнула ему:
– Что там у тебя?
Голова девушки слегка кружилась. Как, ну как же так случилось, что она разговаривает с мужчиной наедине в гареме, который насквозь просматривается и наверняка прослушивается? Но вот он, гонец, и вот она, Айше, стоят возле зарослей жимолости, беседуют чинно, хоть временами и прорывается горе коротко брошенным взглядом, прокушенной насквозь губой, хриплым вздохом…
Чудеса, не иначе. Но на все воля Аллаха – и на чудеса, видимо, тоже.
– Вот, госпожа. – Гонец протянул что-то, завернутое в шелковый платок. Хороший платок, между прочим, Айше оценила: темно-бордовый, с вязью стихов по кайме.
Развернуть платок – дело одной секунды. И…
Да, Айше уже видела этот кинжал. Кинжал Аджарата, отца Джанбал.
Откуда он у шахзаде Джихангира?
– Шахзаде Мустафа прислал его в подарок… совсем недавно прислал… – Гонец, похоже, и мысли мог читать! Или просто совпали у обоих мысли, вот и ответил на незаданный вопрос. – Шахзаде Джихангир – ученый человек… был ученым. Шахзаде Мустафа решил, что моему господину, возможно, покажется интересной история этого клинка. Вот исследования шахзаде… Мой шахзаде послал их шахзаде Мехмеду, но…
Голос гонца прервался. Айше на миг крепко зажмурилась, сдерживая кипящие, горячие, душу рвущие слезы.
Это все несправедливо, воистину несправедливо!
– Хорошо, я это возьму. Шахзаде Мехмед… не может.
Некоторые слова вовсе не было нужды произносить.
– Ты не голоден ли? Не нуждаешься ли в чем?
– Благодарю, госпожа. – Гонец низко поклонился. – Но мне не стоит здесь задерживаться. И награды мне никакой не нужно. Ради шахзаде Джихангира делаю то, что делаю.
– Понимаю… – прошептала Айше.
Слезы все-таки прорвались наружу, пришлось отвернуться. А когда девушка вновь повернулась, гонца уже рядом не было. Лишь шелестела на ветру листьями жимолость да евнух Керим спешил по своим делам. И где раньше его носило?
Да и был ли гонец, существовал ли взаправду?
Но кинжал – вот он. А вместе с ним листы бумаги, исписанные летящим почерком шахзаде Джихангира.
Айше поторопилась убраться из сада, неся в широком рукаве бесценную добычу. Скорее, скорее в свою комнату, где можно без помех углубиться в чтение!
* * *
Ну вот и все…
Губ Джихангира коснулась слабая улыбка, так не вяжущаяся с тем, о чем он только что прочел в письме.
Вот и все. Мустафы больше нет. Великая резня началась. Та самая резня, против которой столь рьяно выступал старший брат. Та, которую он поклялся отменить навеки, если Аллах и милость султана Сулеймана дозволят ему воссесть на трон Оттоманской Порты.
Увы, султаны редко бывают милостивыми.
Уж Джихангир-то доподлинно это знал.
С раннего детства был он наперсником и собеседником отца. Так уж вышло – Сулейман искренне привязался к мальчику-калеке, который не может претендовать на трон, а значит, не опасен ни самому Сулейману, ни собственным братьям. И общение с отцом сделало из шахзаде Джихангира… нет, не циника (хотя он, общавшийся с книгами даже больше, чем с отцом, лучше прочих знал все смыслы этого слова), но человека, относящегося к жизни и милостям сильных мира сего крайне скептически.
К обещанию Мустафы пощадить младших братьев, если доведется стать султаном, Джихангир поначалу тоже отнесся скептически. Много их было, султанских сыновей, – с цветистыми речами, упоминающих милость Аллаха, братскую любовь и кровное родство. Всех их сломали безжалостное время и не менее безжалостная власть, свалившаяся им на плечи подобно небесному своду, придавившему когда-то Атланта, героя древних гяурских мифов.
Но Мустафа был другим. Джихангиру казалось, что плечи старшего брата эту тяжесть выдержат.
Как выяснилось, так казалось ему одному.
Мустафа писал всем братьям. Откликнулся один Джихангир.
Поэт, скрывавшийся под псевдонимом Зарифи, был человеком циничным, но так хотелось верить в сказку!
Янтарь на рукояти кинжала поблескивал, и временами Джихангиру казалось, что вовсе это и не навершие рукояти, а золотая слеза, которую солнце – или море – пролило по умершему шахзаде.
«Желтый камень терпения», – вывел калам Джихангира, и шахзаде надолго задумался.
Время ли слагать стихи, когда задумал то, что никогда не простит Аллах и осудят люди?
Людской молвы, впрочем, избежать удастся. Бросать тень на отца и братьев Джихангир не желал. Аллах воздаст каждому по делам его, а тень от сыноубийства и без того лежит на султане Сулеймане. А уж кто подтолкнул его к этому убийству…
Джихангир, конечно, знал. Нельзя быть шахзаде, сыном своего отца и своей матери, и не знать.
Что же ты наделала, мама?.. Что же ты наделал, отец, зачем поддался женскому коварству? Зачем убил достойнейшего из достойных? Ради кого, ради пьяницы Селима? Ради высокомерного и заносчивого Баязида? Кто из них ближе твоему сердцу, кого ты пошлешь на смерть ради второго брата? Или предпочтешь смотреть с небес, как братья режут друг друга?
Нет, ты не таков, Сулейман Кануни. Ты все сделаешь сам.
Поэт Зарифи по этому поводу сложил бы несколько бейтов – и сжег бы бумагу с ними, потому что поэт Зарифи трус и никогда не выпускает наружу слезы своего сердца. Нельзя простому люду знать то, что творится в султанских покоях. Об этом должно ведать лишь Аллаху.
И воздавать каждому, да.
Джихангир тоже был трусом. Он не желал видеть, как люди, чтимые им, любимые им, превращаются в хладнокровных убийц.
Зарифи тихонько встрепенулся, наполнив душу шахзаде образами и мыслями. Покачав головой, Джихангир взял калам:
О судья в чалме высокой, бедняков жестоко судишь.
Что ты скажешь о султане, что наследника убил?
Отвечал судья:
– Султану
Лишь Аллах судьею будет…
Джихангир подавил желание приписать четвертую строку: «А меня дела такие не касаются вообще!» Звучало бы слишком простонародно. Неправильно бы звучало.
Подумал немного, исправил строку на более благозвучную. Продолжил:
Обо всех скорбит убитых желтый камень, слезы моря,
Чаша вечного терпенья, что душе ссудил Аллах.
Горе, если в этой чаше будет лишнею хоть капля!
Гордецу простить не смогут волны, ветер и судьба.
Ну вот, опять этот камень пролез в мысли шахзаде! А впрочем… пусть будет.
Рука сама поднялась сжечь листок, как делала это много раз, но остановилась. Хоть раз не будь трусом, шахзаде Джихангир, или поэт Зарифи, – какая сейчас разница? Вы едины сейчас в своей скорби и желании оставить этот грязный мир, где, чтобы выжить, нужно убивать братьев по крови. И вы едины в желании сделать так, чтобы о вашем самоубийстве никто никогда не узнал.
Кроме Аллаха, от всевидящего взгляда которого не укрыться.
Да, Джихангир слаб, ну так почему бы не использовать эту слабость? Никого не удивит, если горбун, в дом которого лекари приходят, как в свой собственный, несколько дней пожалуется на слабость, а затем скончается. Скажут – очередная болезнь подкосила-таки шахзаде. Жаль, очень жаль.
Шахзаде позвонил в серебряный колокольчик. Вошел слуга.
– Вот это письмо вместе с кинжалом отправить шахзаде Мехмеду. Немедленно.
Если Мехмед – истинный сын своего отца, то он поймет. И, возможно, даже простит.
Желтый камень терпения мигнул последний раз, скрываясь под темным платком.
* * *
«Гордецу простить не смогут волны, ветер и судьба», – прошептала Айше последние строки письма дяди. Что шахзаде Джихангир имел в виду?
И откуда гонец узнал о смерти господина, если выехал раньше черного вестника смерти?
Другой гонец привез им весть о смерти шахзаде днем спустя.
Людская молва? Но тогда она и до Амасьи долетела бы вместе с первым гонцом. А до появления второго все было тихо. Люди в основном обсуждали свои новости – благо, их здесь хватало, да и повышение генуэзскими купцами цен на зерно уже почти вытеснило сплетни о трагической доле шахзаде Мустафы и янычарском бунте, последовавшим за этим.
Люди любят свежие новости. Оплакивать мертвецов остается лишь близким и родне.
И все же, что дядя имел в виду?
Кинжал смирно лежал в ладони – холодный, тяжелый, чужой. Лишь янтарное навершие рукояти неожиданно оказалось теплым, словно прогретым ласковым утренним солнцем.
«Желтый камень, слезы моря», «чаша вечного терпенья»…
Что же знал дядя Джихангир, что он пытался донести до брата?
Айше думала было посоветоваться с Бал – в конце концов, лучшая подруга, почти сестра, – но мысль о том, кому изначально принадлежал этот клинок, остановила. Вспомнилось: «Мой отец немного Хызр».
Ладно. Она, Айше, сама разберется со всеми загадками. И гордецу, а точнее гордячке, подлой хохотунье, вообразившей себя клинком Иблиса, никто не поможет. Если будет нужно, то для отмщения Айше согласна стать волнами и ветром!
Согласна стать воплощением судьбы.
Айше покрепче сжала рукоять. Янтарь тускло блеснул.
Со сном у Айше стало совсем плохо.
Ждать смерти оказалось очень утомительно, к вечеру глаза начинали закрываться сами собой. Усталость брала свое еще до ужина. Она мало и без аппетита ела под скользящими взглядами служанок – в последнее время все избегали смотреть ей в глаза. Потом засыпала быстро, будто падала спиной вперед в темную теплую воду.
Волны смыкались над головой Айше, но ей тут же начинали сниться плохие сны: по бесконечным коридорам шли убийцы без лиц, неслышно открывали двери, становились над ней, разматывали шелковые удавки, доставали из ножен кинжалы. Она чувствовала их рядом, слышала, как они дышат, и просыпалась с бешено бьющимся сердцем, проспав всего час или полтора.
У постели никого не было, пуста была комната, звездный свет струился сквозь решетку. Айше хотелось встать, подойти к окну, посмотреть на звезды, найти взглядом светлую полоску Соломенной Дороги, которую арабы называют также Дарб Аль-Лаббана, Молочный Путь. И уйти по ней легкими шагами, уйти далеко в небо, туда, где нет ни страха, ни жестокости, ни потерь.
Но тяжелые веки падали, она снова засыпала и опять пробуждалась в ужасе и холодном поту, потому что кто-то стоял у постели.
Иногда, еще не проснувшись окончательно, она понимала, что тот, кто стоит над ней, не враг, не убийца, а кто-то из любимых, потерянных ею за последний год.
Отец смотрит на нее с ласковым прищуром, мама наклоняется и невесомо целует в лоб. Мехмед шепчет: «Я нашел под деревом птенца дрозда. Он уже оперился, но еще не летает, и лапка у него сломана. За ним нужно присмотреть, пока не поправится, – хочешь?» Айше хотела.
В такие ночи она плакала, но утром просыпалась заметно отдохнувшей. Тогда ей казалось, что надежда есть, что ее невозможное, несправедливое заточение может иметь и иной исход, кроме того, который все предполагали.
Сама ее юность нашептывала ей так – ведь только юные умеют надеяться, когда надежде нет места и быть не может. Хоть голова и сопоставляет, обдумывает и говорит «так будет», но сердце колотится и верит, верит вопреки всему, что будет не так, – не смерть, а ветер в лицо, и звезды, и свобода, и чья-то сильная рука, сжимающая твою ладонь.
Сердце верит, а горячая вера порой саму жизнь под себя подстраивает, создает обстоятельства, сглаживает невозможности и приводит тех, кто поможет, в ситуации, где помощь возможна.
* * *
Неширока река Ешиль-Ирмак, неглубока, несудоходна. С берега на берег стрелу добросит и мальчишка, а есть места, где, пожалуй, и девчонка с детским луком справится. Несет река свои зеленоватые воды в Черное море – мимо полей, лесов, деревень и городов. Стирают в ней белье, набирают для питья мутноватую, чуть сладкую воду, а кто побогаче – отводят выложенные камнем широкие желоба, по которым вода наполняет домашние бассейны – хаузы. У очень богатых, тех, кто живет в усадьбах еще византийских времен, это даже не желоба, а водоводы, закрытые трубы. Сейчас таких уже и не прокладывают.
Жаркое лето в Амасье, нет от жары облегчения приятнее, чем опуститься в прохладное водное блаженство прямо в собственном внутреннем дворе.
Ну а кто победнее, тот и прямо в речке искупается, лучше с лодки, где поглубже, а потом обратно залезет, отдуваясь. А потом сеть или удилище забросит. Если повезет, то и обед-ужин себе вытянет.
Сейчас осень. Но припекает сегодня совсем уж по-летнему. Даже странно: сперва шептались, что солнце столь огорчено смертью несравненного Мустафы, шахзаде и санджак-бея, что покрыло свой лик траурной чадрой, – а вот всю последнюю неделю оно вновь сияет, будто распаляясь предсвадебным пылом.
Стражнику, проходившему по стене, было жарко. Он завистливо глянул на двух подростков, рыбачивших с лодки в паре десятков локтей от дворцовой стены. Мальчишки переговаривались звонкими голосами, смеялись, вдруг один вскрикнул – упустил сеть, болван. Второй закричал на него: мол, чего зеваешь, ныряй за ней, может, еще достанешь. Парнишка плюхнулся в воду, исчез под поверхностью. Вынырнул, набрал воздуха, снова нырнул искать. Стражник покачал головой: ох, он бы своему за потерянную сеть всыпал, мало не покажется, – и пошел со стены в блаженную, манящую прохладой тень. Пусть мальчишки по дну шарят, от дна не убудет.
Поосторожнее бы все же. Ешиль-Ирмак река непростая, обманчиво спокойная, но с норовом, прячет под поверхностью и ледяные ключи, и опасные водовороты, и темные стремнины. Но, вздохнул стражник, своего ума другому не займешь, а судьбы все в руке Аллаха: и маленьких рыбаков, и его, потомственного дворцового чауша, и обреченной опальной принцессы, для охраны которой его и прислали из столицы.
– Пролезть в трубу можно. – Бек, отдуваясь, вынырнул у лодки. – Плечи пройдут – значит, и все тело протиснется.
В последний раз ныряя под дворцовую стену, он пробыл под водой так долго, что у Джанбал уже в голове начало мутиться от темного волнения. Она сперва пыталась отсчитывать мгновения, потом сбилась, еле дождалась, когда голова брата покажется над поверхностью.
– Ушел стражник?
– Ушел, – кивнула Джанбал. А потом ухватила Бека за руки и силой втянула в лодку.
– Ты чего? – Он возмущенно встряхнулся, показывая, что совсем не устал. – Сейчас немного передохну, а потом еще поныряю. Там решетка старая, крепления проржавели…
– Справишься без инструментов?
– Ага. Расшатаю, вытащу… Конечно, со стороны бассейна тоже будут прутья, но если весь этот водовод с бассейном одновременно делали, то и там их будет нетрудно расшатать.
– Это уже не твоя забота.
– Ну да, Джан. Не моя. Твоя…
Девушка снова кивнула. В детстве она гордилась тем, что силой и ловкостью не уступает брату, по ловкости-то все так и осталось, но вот силы у него теперь, на подступе к юности, конечно, куда больше. То есть ей там придется действовать не руками. Кинжал будет нужен, без него никак. Хотя лучше бы, конечно, зубило кузнечное…
– Кинжал во дворце, наверное, куда как легче будет отыскать, чем зубило… – пробормотал Бек. Они, само собой, сейчас думали одинаково.
– Ныряй уже, – прервала его Бал. – Скоро стражник в следующий обход пойдет. Думаешь, ему не покажется подозрительным, что мы тут с тобой второй час сеть ищем?
– Не скажи. – Джанбек покачал головой. – Вот Альтана, что из дома под платаном, отец так жизни учит за каждый разбитый горшок и потерянную серьгу, что тот…
– Ныряй, – строго повторила Бал.
Брат улыбнулся уголком рта, прыгнул в воду.
Джанбал подтянула к борту заброшенную раньше сеть и, хоть они были здесь совсем не ради рыбной ловли, не смогла сдержать возгласа восхищения: две большие белые кефали и одна редкого золотистого оттенка, со странными красноватыми глазами. Рыба билась сильно, не хотела умирать.
Джанбал вспомнила старую сказку про рыбину с золотой чешуей, которая если кого полюбит, то исполнит любое его желание.
– Пусть у нас с Айше получится бежать, – сказала она, глядя рыбе прямо в глаза. – Пусть меня никто не узнает и с моей семьей ничего плохого не случится.
Рыба замерла в ее руках, будто слушала внимательно и соображала, как бы получше выполнить желание Джанбал.
Девушка опустила ее за борт, и странная рыба сразу ушла в глубину, сильно изгибая тело.
Только тут Джанбал пришло в голову, что можно было бы просто пожелать лучшего мира, в котором султановы наследники не убивают и не казнят друг друга, а везде царят понимание, добро и любовь, как Аллах и задумал, этот мир создавая.
Наверное, можно было так пожелать, но рыба уже ушла в глубину, да и ерунда все это, старые сказки, просто рыбе повезло иметь необычный оттенок чешуи, вот и спаслась.
На себя только можно рассчитывать. Вот на Джанбека еще. И на бесконечную милость Аллаха.
– Я решетку вытащил из креплений и обратно поставил, – сказал Бек, отфыркиваясь и залезая в лодку. – Ее нужно будет сильно толкнуть изнутри. Труба узкая, руку вдоль тела можно не вытянуть, так что ныряй туда сразу руками вперед.
Джанбал передернуло при мысли, как просто будет в этой трубе им обеим захлебнуться и остаться там, пока не найдут и не опознают: стиснутыми, пучеглазыми, с уродливо вывалившимися наружу распухшими языками…
– Зачем поставил? – спросила она. – Лишнее препятствие.
– Затем же, зачем ее изначально ставили. – Джанбек пригладил мокрые волосы, открывая родинку у виска. – Чтобы рыба и прочая речная живность в бассейн не поднималась. А то пойдет купаться Адак-ханум, а там рыбы тычутся в ее прелести – холодные, склизкие…
– Прелести холодные? – Бал развеселилась, несмотря на неотступную тревогу. – Дурак ты все-таки. И мальчишка. Как был, так и не вырос…
– Ну, может, и так. – Джанбек посмотрел на нее серьезно, будто только сейчас осознавая, что все это не игра, не приготовления к большой шалости, что опасность реальна и велика. – Ты уверена, Джан?
– Да, Джан, – кивнула сестра, словно и не было у нее страхов и сомнений. – Погребли домой, еще многое надо сделать.
– Слушай, а ты как думаешь, когда Айше клялась, ну… наследников Хюррем со свету сжить и кровную месть… – Джанбек запнулся.
– Договаривай уж, – буркнула сестра.
Они уже подгребали к дому. Бал прикидывала, как бы ей половчее, ни с кем не столкнувшись, проскользнуть в свою комнату, чтобы никто не заметил, что на ней мальчишеская одежда.
– Она что… действительно это самое и имела в виду?
– Конечно, – удивилась Бал. – Такие вещи если говорят, то это из глубины сердца идет. Даже, наверное, так: будто и не ты сам, а тобою что-то руководит.
– Что?
– Ну… справедливость, например.
– Представить не могу. – Бек покачал головой. – Вот она проникает во дворец… ну, скажем, Баязида. Или Селима. Да кого угодно.
– Думаешь, это так легко?
– Думаю, наоборот, вообще невозможно. Но допустим. Идет по коридору с кинжалом, открывает дверь… И что же, размахивается и вонзает клинок в живого человека? Чувствует, как лезвие проходит в плоть, задевает ребра, вспарывает там, в глубине, печень или легкие? Айше, моя… наша Айше, так сможет? Я и представить этого не могу.
Джанбал помолчала, прищурилась на камыши, сильно загребла веслом. Лодка пошла вперед быстрее.
– Это потому, что ты не знал настоящей ненависти, – сказала она тихо. – И, милостью Аллаха, никогда не узнаешь. Такая ненависть приходит от отнятой любви. Представь себе, что кто-то убил меня. Ни за что, просто за то, что у меня такая кровь. И нет меня, лежу мертвая, а враги руки потирают. Как бы ты с этим жил и что бы хотел сделать с обидчиками?
Джанбек не ответил, но сжал свое весло так крепко, что костяшки побелели.
Некоторое время они гребли молча.
– Хорошо, что у нас кровь простая, – сказал Бек, когда они уже привязали лодку к маленькому причалу. – Ни от матери, ни от отца нет в наших жилах крови, за которую убивают.
– Точно знаешь?
– И знать не хочу. То, что было в прошлом, в далеких незнаемых краях, оно там и осталось, разве нет? И теперь мы свободны быть теми, кем хотим, правда?
– Да, это хорошо, – откликнулась Джанбал. И тронула на груди, под воротом рубахи, топазовый медальон, безошибочно ощутив его сквозь ткань.
Они оба, конечно, сейчас вспомнили о слезах моря и защитном камне острова Зебергед. Но это же совершенно другое, правда? Ведь так?
Брат пошел вперед по аллее, а она кралась в тени деревьев. У дома стоял Ламии, рассматривал куст поздних осенних роз редкого дамасского сорта «Слеза заката». Пахли они одуряюще. Старая служанка Динч-ханум всегда собирала и сушила лепестки, потом пересыпала ими одежду, и, открывая сундук, Бал с детства привыкла чувствовать их тонкий чарующий запах.
Ламии в теплом вечернем предзакатном свете вдруг показался Бал особенно высоким и – девушке вдруг вспомнились слова из какого-то дастана о достославных воинах: «Столь прекрасен он ликом и телом, что говорит луне: “Или ты всходи, или я взойду”». Она сейчас впервые о нем так подумала, но мысль, показавшаяся нелепой до смешного, не задержалась, тут же исчезла – Бек подошел к Ламии, отвлек его разговором, стал показывать пойманных кефалей. Бал проскользнула мимо них быстрой тенью: в арку, в коридор, в свою дверь. Уф, никого.
Через несколько минут Джанбал вышла из своей комнаты уже в девичьем наряде, расчесав густые волнистые волосы, освежив лицо розовой водой и наконец-то смыв с рук рыбный дух.
Джанбек и Ламии вошли в дом вместе, брат показал и ей двух больших уснувших рыбин, похвастался уловом. Бал чуть заметно скривилась, наморщила нос.
– Рекой пахнут, – сказала она. – Но молодец, что поймал. На кухню отнесешь?
– Нет уж, я поймал, а ты отнеси. – Бек взглянул на нее с мальчишеской зловредностью. – Пусть Динч-ханум их нам зажарит, кефаль сейчас вкусная, жиру на зиму нагуляла.
Был день пазар, воскресенье. Подготовка к побегу шла по плану.
В пазар-эр-тези, понедельник, они нарезали камыша и сейчас вязали из него длинные, как бревна, плавучие веретена.
– Вот так, смотри, – показал сестре Джанбек. – Не надо слишком ровно, ты же не рукоделием занимаешься. Когда мы закончим плотик, он должен выглядеть как плавучий островок. А у тебя, посмотри-ка, все такое аккуратное, прутик к прутику, будто гладью вышиваешь.
Плавучий островок… В это время года камыш уже сухой и хрупкий, течение ломает его, относит к берегам и сбивает в неряшливые кучи. Их потом мотает по всей реке. Вот так и должен выглядеть их плотик, Бек прав.
Однако нечего ему задаваться, мальчишке!
– Да уж, твое такое вышивание никакую ткань не украсило бы, – сказала Бал, оглядывая творение брата: камышинки торчали во все стороны, то здесь, то там виднелись почерневшие листья, подгнившая трава. Но выглядел кусочек плавучего острова действительно как настоящий, будто не мальчишеские руки его связали, а сбила темная, уже по-осеннему холодная вода, при одной мысли о которой Джанбал захотелось убежать в свою комнату.
И спрятаться под одеяло, от всех спрятаться, от всего. От мыслей об Айше и ее скорой смерти, о том, как та уже идет за ней, жадная, темноглазая. Гонит коня, щурится от ветра и яркого осеннего солнца. Или прямо сейчас пьет кофе, остановившись в караван-сарае по пути из столицы.
Надо успеть! Джанбал вздрогнула, принялась вязать стебли, как показал ей брат.
Ото всех можно спрятаться человеку, но от себя-то никогда не получится. И каким человеком окажется она, Джанбал, каким другом, решается именно сейчас.
– Вот здесь будут отверстия для ваших голов, – сказал Джанбек, показывая, как прикрыть дырку в плотике торчащим камышом. – Держаться надо будет руками снизу, вот так. Чтобы только лицо на воздухе было, только чтоб дышать можно. Холодно будет, наверное, ну да ничего, недолго, потом разотретесь, согреетесь. Лодку спрячем внизу по течению, под мостом. Я в ней ждать буду. Плотик привяжем под стеной, у водоотвода. Я вчера видел там место, где плавучий камыш сам собой собирается, ну, река приносит, какой с нее спрос. Станет его чуть больше на рассвете – никто и не поймет. А потом плот течением вниз понесет. Вместе с вами. Руками-то будете держаться, ногами направлять, чтобы к берегу не прибило. Не знаю уж, как Айше плавает, – он вдруг смутился, и Бал поняла отчего: вспомнил, как сестра чуть не затащила их всех купаться в бассейне, – но ты сильная, сумеешь. Да и не сразу вас хватятся, если повезет. А там и стемнеет уже. Если увидим, что погоня, я вас тут же в лодке рогожей прикрою, рыбы сверху набросаю, у меня будет с собой…
Джанбал слушала его спокойный, уверенный голос, кивала и сосала палец, сильно порезанный острым камышовым листом. У крови был тяжелый соленый вкус, как и у мыслей об ожидающем ее испытании.
* * *
В день салы, вторник, они собрали и спрятали в лодке одежду на двоих – простую, крепкую. Мужскую одежду, только мужскую. Ладно, пусть будет юношескую.
Для Айше был полный набор – штаны, куртка-чепкен из грубоватой, но крепкой шерстяной ткани, рубаха, пояс, чарыки из сыромятной кожи. Джанбек еще на прошлой неделе выменял их у своего приятеля, того самого Альтана, что из дома под платаном. Мальчишка принял оплату серебряным кольцом и хорошим ножом – отличная для него вышла сделка, за ношеные-то штаны и потертую обувь.
У самой Джанбал все давно было приготовлено. Они еще год назад утащили с веревки развешанную для просушки одежду, и на них не подумал никто: как Бал с Бек и предполагали, воровство списали на проходящего бродягу или странника в нужде. Амасья была полна и теми, и другими.
О побеге тогда и мыслей не было. Лишняя одежда нужна была близнецам для приключений, для вылазок в город, да мало ли для чего брату с сестрой придется одинаково одеться.
– Вот еще что для Айше, ей понадобится… наверное, – сказал Джанбек, краснея, как сразу три вареных рака. И показал Бал свернутую в тугой моток льняную полосу шириной в ладонь.
– Зачем? – не поняла Бал.
– Ну… – Это казалось невозможным, но Бек умудрился покраснеть еще сильнее. Даже уши загорелись. – Чтобы за мальчика или там за юношу сойти, ей придется… грудь бинтовать. Тебе-то не надо. – Он взглянул на сестру и тут же отвел глаза, внезапно смутившись незнакомым взрослым смущением. – А у нее уже… уже все при ней, ведь она старше тебя. Может, через два года и у тебя…
Бал смотрела на него, склонив голову и прищурившись. Джанбек потерял мысль, задохнулся от неловкости, махнул на сестру рукой, задвинул маленький моток поглубже под скамью. Туда же отправились два меха с водой, промасленный сверток с двумя ножами и кинжалом, драгоценности, завернутые в невзрачную тряпицу, на которую незнающий человек дважды и не посмотрит.
Уши Бека вернулись к нормальному цвету лишь добрый час спустя.
В день чаршамба, среду, Ламии принес то, о чем договаривались. Опийную настойку в вине, завязанную в специальный мех в виде пояса, каснак-сарап. Такими пользуются контрабандисты, перенося пьяное зелье, чтобы за сумасшедшие деньги продать тем из немногих неверных, кто не боится сурового наказания за нарушение законов султана, и еще более редким правоверным, кто не боится ни его, ни последующей кары на небесах.
Каснак-сарап обвязывают вокруг талии в несколько витков, сверху надевается просторная куртка – и вот, пожалуйста, идет по улице толстяк, в еде невоздержанный, жир на боках, как бурдюк, колышется. Что говоришь, Эрол-бей, только вчера его худым видел? Нет, ошибаешься ты, толстый этот человек, и кошелек у него толстый, вчера как раз сын его заносил, вот тебе твоя доля. Видишь же теперь, что обознался? Так-то.
– Жалею, что пообещал, – мрачно сказал Ламии, передавая бурдюк Джанбеку. – Хоть теперь скажи мне, зачем тебе такая опасная ноша? И сплетни об Адак-ханум я принес тоже, но пока не признаешься, зачем тебе это, я ничего не расскажу.
Они ушли подальше, в угол сада, ближе к реке и к их нагруженной всеми нужными предметами лодке. Бал подсматривала за парнями из окна, но в сад не спускалась – и так у Ламии лицо мрачнее тучи, думает-гадает, в какую опасность собирается влезть его «младший братик». А поймет или просто заподозрит даже, что и Джанбал, «младшая сестренка», на ту же неизвестную опасность нацелилась, вовсе с ума сойдет, все обещания нарушит, выдаст их родителям. Дороже чести для Ламии их безопасность, дороже собственной жизни. Особенно ее, Джанбал, безопасность.
Она сама не знала, как поняла это, не было ведь никаких особенных слов или взглядов, все было, как было всегда. Но знала, что не ошибается. Ламии, высокий, сумрачно-красивый, с детства привычный старший друг, и вправду чуть ли не брат, он сердце из своей груди вырвет и всю кровь отдаст по капле, если будет думать, что это ее спасет и убережет.
Бал вздохнула, отвернулась от окна. Вздрогнула: в дверях стояла мать.
Эдже вошла неслышно. Остановилась у порога – и, задумчиво улыбаясь, рассматривала дочь, как та секунду назад рассматривала Ламии.
– Когда же вы успели вырасти? – спросила она. – Я же помню, как вы рядом лежали, спеленутые, точно две куколки. Помню, как первые шаги делали. Ты утром пошла, а Бек – в тот же день, но ближе к вечеру. Помню, как вы нашли в саду мертвого дрозда и пытались его оживить, растереть, согреть, чтобы он снова ожил. Как вы плакали потом до самого вечера, впервые поняв, что смерть необратима и ждет каждого…
Мать вздохнула, подошла к Джанбал, обняла ее за плечи.
– Каждый день помню, и ваш, и свой, а все же очень быстро жизнь идет. Вроде бы и много времени, событий, мыслей каждый день вмещает, а оглянешься – ох, Аллах всемогущий, куда же годы подевались? Ведь еще вчера и мы такими были, как вы сейчас, и тоже замышляли проказы и вылазки. Опасные, конечно. Вы-то наверняка что-то опасное затеяли, я чувствую.
– «Мы»? – переспросила Джанбал. Она мало знала о семье матери, с кем та росла, кого любила раньше. Им с братом было твердо известно: о таком спрашивать не нужно. Но раз уж мать сама заговорила… – Кто это «вы», мама?
Эдже прикусила губу, будто сердясь на свою оплошность.
– Мы с Пардино, кто же еще, – сказала она. – Ох, он был отличным товарищем, даже когда был еще котенком.
У Джанбал на языке вертелись еще вопросы, но мать тут же перевела разговор на другое, давая понять, что удовлетворять праздное любопытство дочери отнюдь не собирается.
– На что ты так внимательно в саду смотрела? – спросила она, выглядывая из окна. К счастью, Ламии и Джанбека уже видно не было – то ли договорили и разошлись, то ли отошли в другую часть сада.
– На птиц, – ответила Бал. – Птицы летят. Свободные, быстрые, сильные. Все небо – их, нет им ни преград, ни законов.
Стая гусей пролетела низко, гогоча нараспев, вытянувшись длинным треугольником. Женщина и девушка долго молча смотрели им вслед.
– Помнишь, мама, ты рассказывала нам сказку про Багряную Ладонь? Про волшебника, которого подло и ужасно убили, но он годы спустя появлялся и помогал своим детям?
– Помню, – тихо отозвалась Эдже. – Конечно, помню. Тогда я сама еще не совсем ее понимала. Но теперь понимаю очень хорошо. И рада бы хуже – но не могу…
Она посмотрела дочери прямо в глаза.
– Нет в мире любви и ответственности сильнее, чем родительская. Где бы ни были дети, что бы с ними ни случилось, мать и отец всегда будут рядом. И если будет хоть малейшая возможность помочь, они с того света вернутся, всех джиннов, охраняющих посмертные врата, разбросают – и помогут, спасут, прикроют собой… Своей душой, если тела уже нет. Но пока оно есть, мы тех, кого любим, всегда носим с собой, в голове и в сердце.
Эдже погладила дочь по волосам, убрала прядь с лица, заправила за ухо, задержавшись взглядом на родинке у виска. Чему-то печально улыбнулась.
– Всегда помни о тех, кто тебя любит, дочь. Всегда.
В ночь на першембе, четверг, Джанбал спать не ложилась. Вечером со всеми попрощалась, стараясь держаться как обычно, хотя хотелось каждого обнять, прижать к сердцу, не отпускать никогда – и маму, и отца, и Ламии. И особенно Джанбека. Ох, больно ему будет, как будто она его предала. Или и вправду выходит – предала? Но ему нужно остаться дома, с семьей, с Пардино. С Ламии. За ними приглядывать, их радовать. Нельзя же у родителей сразу обоих детей отнять.
Один глаз человек потеряет – больно будет, но человек этот останется тем же, самим собой. Обоих глаз лишится – и жизнь изменится навсегда, прежнего себя он оставит во тьме, никогда больше не найдет.
Так и с родителями. Хотя бы один из детей должен у них остаться. Пусть это будет Бек.
– Послезавтра? – спросил Джанбек тихо.
– Послезавтра, – чуть кивнула Джанбал, мысленно снова прося у брата прощения.
Она выскользнула из дома поздним вечером, когда домашние еще не уснули, но уже разошлись по своим комнатам. Если с кем столкнется, скажет, что не спится ей, что хочет посидеть в садовой беседке. Такой же, как та во дворце, в которой они с братом ночевали, когда были совсем детьми. То есть целый год назад.
Да и в родном чифтлыке у них такая же беседка. Однако же не проводить им там больше ночей, даже если Бал вернется живой после… После. Из детства они перешагнули в юность. Пора им обретать привычки совершеннолетних: если не на реке, наедине друг с другом, так в доме, в городе, меж всех прочих людей.
Ночью из дома труднее выйти тихо – каждый звук слышен, каждый шорох, да и мимо комнаты Джанбека на мужской половине дома так просто не пройти. Там сегодня спит Пардино-Бей: насторожится, вскочит, разбудит брата. Ему-то, Пардино, не объяснишь, не обманешь его. Так что лучше уж с вечера улизнуть, пожертвовать последними часами уюта, тепла, привычного домашнего быта…
Бал долго сидела в беседке, ежась от ночной прохлады. Чтобы не поддаваться невеселым мыслям, которые так и норовили наброситься, она снова и снова представляла завтрашний день – что надо сделать, кому как отвечать, как держаться.
Луна неслышной рысьей поступью шла по небу, отмеряя ночь. Когда она дойдет до Соломенной Дороги, пора будет встать на ноги и Джанбал. Идти к лодке, потихоньку отвязывать ее от причала, легко направлять веслом вниз по течению.
Они с Джанбеком каждый шаг продумали, каждый локоть пути, все повороты много раз миновали, пускай и мысленно.
Все должно пройти гладко.
* * *
Абдулла-Хамид, черный смотритель гарема дворца шахзаде Мустафы (бывшего шахзаде, ибо, о Аллах, мертвецы наследниками престола не числятся!), сегодня опять был мрачнее тучи. Справиться с раздражением и беспокойством никак не получалось, а ведь евнух верил, что именно это от людей угодно Аллаху: чтобы они были счастливыми и веселыми. Аллах им дал прекрасный мир, солнечный свет и собственное бесконечное милосердие, а от них ждет, что весельем и радостью своей, пусть даже нелегкой и натруженной, люди будут тешить его божественное сердце, как сердце человеческое услаждает простая и легкая мелодия свободной птичьей трели.
Абдулла-Хамид сегодня, как и каждый день прошедшего месяца, чувствовал себя соринкой в глазу Создателя. Не радовала его даже непривычно теплая, небывалая для октября погода: четвертый день солнце жарило, как в июле, даже воду в бассейне греть почти не надо. Свежие фрукты горчили. У речного воздуха был запах тлена.
Только что, встретившись в галерее дворца с Айше, он не успел отвести глаза, как это часто делал в последнее время для сохранения мира в душе, и вынужден был заметить нездоровую бледность принцессы, темные круги под глазами, выражение затравленной печали, которое так не подходило ее юному лицу, красивому и гордому. Айше кивнула ему, улыбнулась, как раньше, точно ничего и не изменилось. Абдулла-Хамид улыбнулся в ответ, только губы тут же свело.
Видеть, как дети растут, привязываться к ним, а потом ждать и смотреть, как их убивают, показывать, куда нести тела, готовить похороны – нет, такой участи не пожелаешь и самому неприятному из недругов. Была бы его воля, он бы распахнул клетку, выпустил эту красивую пташку, пусть бы летела, жила бы дальше, вдали от дворцовых интриг и страстей, смеялась бы, радовала Аллаха…
Но много глаз и людей в гареме, и строгих, и равнодушных, и трусливых, только своей шкурой озабоченных. Адак-ханум прислали из Истанбула, чтобы ни у кого даже мыслей никаких не возникало. А то мало ли, какая доброта и мягкосердечие и с какими последствиями прорастут на удаленной от столицы почве Амасьи. А под оком султана, добросовестно представляемым тут Адак, пышной, слащаво-доброй, но опасной и быстрой, как гюрза, – о да, под таким оком любые ростки добросердечия и неповиновения выгорали и гибли.
Айше прогуливалась со служанкой, которую Абдулла-Хамид не узнал: в последние недели строгие и стройные дворцовые порядки, принятые и поддерживаемые смотрителем гарема, рассыпались неряшливыми остроконечными обломками, касаться и даже рассматривать которые было неприятно. Служанки приходили, уходили, не выдерживали, кто-то рыдал по углам, кто-то ленился и пытался увильнуть от работы. Наказывать было сложно, призывать к порядку – бесполезно. Мир, и особенно часть его, порученная для обустройства Абдулле-Хамиду, явно сошел с ума.
– Поторапливайся! – нервно прикрикнула Айше на служанку: бестолковая девица засмотрелась в окно, замедлила шаг. От окрика подскочила, поклонилась, засеменила за госпожой.
– Что за девчонка? – спросил Абдулла-Хамид у младшего евнуха, желтокожего Яльцына. Смотритель гарема его не любил: весь он был под стать своему имени «скользкий склон», чуть отвлечешься – нога поедет, да как бы не упасть, шею не свернуть.
– Приходящая, – ответил тот, щурясь приветливо, но неприятно. – Ее сегодня утром прислали от Энгин-бея и еще двух чуть позже. У этой послание было для Адак-ханум. Ну, знаешь же, у нее свои дела в городе, я не вникаю, себе дороже. Ощупали новеньких как полагается и пропустили, чадру не поднимали. Эта – совсем еще девчонка, другие чуть постарше. Подозвать?
Абдулла смотрел вслед Айше. Она позвала служанку, что-то у нее спросила, та ответила тихо, не поднимая головы. Айше опять что-то сказала ей раздраженно, руками всплеснула, видать, совсем ее нервы истончились, она ведь обычно на служанок голос не повышала.
– Не надо, – ответил черный евнух, провожая девушек глазами. – Пусть идут.
Джанбал семенила вслед за Айше, низко склонив голову.
Уф, кажется, пронеслась тучка, смотритель гарема не узнал ее, не подозвал, не стал расспрашивать. Ей ведь никак нельзя, чтобы ее заподозрили. Благополучие и безопасность, да что там – самая жизнь ее семьи держится на волоске, на надежде, что она останется безымянной и неузнанной, девочкой-прислужницей Энгин-бея, который ее прислал с поручением и с особым товаром для Адак-ханум.
Тайным, стыдным товаром. Который передать следовало наедине, в надежном месте, не глядя в глаза и произнеся особый хадис: «Молчание означает сообразительность и упование на Аллаха, но молчаливых мало».
Сказать так следовало не для наставления души Адак-ханум на путь истинный, а чтобы подтвердить ей, что товар действительно доставлен от Энгин-бея и на прежних условиях.
Бал, несмотря на все, и вправду сделалось любопытно, каким же образом Ламии добыл секрет Адак-ханум и сколько ему пришлось заплатить за него и за вино в бурдюке. Том самом бурдюке, который ей удалось пронести во дворец, обвязав вокруг груди. К счастью, действительно пока еще совсем плоской.
– Или на талии можно… – говорил Джанбек вчера, еще в прошлой жизни. – Они тебя на входе в гарем наверняка только между ног ощупают, грудь и талию трогать не будут. Если не повезет, могут чадру заставить поднять. Это будет плохо, если кто узнает, или родинку твою запомнит. Ты ее прикрой волосами получше. Эх, если бы не эти проверки, я бы сам, конечно, пошел…
Тут он снова покраснел. При мысли не о проверках, а о том, что идти ему пришлось бы в женском платье…
* * *
Ей повезло.
Ощупать ее ощупали (Джанбал поморщилась при воспоминании о ловких, проворных, равнодушных пальцах евнуха на своем теле), но лицо показывать не заставили, махнули – проходи.
Джанбал шла по коридору вслед за Айше и опять, в тысячный раз, проверяла в голове их с Джанбеком план с самого начала.
– Во второй половине ночи плот привяжем в том месте, где труба в реку выходит. Там кустик есть такой приметный, умудрился же под стеной вырасти, а земли-то всего с палец. Ветки у него необычно изогнуты – похоже на арабскую букву «саад». – Бек нарисовал букву в воздухе, улыбнулся, пожал плечами…
Бал привязала плотик к корешку куста у подножия дворцовой стены, между камнем и водой. Ночь была темная, безлунная, холодная, она поцарапала палец о ветки, пока искала корень. Он был у самой воды, веревки не будет видно сверху. Это хорошо.
Бал завязала свой любимый крепкий узел, Ламии их лет в шесть научил вязать настоящие лодочные узлы – держат крепко, а потянешь особым образом, под углом, и развяжутся тут же.
Прохлада пробиралась под ее одежду, трогала кожу невесомыми ледяными пальцами, Джанбал ежилась в лодке. Надо было вести ее по течению очень-очень тихо, так чтобы ничего не скрипнуло и вода под веслом не плеснула. По стене прошел стражник – Бал замерла, даже дыхание задержала. Стражник остановился почти прямо над ней, свет факела желтым облачком дрожал над стеной. Постоял несколько мгновений, наверное, смотрел на звезды. Вздохнул тяжело, пошел дальше.
Глупо, но в этот миг Джанбал его пожалела даже. Отчего-то подумалось, что он, наверно, влюблен без взаимности, очень страдает, а жалованье небольшое, подарков красавице много не купишь, чтобы щедростью и настойчивостью ее увлечь… Тут же сама себе улыбнулась: ведь и не видела человека, а уже целую жизнь ему придумала.
А вот если б стражник ее увидел, уж он бы ей точно придумал. Хотя пока еще она свободна – прыгнула бы с лодки и уплыла на другую сторону, поищите ее в ночи!
Без плеска маленькая лодочка отошла от стены, заскользила вниз по реке.
– Вот под тем мостом лодку спрячем, видишь, кусты на той стороне как будто сплошной стеной встают? Между ними есть протока, узкая, скрытая. Если присесть, то можно лодку туда завести. Раздеться, свою одежду в лодке оставить, а ту смену, в которой во дворец идти, – над головой держать, когда поплывешь.
Джанбал попрыгала, растирая себя руками. Вода оказалась не такой холодной, как пронзительный ночной воздух. Пробежала вокруг куста несколько раз, чтобы разогреться и обсохнуть. Оделась в женское – платье, шальвары, платок. Все скромное, но чистое, красивое и почти новое, как и положено служанке, которой представилась возможность отличиться перед хозяином и исполнить его поручение во дворце. А заодно послужить внучке великого султана, пусть даже и находящейся под арестом.
– Когда в гарем попадешь, первым делом нужно с Адык-ханум увидеться наедине. Сказать ей договоренные слова и передать товар. Потом уже Айше искать.
– Молчание означает сообразительность и упование на Аллаха, но молчаливых мало, – пробормотала Джанбал, склоняясь перед Адак-ханум и краснея под чадрой так, что даже уши загорелись.
Адак-ханум оказалась очень высокого роста для женщины, даже выше многих мужчин. В молодости, наверное, она была ослепительно красива, но годы уже смыли с жесткого лица красоту, подсушили кожу, разбежались сетью морщинок от глубоко посаженных, недобрых глаз. В углу крепко сжатого рта виднелся небольшой белый шрам.
– Почему он опять Гюрай не прислал? – спросила она чуть раздраженно.
Джанбал чуть не задохнулась от волнения. Что сказать? Что Гюрай хорошо заплатили или пригрозили, чтобы та не пришла?
– Гюрай заболела, – тихо произнесла Джанбал. – Энгин-бей не решился ее отправлять, подумал – может быть, что-то заразное. Я и не мечтала, что достойна такой чести – увидеть дворец и послужить тем, кто служит великому султану, но Энгин-бей сказал, что я справлюсь. Или сильно пожалею, что не справилась, – добавила она еще тише.
Адак-ханум усмехнулась, кивнула ей.
– Давай что принесла, – сказала она. – Потом беги бегом, может быть, успеешь позавтракать с остальными. Тебе покажут, где будешь спать, пока служишь во дворце. Ну, поворачивайся и торопись, хватит кланяться.
– Внимание Айше нужно как-то привлечь, чтобы никому в глаза не бросилось, а она бы поняла… Ну, это мы сейчас заранее не угадаем, ты сама на месте разберешься. Может, позвать ее шепотом? Или еще как-нибудь… Главное, чтобы никто не заметил!
Айше шла по коридору быстро, по сторонам не смотрела, вся была в своих мыслях. Толстуха, имени которой Джанбал не запомнила, махнула девушкам рукой – уйдите с дороги, встаньте к стене, лица опустите. Служанки, которых вели на кухню помочь с уборкой после завтрака, застыли у стены в полупоклоне.
Джанбал украдкой повела взглядом налево-направо: все в пол смотрели, включая толстуху. Стремительным, неуловимым движением фехтовальщицы Бал в подшаге выбросила вперед правую стопу, подсекла Айше под щиколотку и тут же отдернула ногу назад. Айше полетела кубарем, проехала по плитам, приложилась лицом, вскрикнула.
Служанки вокруг замерли в ужасе, евнух от дальней двери всплеснул руками, бросился на помощь. Бал тоже бросилась к упавшей девушке с рысьей быстротой, как Пардино-Бей.
Айше подняла к ней лицо – недоуменное, обиженное, яростное. Из разбитой щеки начинала сочиться кровь.
– Прости меня за неловкость, госпожа, – запричитала Бал, помогая ей подняться, удерживая ее взгляд и широко раскрывая глаза.
«Узнай меня сразу. Пойми, зачем я здесь. Подыграй. Давай же!»
– Я увидела, что ты споткнулась, и хотела броситься помочь, но я неловкая и не успела. Ты сильно ушиблась, госпожа? Ах, если бы я была быстрее!
Евнух в желтых одеждах добежал до них, поддержал Айше за локоть, оттолкнул Бал в сторону.
– Ты ушиблась, госпожа? Ай-ай, на лице синяк будет. Надо промыть и смазать соком полыни, чтобы сразу кровь разошлась, а то такие синяки долго сходят, можешь целый месяц так проходить.
– То-то будет горе, если меня хоронить с синяком на все лицо придется, – медленно произнесла Айше, отодвигаясь от него. Евнух не выдержал тяжести ее взгляда, отвел глаза.
– Ты, – сказала Айше, подзывая к себе Бал. – Ты давно во дворце? Как зовут тебя?
– Ёзге, госпожа, – поклонилась Джанбал, переводя дух под чадрой. Точно ли все поняла подруга, не выдаст ли ее непродуманным словом?
Айше чуть улыбнулась уголком рта. «Ёзге» – «другая», «иная». Именно так.
– Ёзге сегодня будет мне прислуживать, – объявила Айше. – Она первой мне на помощь бросилась, пока вы, курицы, у стенки жались. Следуй за мной, Ёзге. Мне, пожалуй, и правда нужно к врачу за соком полыни сходить.
– Ламии разведал: Адак-ханум свое вино с обедом выпивает, потом спит. После вина с опием спать она будет куда как глубже и дольше. Без нее приглядывать за Айше станут вполглаза, следить спустя рукава. А тебе нужно будет первым делом раздобыть кинжал…
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
1
Орта – тактическое янычарское подразделение, примерно соответствующее батальону. Численность янычар в орте варьировалась: столичные орты мирного времени включали 100 человек, в провинции состав орты обычно был 200–300, в военное время поднимаясь до 500.
2
«Чифтлык» – буквально «упряжка в два вола». Впоследствии так начали называть небольшое отдельно расположенное земельное владение, для обработки которого хватает одной такой упряжки. Однако уже в XVI в. это не было безусловным правилом: среди чифтчи, хозяев таких владений, попадались и довольно обеспеченные люди, а их чифтлыки соответствовали богатым хуторам.
3
Туршуджу – нечто вроде гильдии (торговцы, кулинары, владельцы лавок), специализировавшейся на изготовлении и торговле разного рода соленьями, копченостями и маринадами.
4
«Битва в Мухаребеси» – сражение, которое в европейской традиции называют «битва при Лепанто» (1571). Победа в нем досталась объединенной коалиции католических держав, что поставило предел морскому могуществу Оттоманской Порты в ее противостоянии с Европой.