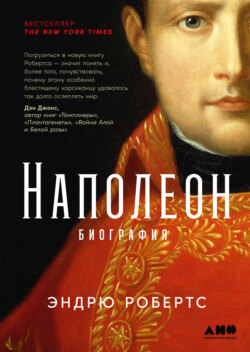Читать книгу Наполеон: биография - Эндрю Робертс - Страница 8
Часть первая
Возвышение
Дезире
ОглавлениеКогда толпа одерживает победу, она перестает быть толпой и отныне называется нацией. Если толпа не одерживает победу, то некоторых казнят, а ее называют отребьем, мятежниками, ворами и так далее.
Наполеон – врачу Барри О’Мира, на острове Святой Елены
Я выигрывал только сражения, а Жозефина добротой и великодушием покорила всех.
Наполеон – барону де Боссе-Рокфору, своему камергеру
7 февраля 1794 года Наполеона назначили командующим артиллерией Итальянской армии. Он сыграл достойную, но непримечательную роль в Пьемонтской кампании против союзного австрийцам Сардинского королевства, занимавшего северо-запад Апеннинского полуострова и владевшего островом Сардиния. Под командованием генерала Пьера Думбериона французы одержали три скромные победы. Наполеон познакомился с красивыми, но коварными вершинами и перевалами Лигурийских Альп. Он сражался вместе с блистательным и яростным генералом Андре Массена. Решение Массена в мае выбить сардинцев из Вентимильи и обойти австрийцев и сардинцев у перевала Колле-ди-Тенда (совр. Коль-де-Танд) принесло ему прозвище «любимец победы».
Поход длился пять недель. К началу лета Наполеон вернулся в Ниццу и Антиб, где стал ухаживать за Эжени-Дезире Клари, прелестной шестнадцатилетней дочерью покойного роялиста-миллионера, текстильного и мыльного фабриканта. Жюли, старшая сестра Дезире, 1 августа 1794 года вышла замуж за Жозефа, брата Наполеона, и ее солидное приданое – 400 000 франков – наконец разрешило денежные затруднения Бонапартов. Роман Наполеона и Дезире сводился почти исключительно к переписке. В апреле следующего года они были помолвлены. Годом ранее 19-летний Люсьен Бонапарт женился на Кристине Буайе, очаровательной, но неграмотной 22-летней дочери трактирщика. Брачные бумаги он подписал своим новым, республиканским именем Брут (Люсьен – единственный из Бонапартов, сменивший имя таким образом).
В апреле 1794 года Наполеон представил Комитету общественной безопасности свой план похода в Италию через Пьемонт. В Париж бумаги отвез Огюстен Робеспьер, прикомандированный к Итальянской армии. План (к счастью, изложенный рукой Жюно, а не неуклонно портящимся почерком самого Наполеона) содержал, кроме прочих, следующие стратегические соображения: «Атаки должны быть не разрозненными, а массированными», «Необходимо уничтожить Австрию; после этого Испания и Италия падут сами», «Ни один беспристрастный человек не может думать о взятии Мадрида. В отношении испанцев следует применить оборонительную систему, на пьемонтской границе – наступательную». Стремящийся даже в этом случае к централизации власти, Наполеон написал: «Альпийская и Итальянская армии должны быть объединены и подчинены единой воле»{170}.
Майор Берлье, незадачливый командир батальона, стал главной жертвой беспокойства Наполеона, его поглощенности деталями и желанием сделать все как можно быстрее и лучше. «Я чрезвычайно недоволен тем, как выполняется заряжание шестнадцати орудий, – читаем мы в одном из писем. – Вы, несомненно, захотите ответить на следующие вопросы… и я даю вам на это двадцать четыре часа». А вот другое письмо: «Я удивлен, что вы так медлите с исполнением приказов. Вечно приходится трижды повторять одно и то же. Ни одно обстоятельство Наполеон не считал незначительным. «Посадите под арест командира батареи капрала Карли, – приказал он Берлье, – который самовольно отлучился в Антиб за вином»{171}.
Во время Пьемонтской кампании Наполеон получил официальное подтверждение своего производства в бригадные генералы. Для этого ему пришлось ответить на вопрос, дворянин ли он, и Наполеон благоразумно – террор еще продолжался – солгал{172}. 5 марта Комитет общественной безопасности приговорил к казни радикалов-эбертистов, а 5 апреля – Жоржа Дантона и Камиля Демулена. Революция безжалостно истребляла собственных детей. Современник отмечал, что «тысячи женщин и детей сидят на мостовой перед булочными» и «более половины населения Парижа едят лишь картофель. Бумажные деньги не стоят ничего»{173}. Город созрел для выступления против якобинцев, которые не смогли дать людям ни хлеба, ни мира. В 1794 году, когда союзники отступали в Испании, Бельгии и на Рейне, группа заговорщиков почувствовала себя достаточно уверенно для того, чтобы свергнуть якобинцев и покончить с «царством террора».
В середине июля Наполеон по тайному поручению Огюстена Робеспьера провел шесть дней в Генуе. Он осмотрел городские укрепления, провел пятичасовую встречу с французским поверенным Жаном Тийи и убедил генуэзского дожа в необходимости улучшения отношений с Францией.
Наполеон сблизился с окружением Робеспьеров в самое неподходящее время. Контрреволюционеры-термидорианцы во главе с Баррасом и Фрероном 27 июля (9 термидора по революционному календарю) свергли Максимилиана Робеспьера. На следующий день братьев Робеспьеров и еще шестьдесят «террористов» казнили на гильотине. Если бы Наполеон оказался в то время в Париже, скорее всего, его тоже схватили бы и он бы лишился головы. Наполеон узнал о падении якобинцев 5 августа, вернувшись в расположение армии в Сиге, неподалеку от Ниццы, со свадьбы своего брата Жозефа. «Меня до некоторой степени тронула судьба младшего Робеспьера, – писал он Жану Тийи, – который мне нравился и которого я считал человеком порядочным, но, даже если б он был мне родным братом и стремился к тирании, я своими руками заколол бы его»{174}.
Наполеон, пользовавшийся покровительством Огюстена Робеспьера, закономерно попал под подозрение. 9 августа в Ницце в квартиру Наполеона явился офицер с десятком солдат и арестовал его. Наполеон провел один день в крепости в Ницце, а затем был переведен в Антиб, в форт Карре, и там находился следующие десять дней. Оба этих места он прежде посещал с инспекцией.
Саличетти, движимый совершенно понятным чувством самосохранения, не сделал ничего, чтобы защитить Наполеона, и даже перетряхнул его бумаги в поисках доказательств измены{175}. «Он едва соизволил взглянуть на меня с заоблачных высот своего величия», – с досадой отозвался Наполеон о земляке-корсиканце и – в течение пяти лет – своем политическом союзнике{176}.
В 1794 году отсутствие вины не избавляло от гильотины, как и несомненные подвиги в войне за республику, поэтому Наполеону угрожала большая опасность. Официальным поводом к аресту стал донос некоего марсельца, посчитавшего, что размещенные у города со стороны суши пушки Наполеона не защищают Марсель, а угрожают ему.
Ранее, в январе, Наполеон писал военному министру Бушотту: «батареи, защищающие гавань Марселя, находятся в плачевном состоянии. Их устройство обнаруживает полнейшее незнание всех принципов обороны»{177}. Истинной же причиной ареста, конечно, стала политика: Наполеон пользовался покровительством Огюстена Робеспьера и написал якобинский памфлет «Ужин в Бокере», изданный при помощи последнего. «Люди могут быть несправедливы ко мне, дорогой Жюно, – объяснял Наполеон верному адъютанту, – но мне достаточно быть невиновным. Моя совесть – это тот трибунал, перед которым я отвечу за свои поступки»{178}. (Порывистый Жюно предложил отчаянный план побега из крепости, который Наполеон благоразумно и твердо отклонил: «Ничего не предпринимайте. Вы лишь скомпрометируете меня»{179}.)
Наполеону повезло: термидорианцы не расправлялись с врагами столь же безжалостно, как якобинцы, и не прибегали ко внесудебным расправам наподобие сентябрьских. 20 августа Наполеона освободили за недостатком улик. Заточение Наполеона не было тяжелым; впоследствии, придя к власти, он сделал своего бывшего тюремщика дворцовым лакеем. Оказавшись на свободе, Наполеон вернулся к планированию экспедиции на Корсику и третированию бедолаги Берлье. Кроме того, Наполеон имел время возобновить ухаживания за Дезире Клари (которую он называл Эжени). 10 сентября он признался ей: «Очарование вашего облика и нрава покорили сердце вашего поклонника»{180}. Чтобы сделать привлекательнее ее ум, Наполеон вручил Дезире список рекомендованных к чтению книг и пообещал вслед за тем поделиться мыслями о музыке. Кроме того, он призывал ее тренировать память и «образовывать ум».
Хотя Наполеон обыкновенно смотрел на женщин свысока, как на людей второго сорта, он ясно представлял себе, как их следует обучать, чтобы сделать достойными спутницами мужчин. Наполеон расспрашивал Дезире об эффекте, произведенном чтением «на ее душу», и пытался привить ей интеллектуальное отношение к музыке, которая имеет «благодатнейшее влияние на жизнь». (Гектор Берлиоз впоследствии утверждал, что нашел в Наполеоне тонкого знатока музыки Джованни Паизиелло, которому Бонапарты почти беспрерывно давали заказы в Париже и Риме в 1797–1814 годах.) Письма Наполеона к Дезире не были ни особенно цветистыми, ни даже романтичными, но его заинтересованность очевидна, а ей льстило пристальное внимание, пусть даже, вопреки республиканскому этикету, он продолжал обращаться к ней на «вы» (vous){181}.
Наполеон, по-видимому, получал удовольствие от ее шутливых наказаний. «Если бы вы, мадемуазель, могли удостовериться в чувствах, – писал он в феврале 1795 года, – которые ваше письмо мне внушило, то убедились бы в несправедливости своих упреков… Нет такого удовольствия, которое я не желал бы разделить с вами, и нет такой мечты, которая наполовину не принадлежала бы вам. Поэтому будьте уверены, что суждение “самые чувствительные женщины любят самых равнодушных из мужчин” – несправедливое и ошибочное, вы не верите написанному. Пусть ваша рука начертала это; ваше сердце с этим несогласно»{182}. Он прибавил, что писать к ней – это для него и величайшее удовольствие, и «настоятельнейшая потребность» души. По просьбе Дезире Наполеон подписался на журнал с нотами для клавикордов, чтобы она могла получать из Парижа модную музыку, и был озабочен тем, что ее учитель уделяет недостаточно внимания урокам сольфеджио. Наполеон присовокупил длинный абзац о вокальной технике, из которого видно, что он разбирался в вокальной музыке (или хотя бы составил о ней мнение). К 11 апреля 1795 года Наполеон наконец стал обращаться к ней на «ты» (tu) и подписывать письма: «Навсегда твой»{183}. Наполеон был влюблен.
3 марта 1795 года Наполеон отправился из Марселя с 15 кораблями, 1174 орудиями и 16 900 солдат, чтобы отнять Корсику у Паоли и англичан. Вскоре французов рассеяла английская эскадра из 15 кораблей, слабее вооруженных и с экипажем вдвое менее многочисленным. Два французских корабля были захвачены. Наполеон был невиновен в провале и, человек до мозга костей сухопутный, так и не извлек урока из противоборства с равными по численности, но гораздо грамотнее развернутыми морскими силами англичан. В 1793–1797 годах французы потеряли 125 военных кораблей (англичане – 38), в том числе 35 линейных (англичане – 11, причем большую их часть – из-за пожаров, крушений и штормов, а не из-за действий неприятеля){184}. Наполеон всегда недооценивал роль ВМФ в большой стратегии: он одержал множество побед на суше и ни одной – на море.
Когда экспедицию отменили, Наполеон остался без места и лишь 139-м по старшинству в генеральском списке. Бартелеми Шерер, новый командующий Итальянской армией, не пожелал сотрудничать с Наполеоном, поскольку тот (хотя и признанный специалист в артиллерийском деле) «питает сильную склонность к интригам ради повышения»{185}. Действительно, Наполеон отделял военное дело от политики не в большей степени, чем его кумиры Цезарь и Александр Македонский. Но всего через восемь дней после возвращения из корсиканской экспедиции Наполеону поручили командование артиллерией Западной армии генерала Гоша, стоявшей в Бресте. Армии предстояло подавить восстание роялистов в Вандее.
Правительство, теперь состоявшее главным образом из уцелевших при Робеспьере жирондистов, вело на западе Франции грязную войну, в ходе которой погибло больше французов, чем в Париже за весь период террора. Наполеон понимал: если даже он и добьется здесь успеха, эта слава его не украсит. Гош был всего на год старше, и шансы Наполеона на повышение были ничтожными. К тому же он воевал с англичанами и сардинцами, а война с французами была ему не по вкусу. 8 мая Наполеон отправился в Париж, чтобы добиться другого назначения, и взял с собой шестнадцатилетнего брата Луи, для которого надеялся найти место в артиллерийском училище в Шалон-сюр-Марн, и двух своих адъютантов – Мармона и Жюно (Мюирон теперь был третьим){186}.
Поселившись 25 мая в парижском Отеле де ла Либерте, Наполеон посетил военного министра капитана Франсуа Обри, который предложил ему лишь командование пехотой в Вандее. «Это показалось Наполеону оскорбительным, – отметил Луи, – и он отказался и жил в Париже без должности, получая довольствие как генерал резерва»{187}. Наполеон снова назвался больным и с трудом жил на половинное жалованье, но все же определил Луи в Шалонское училище. Наполеон продолжал игнорировать требования военного министерства: или отправиться в Вандею, или предоставить доказательства своей болезни, или подать в отставку. Это был непростой период, но он относился к своему положению философски. В августе Наполеон сказал Жозефу: «Я очень мало привязан к жизни… так как вечно оказываюсь в положении человека перед битвой, уверенного лишь в том, что глупо тревожиться, когда смерть, которая кладет всему конец, может его настичь». Далее он пошутил на свой счет (историки, принявшие сказанное всерьез, лишили шутку ее очарования): «Я всегда вверяю себя року и судьбе, и если и впредь будет так, то, друг мой, все кончится тем, что я не уступлю дорогу приближающейся карете»{188}.
На самом деле Наполеон твердо решил насладиться парижскими удовольствиями. «Память о терроре здесь не более чем кошмар, – рассказывал он Жозефу. – Все будто решили вознаградить себя за страдания; решили, кроме того, из-за туманного будущего, не пропускать ни единого развлечения, которое сулит настоящее»{189}. Он заставил себя появляться в обществе, хотя по-прежнему был неловок с женщинами. Отчасти это, вероятно, объяснялось его обликом. Женщина, той весной видевшая его несколько раз, сочла его «самым худым и странным из всех, кого я встречала… Настолько худым, что он вызывал жалость»{190}. Другая прозвала его «котом в сапогах»{191}. Лора д’Абрантес, светская львица, знавшая в то время Наполеона (хотя, возможно, не настолько коротко, как она впоследствии утверждала в своих злобных мемуарах), изобразила его «в надвинутой на глаза дурной круглой шляпе, из-под которой торчат два собачьих ушка, худо напудренные и падающие на воротник серого сюртука волосы, без перчаток (потому что это бесполезная трата денег, говорил он), в плохо сшитых и нечищеных сапогах, с болезненным видом»[18]{192}. Неудивительно, что Наполеон, чувствовавший себя чужим в модных салонах, презирал тех, кто пользовался там успехом. В разговорах с Жюно (за которого Лора д’Абрантес впоследствии вышла замуж) Наполеон осуждал модников за их манеру одеваться и усвоенную шепелявость и, став императором, был убежден, что хозяйки салонов в парижских предместьях возбуждают против него умы. Сам Наполеон предпочитал интеллектуальные развлечения общественным: посещал лекции, обсерваторию, театр и оперу. «Трагедия волнует душу, – позднее заявил он одному из своих секретарей, – радует сердце, она может и должна порождать героев»{193}.
В мае 1795 года, по пути в Париж, Наполеон написал Дезире, что он «сильно страдает при мысли столь надолго оказаться так далеко»{194}. К тому времени он сумел, откладывая из жалованья, скопить денег достаточно для того, чтобы задуматься о покупке маленького замка в Раньи, в Бургундии. Наполеон подсчитал возможную прибыль от продажи разных видов зерновых, прикинул, что столовая в замке в четыре раза больше столовой в доме Бонапартов в Аяччо, и, как добрый республиканец, предположил, что, «если снести три или четыре башни, придающие ему аристократический вид, замок станет не более чем просторным, привлекательным семейным домом»{195}. Он рассказал Жозефу о своем желании завести семью.
«В доме Мармона в Шатийоне я видел много хорошеньких, благосклонно расположенных женщин, – 2 июня писал Наполеон Дезире, явно желая заставить ее ревновать, – но мне и на мгновение не показалось, что любая из них может сравниться с моей милой, доброй Эжени». Два дня спустя он написал: «Обожаемый друг, я больше не получаю от вас писем. Как вы сумели прожить одиннадцать дней, не написав мне?»{196} Вероятно, он понял, что мадам Клари (решившая, что в семье довольно и одного Бонапарта) посоветовала дочери более не поощрять его ухаживания. Неделю спустя Наполеон назвал ее просто «мадемуазель». К 14 июня он уяснил свое положение: «Я знаю, что вы всегда сохраните привязанность к своему другу, но отныне это не будет нежное чувство»{197}. Судя по письмам Жозефу, Наполеон еще был влюблен в Дезире, но в августе (снова обращаясь к ней на «вы») написал ей: «Следуйте вашим природным склонностям, позвольте себе любить то, что рядом… Вы знаете, что мое предназначение – в опасностях битвы, в славе или в смерти»{198}. Эти слова, несмотря на их приторность и напыщенность, – правда.
24 июня, сидя за письмом Жозефу, Наполеон расплакался. Что это было: жалость к себе, оставленному Дезире? Или в той же мере любовь к брату? Письмо как будто посвящено прозаическому предмету – планам Жозефа заняться в Генуе торговлей оливковым маслом. «Жизнь подобна исчезающей пустой мечте, – написал он Жозефу, прося его прислать свой портрет. – Мы прожили вместе столько лет, мы так тесно связаны, что наши сердца слились, и ты лучше всех знаешь, сколь несомненно мое сердце принадлежит тебе»{199}. К 12 июля Наполеон, пытаясь убедить себя, что с Дезире покончено, жалуется Жозефу на изнеженность мужчин, интересующихся женщинами, «сходящих по ним с ума, думающих лишь о них, живущих только ими и для них. Женщине нужно провести всего шесть месяцев в Париже, чтобы узнать, что ей причитается, и расширить свое господство»{200}.
Разрыв с Дезире стал одной из причин глубокого скептицизма Наполеона по отношению к женщинам и к самой любви. На острове Святой Елены он назвал любовь «временным занятием для праздного человека, развлечением для воина, крахом для монарха» и заявил члену своей свиты: «В действительности любви не существует. Это искусственное чувство, рожденное обществом»{201}. Менее чем через три месяца после отказа от ухаживания за Дезире Наполеон был снова готов влюбиться, хотя как будто и не вырвал ее из своего сердца даже после того, как она вышла замуж за генерала Жана-Батиста Бернадота, а позднее стала королевой Швеции.
«Мы настолько уверены в превосходстве нашей пехоты, что смеемся над угрозами англичан», – писал Наполеон Жозефу в конце июня 1795 года, после высадки британцами десанта в бухте Киберон, у Сен-Назера, для помощи вандейским мятежникам{202}. Это один из первых после Тулона примеров его недооценки англичан – впрочем, в этот раз совершенно простительной: к октябрю экспедиционные силы были разгромлены. Кроме Тулона, ему довелось непосредственно столкнуться с англичанами еще лишь дважды: при осаде Акры и при Ватерлоо.
В начале августа Наполеон еще добивался возвращения на пост командующего артиллерией Итальянской армии, но, кроме того, всерьез рассматривал предложение отправиться в Турцию для реформирования султанской артиллерии. Согласно мемуарам Люсьена, в тот период полнейшей неопределенности Наполеон подумывал даже завербоваться в армию [Французской] Ост-Индской компании – скорее по финансовым, нежели по военным причинам, и говорил: «Я вернусь через несколько лет богатым набобом и обеспечу трем сестрам изрядное приданое»{203}. Будущая Мадам Мер [Madame Mère de l’Empereur; «государыня-мать»] отнеслась к этому достаточно серьезно и выбранила его за обдумывание предложения, которое, по ее мнению, Наполеон вполне мог принять «в минуту обиды на правительство». Имеются также сведения, что Наполеона обхаживали русские, желавшие, чтобы он помог им сражаться с турками.
В середине августа 1795 года ситуация сделалась критической. Военное министерство потребовало, чтобы Наполеон предстал перед медицинской комиссией и доказал, что он в самом деле болен. Наполеон обратился к Баррасу, Фрерону и другим знакомым политикам и благодаря вмешательству одного из них получил назначение в Топографическое бюро Конвента. Вопреки своему названию, это учреждение фактически координировало военную стратегию Франции. 17 августа Наполеон написал Симону Сюси де Клиссону, квартирмейстеру стоявшей в Ницце Итальянской армии: «Меня назначили командовать Вандейской армией; я не приму назначение». Три дня спустя он поделился с Жозефом радостной новостью: «В настоящий момент я прикомандирован к Топографическому бюро Комитета общественной безопасности для управления армиями»{204}. Бюро руководил генерал Анри Кларк, протеже великого военного администратора Лазара Карно, «организатора победы».
Топографическое бюро было маленьким и чрезвычайно эффективным подразделением военного министерства, «самой опытной планирующей организацией своей эпохи»{205}. Бюро, организованное Карно и подчиняющееся непосредственно Комитету общественной безопасности, собирало данные у командующих армиями, намечало передвижения войск, готовило подробные оперативные директивы и координировало тыловое обеспечение. При Кларке в руководство входили генералы Жан-Жирар Лакюэ, Сезар-Габриэль Бертье и Пьер-Виктор Гудон – все талантливые и целеустремленные стратеги.
Едва ли Наполеон мог найти лучшее место для изучения всех необходимых аспектов снабжения, обеспечения и логистики, входящих в стратегию (это слово вошло в военный лексикон лишь в начале XIX века; Наполеон его не употреблял){206}. С середины августа до начала октября 1795 года (недолгий, но интеллектуально напряженный период) Наполеон изучал практические стороны стратегии (большой стратегии), отличной от тактики (малой стратегии), совершенное владение которой он продемонстрировал под Тулоном. Военными успехами Наполеон в конечном счете обязан собственному таланту и умению напряженно работать, но в его время во Франции имелись исключительно талантливые военные теоретики и администраторы, способные его обучить и – в перспективе – выполнить изыскания, необходимые для воплощения его идей. Кроме того, в Топографическом бюро Наполеон увидел, какие генералы достойны внимания, а какие нет.
Бюро не определяло «большую стратегию»: это делали политики из Комитета общественной безопасности, очень уязвимого для борьбы партий. Так, споры о том, где и когда следует перейти Рейн, чтобы напасть в 1795 году на Австрию, развернулись именно там, а роль бюро свелась к советам касательно вариантов. В августе комитет похоронил планы сражаться на стороне Турции или же против нее, запретив Наполеону до конца войны уезжать из страны. У него все еще имелись разногласия с бюрократами из министерства по вопросу его пребывания в резерве, и 15 сентября Наполеона даже вычеркнули из списка генералов действительной службы.
«Я дрался за республику как лев, – написал он другу, актеру Франсуа-Жозефу Тальма, – а она оставила меня умирать от голода»{207}. (Вскоре его восстановили.)
Благодаря странному графику работы Топографического бюро (с часа дня до пяти и с 23 часов до 3 часов ночи) у Наполеона оставалось достаточно времени для сочинения романтической повести «Клиссон и Эжени» – прощания со своей неразделенной любовью к Дезире. Повесть написана короткими, сжатыми фразами «героической традиции». Автор, сознавал он это или нет, подражал роману Гёте «Страдания юного Вертера» (1774): с этим произведением Наполеон впервые ознакомился, вероятно, в восемнадцать лет, а в Египетском походе перечитал его не менее шести раз. «Страдания» – главный европейский роман периода «Бури и натиска», бестселлер своего времени – оказали глубокое влияние на движение романтизма, в том числе на сочинения Наполеона. Хотя имя Клиссон Наполеон позаимствовал у Сюси де Клиссона, одного из своих друзей того периода, персонаж – вылитый Наполеон, даже его возраст тот же – 26 лет.
«С рождения Клиссон испытывал сильную склонность к войне, – начинается повесть. – Когда его сверстники еще с жадностью слушали сказки, он уже страстно мечтал о битве». Клиссон вступил в революционную Национальную гвардию и «вскоре превзошел все надежды, которые народ на него возлагал. Победа неизменно была его спутницей»{208}.
Клиссон стоит выше пустых занятий своих современников вроде флирта, игры и остроумной беседы: «Его, человека с пылким воображением, горящим сердцем, холодным и трезвым умом, неизбежно раздражали жеманные речи кокеток, галантные игры, логика игровых столов и обмен язвительными колкостями»{209}. Этот образец совершенства чувствует себя свободным, вслед за Руссо, лишь наедине с природой, в лесах, где «он обретал покой, отвергая людскую злобу и презирая глупость и жестокость».
Когда Клиссон на водах встретил шестнадцатилетнюю Эжени, она, улыбнувшись, «показала красивые, ровные жемчужно-белые зубки».
Их взгляды встретились. Их сердца слились, и очень скоро они поняли, что их сердца созданы, чтобы любить друг друга. Его любовь была любовью самой пылкой и чистой, которая когда-либо трогала сердце мужчины… Они почувствовали, что их души соединились. Они преодолели все препоны и соединились навечно. Все, что есть самого благородного в любви, – нежнейшие переживания, самая изысканная чувственность – переполнило сердца восхищенных влюбленных{210}.
Клиссон и Эжени поженились, обзавелись детьми и счастливо жили, обожаемые бедняками за щедрость и человеколюбие. Но идиллия не могла длиться вечно. Однажды Клиссон получил предписание в течение суток выехать в Париж.
«Там ждало важное назначение, требовавшее человека его способностей». Клиссона, теперь командующего армией, «ждал успех во всем; он превзошел ожидания народа и армии; он сам явился причиной успеха армии». Клиссон, однако, опасно ранен в перестрелке. Он отправляет своего офицера, Бервиля, рассказать обо всем Эжени «и развлекать ее до тех пор, пока он сам совершенно не поправится». По неизвестным читателю причинам Эжени очень скоро сходится с Бервилем. Выздоравливающий Клиссон узнает об этом и, естественно, жаждет мести. «Но покинуть войско, забыть свой долг? Ведь Отечество нуждается в нем!» Выход найден: славная смерть на поле боя. Поэтому, когда «бой барабанов известил о фланговой атаке и средь шеренг начала свое шествие смерть», Клиссон написал Эжени соответствующее случаю патетическое письмо, отдал его адъютанту, «с готовностью бросился туда, где решался исход битвы, и пал, сраженный тысячей ударов»{211}. Конец.
Нам следует попытаться взглянуть на «Клиссона и Эжени» сквозь призму литературы XVIII века, а не как на нынешний низкопробный роман. Семнадцатистраничную повесть называли «последним проявлением первоначальной мечтательности у человека, впоследствии изумлявшего своей исключительной практичностью». Наполеон явно дал волю фантазии, сделав Эжени отвратительной изменницей, а Клиссона – доблестным, безоговорочно верным и в итоге даже прощающим измену{212}. И все же трудно простить Наполеону мелодраму, сентиментальность и ходульность, ведь «Клиссон и Эжени» – не скороспелый плод отчаяния и обиды. Он много раз переписывал повесть.
Во второй половине 1795 года руководство Франции решило, что стране, если она хочет предать забвению дни якобинского террора, нужна новая конституция. «Роялисты пришли в волнение, – написал Наполеон Жозефу 1 сентября. – Увидим, чем это закончится»{213}. Позднее Алексис де Токвиль заметил, что государства наиболее уязвимы тогда, когда проводят преобразования. Это наблюдение было особенно верным в отношении Франции осенью 1795 года.
23 августа Конвент принял третью cо времени падения Бастилии конституцию – Конституцию III года. Она должна была вступить в силу в конце октября. Двухпалатное Законодательное собрание, образованное Советом пятисот и Советом старейшин, заменило Конвент, а состоящее из пяти членов правительство, названное Директорией, – ставший олицетворением террора Комитет общественной безопасности. В этот период преобразований противники революции и республики увидели свой шанс. 20 сентября австрийцы на Рейне перешли в контрнаступление, экономика Франции все еще была очень слаба, а коррупция процветала. Враги республики объединились и тайно привезли в Париж большое количество оружия и боеприпасов, чтобы в первую неделю октября свергнуть новое правительство.
Хотя террор закончился и Комитета общественной безопасности уже не существовало, гнев и горечь обратились против сменившей его Директории. Подготовка восстания сосредоточилась в 48 секциях Парижа – выделенных в 1790 году районах, которые контролировали местные комитеты и подразделения Национальной гвардии. Хотя восстало всего семь секций, к ним присоединились гвардейцы из других районов.
Не все (и даже не большинство) в восставших секциях были роялистами. Генерал Матье Дюма отмечал в мемуарах, что «первейшим желанием населения Парижа было возвращение к Конституции 1791 года» и горожане не хотели гражданской войны, к которой привела бы реставрация Бурбонов{214}. Секции составляли национальные гвардейцы – выходцы из среднего класса, роялисты, часть умеренных и либералов, а также простые парижане, выражавшие свое недовольство правительством из-за коррупции и неудач во внутренней и внешней политике. Исключительная политическая неоднородность мятежников сделала невозможной общую координацию выступления, кроме назначения его даты, и об этом стало известно правительству.
Сначала Конвент поручил подавление восстания генералу Жаку-Франсуа Мену, командующему Внутренней армией. Тот попытался договориться с секциями, чтобы избежать кровопролития. Вожди Конвента увидели в этом признак измены и приказали арестовать Мену. (Впоследствии его оправдали.) Близилось время вероятного нападения, и термидорианцы назначили одного из своих предводителей, президента Конвента Поля Барраса, командующим Внутренней армией, хотя после 1783 года он не имел военного опыта. Под его руководством революция была спасена.
Наполеон узнал, что секции готовятся на следующий день восстать, вечером 4 октября, в воскресенье, когда в театре «Фейдо» смотрел пьесу Сорена «Беверли»{215}. Ранним утром – было 13 вандемьера по революционному календарю – Баррас назначил его заместителем командующего Внутренней армией и поручил изыскать меры для подавления мятежа. Прежде Наполеон смог произвести впечатление на тех, кто принимал судьбоносные для него решения, – на Кералио, братьев дю Тей, Саличетти, Доппе, Дюгомье, Огюстена Робеспьера и других, а теперь он удивил и Барраса (узнавшего о Наполеоне от Саличетти после успеха в Тулоне). Служившего в Топографическом бюро Наполеона знали такие заметные политики, как Карно и Жан-Ламбер Тальен{216}. (Впоследствии Наполеон с удовольствием вспоминал, что в вандемьере из политиков меньше всего сомневался в необходимости кровопролития политический теоретик аббат Эммануэль-Жозеф Сийес.) Удивительно мало старших офицеров в Париже взялось за это дело – по крайней мере, было мало согласившихся расстреливать горожан. Судя по реакции Наполеона на два похода на Тюильри, свидетелем которых он стал в 1792 году, он определенно мог это сделать.
Наполеон впервые оказался на переднем крае большой политики, и это ощущение опьянило его. Наполеон приказал Иоахиму Мюрату, капитану 21-го конно-егерского полка, с сотней кавалеристов скакать в Саблонский лагерь в двух милях от города, взять там пушки и доставить в центр Парижа, а всех, кто попытается им помешать, изрубить. Секционеры упустили прекрасную возможность: орудия в Саблоне в тот момент охраняло всего полсотни солдат.
Между 6 и 9 часами, удостоверившись в верности своих солдат и офицеров, Наполеон поставил две пушки в начале улицы Сен-Никез, одну – перед церковью Святого Роха, в конце улицы Дофине, еще две – на улице Сент-Оноре, у Вандомской площади, и две – на набережной Вольтера, перед мостом Руаяль. За орудиями построилась пехота. На площади Каррузель Наполеон сосредоточил свои резервы, прикрывая Тюильри, где заседали Конвент и правительство. Кавалерия встала на площади Революции (совр. площадь Согласия){217}. Затем Наполеон три часа инспектировал батареи. «Добрых и честных людей нужно увещевать, – позднее писал Наполеон. – На чернь нужно воздействовать страхом»{218}.
Наполеон приготовил картечные заряды, представлявшие собой металлический цилиндр с сотнями свинцовых пуль. При выстреле картечный стакан разрывало, и пули разлетались широким веером со скоростью большей, чем у ружейной пули (536 метров в секунду). Предельная дальность стрельбы таким боеприпасом составляет около 550 метров, оптимальная – около 230 метров. Парижанам было в новинку применение картечи против гражданского населения, и Наполеон хотел, чтобы его считали безжалостным. Он не собирался быть «coglione». «Если обращаться с толпой ласково, – позднее объяснял он Жозефу, – то эти создания начинают считать себя неуязвимыми; а если повесить парочку из них, им наскучивает игра и они становятся покорными и смиренными, каковыми и должны быть»{219}.
В распоряжении Наполеона находилось 4500 солдат, а также около 1500 «патриотов» – жандармов и ветеранов из Дома инвалидов. Им противостояла слабо организованная масса сторонников секций (до 30 000), которыми формально командовал генерал Даникана (он потратил большую часть дня на попытки договориться). Лишь в 16 часов колонны мятежников показались из переулков севернее Тюильри. Наполеон открыл огонь по ним не сразу же, а когда со стороны секционеров раздались первые ружейные выстрелы. Между 16:15 и 16:45 он нанес сокрушительный ответный удар из пушек. Он также расстрелял картечью сторонников секций, пытавшихся перейти по мостам Сену, и они, понеся тяжелые потери, бежали. К 18 часам в большинстве районов Парижа атаки прекратились, но у церкви Святого Роха на улице Сент-Оноре, где фактически располагался штаб восстания и куда несли раненых, отдельные мятежники продолжали стрелять с крыш и из-за баррикад. Бой продолжался много часов. Наконец Наполеон выдвинул пушки на расстояние 55 метров от церкви, и противнику не осталось иного выхода, кроме сдачи в плен{220}. В тот день погибло около трехсот мятежников и полдюжины солдат Наполеона. Позднее Конвент (проявив, по меркам тех дней, великодушие) казнил всего двух руководителей секций[19]. После «залпа картечи» парижская толпа в следующие тридцать лет не играла во французской политике никакой роли.
В 1811 году генерал Жан Сарразен опубликовал в Лондоне книгу «Признание генерала Буонапарте аббату Мори». Поскольку к тому времени Наполеон заочно приговорил Сарразена к смертной казни за измену, он с легкостью смог написать, что 13 вандемьера «Буонапарте отнюдь не удерживал своих ослепленных яростью солдат и даже сам явил им пример бесчеловечности. Он рассекал саблей тех несчастных, кто в ужасе бросал оружие и молил его о пощаде»{221}. Далее Сарразен пишет, что капитан Монвуазен, заместитель Наполеона, сложил полномочия, бросив Наполеону упрек за проявленную в тот день жестокость. Все это неправда, но стало частью «черной легенды» о Наполеоне.
Ночью 13 вандемьера ливень смыл с мостовой кровь, но память осталась. Даже пламенный антиякобинский журнал Annual Register, основанный Эдмундом Бёрком, отметил, что «именно в этом конфликте Буонапарте впервые появился на театре войны и своей отвагой и поступками положил начало той уверенности в своих силах, которая столь скоро привела его к возвышению и славе»{222}. Из-за требований политического момента ему больше не стоило ждать от военного министерства нелепостей вроде соблюдения старшинства, предложения предстать перед медкомиссией или оправдаться по делу о дезертирстве. Еще до конца вандемьера Баррас – в знак признания заслуг Наполеона в спасении республики и предотвращении гражданской войны – произвел его в дивизионные генералы и вскоре назначил командующим Внутренней армией. По иронии, Наполеон сначала отказался от назначения в Вандею – отчасти потому, что не желал убивать сограждан, а затем, после головокружительного повышения, делал именно это. Но он проводил разграничение между легальными комбатантами и «сбродом». Еще некоторое время Наполеона иногда называли (за глаза) «генералом Вандемьером». Отнюдь не смущенный своей причастностью к гибели стольких соотечественников, он, сделавшись первым консулом, распорядился ежегодно отмечать эту дату, а когда некая дама поинтересовалась, как он смог хладнокровно стрелять по толпе, ответил ей: «Солдат всего лишь машина, исполняющая приказы»{223}. Наполеон не уточнил, что в том случае приказы отдавал именно он.
«Залп картечи» вознес семейство Бонапартов. Годовое жалованье Наполеона теперь составляло 48 000 франков. Жозеф получил пост в дипломатическом ведомстве, Луи учился в артиллерийском училище в Шалоне и позднее стал членом растущей команды адъютантов Наполеона, а одиннадцатилетнего Жерома – младшего мальчика в семье – определили в школу получше.
«Семья ни в чем не будет нуждаться», – заявил Наполеон Жозефу, и следующие двадцать лет это было правдой. Лора д’Абрантес утверждала, что сразу заметила перемену:
После 13 вандемьера нечего было и думать о грязных сапогах. Бонапарт теперь ездил, и не иначе как в прекрасном экипаже, а жил в хорошем доме на улице Капуцинов… Все, что было в нем костляво, желто, даже болезненно, позже просветлело, украсилось. Черты лица его, которые почти все были угловаты и резки, округлились. Его улыбка и взгляд оставались всегда удивительны[20]{224}.
Никто уже не называл Бонапарта «котом в сапогах».
Сразу же после вандемьера Наполеону поручили закрытие оппозиционного клуба «Пантеон» и изгнание тайных роялистов из военного министерства, а также надзор за театральными постановками. В этой последней роли он почти ежедневно докладывал правительству о поведении публики в четырех парижских театрах: «Опера», «Опера-Комик», «Фейдо» и «Репюблик». Обычный доклад гласил: «В двух [из четырех театров] патриотические выступления публика принимает благосклонно, в третьем – спокойно. Полиции пришлось арестовать человека (вероятно, из Вандеи), свистевшего в “Фейдо” во время пения предпоследнего куплета “Марсельезы”»[21]{225}. Другим поручением стала конфискация у горожан оружия. По семейному преданию, это привело Наполеона к встрече с женщиной, слухи о которой до него, вероятно, доносились, но с которой прежде он не встречался: виконтессой Мари-Жозефа-Роз Таше де ла Пажери, вдовой Богарне. Наполеон стал называть ее Жозефиной.
Дед Жозефины, дворянин Жозеф-Гаспар Таше, в 1726 году переехал из Франции на Мартинику, рассчитывая нажить состояние на производстве сахара, но из-за ураганов, неудач и его собственной лени плантация не принесла ему богатства. Семейное поместье в Сан-Доминго (совр. Гаити) называлось Ла Пажери. Отец Жозефины служил пажом при дворе Людовика XVI, но возвратился в отцовское имение. Жозефина родилась на Мартинике 23 июня 1763 года. (Позднее она утверждала, что родилась в 1767 году{226}.) В 1780 году, в возрасте семнадцати лет, она приехала в Париж и была настолько дурно образованна, что ее первый муж, генерал виконт Александр де Богарне (кузен, с которым она была помолвлена в пятнадцать лет), не мог скрыть своего презрения. У Жозефины были очень плохие зубы (считается, что это результат жевания в детстве на Мартинике сахарного тростника), но она научилась улыбаться, не разжимая губ{227}. «Будь у нее хорошие зубы, – рассуждала Лора д’Абрантес, впоследствии ставшая фрейлиной государыни-матери, – я предпочла бы ее самой красивой даме ее двора»[22]{228}.
Хотя Богарне дурно обращался с женой (однажды, когда Жозефина сбежала от побоев в монастырь, он похитил их трехлетнего сына Евгения), после его ареста в 1794 году она храбро пыталась спасти мужа от гильотины. Его казнили 22 июля. С 22 апреля саму Жозефину – как вероятную роялистку – содержали под арестом в крипте церкви Святого Иосифа на улице Вожирар[23]. Одна из ее сокамерниц, англичанка Грейс Эллиот, вспоминала, что «на стенах и даже деревянных стульях еще виднелись пятна крови и мозга священников»{229}. Жозефине пришлось перенести поистине нечеловеческие испытания: воздух в подземную тюрьму поступал лишь из трех глубоких шахт, причем туалета не было; Жозефина и ее подруги по несчастью жили в постоянном страхе перед гильотиной; в день каждой узнице выдавали (для всех нужд) по бутылке воды; поскольку беременных не казнили, ночами по коридорам разносились звуки совокупления с тюремщиками{230}. В крипте даже в середине лета было холодно, и узницы быстро теряли здоровье. Возможно, Жозефине удалось спастись лишь потому, что она была слишком больна. Мужа Жозефины обезглавили всего за четыре дня до падения Робеспьера, и, если бы тот удержался чуть дольше, на эшафот, вероятно, взошла бы и она. Парадокс: термидорианский переворот дал Жозефине свободу – и лишил свободы Наполеона.
Недели, проведенные в смраде, темноте и холоде, унижениях и ежедневном страхе жестокой смерти (период террора не зря называется именно так), дали о себе знать, и, по-видимому, еще долгие месяцы и даже годы Жозефина страдала от того, что мы теперь называем посттравматическим стрессовым расстройством. Учитывая пережитое, трудно упрекать ее в том, что она стала легкомысленной и разгульной, участвовала в сомнительных сделках, обожала роскошь (ее расходы на портных превышали расходы Марии-Антуанетты) и вышла замуж не по любви, а ради стабильности и денег{231}. Жозефину нередко считают развратной, недалекой, сумасбродной женщиной, но она явно была эстетически развитой, отличалась хорошим вкусом в музыке и декоративно-прикладном искусстве. Она была щедрой (хотя речь в этом случае шла обычно о государственных деньгах). Клеменс фон Меттерних, один из лучших дипломатов эпохи, отмечал ее «уникальный социальный такт»{232}. Жозефина хорошо играла на арфе – хотя, как утверждали, одну и ту же мелодию, а в постели умела проделывать «зигзаги»{233}. Она не рисовала, зато умела ткать гобелены, иногда играла в триктрак, целый день принимала визитеров и с удовольствием делилась за обедом сплетнями со своими многочисленными подругами.
К концу 1795 года бесспорно привлекательная, уже за тридцать femme fatale с неповторимой (без демонстрации зубов) улыбкой нуждалась в покровителе и защитнике. После тюрьмы у Жозефины начался роман с генералом Гошем. Тот отказался расстаться ради нее с женой, но Жозефина не оставляла надежды до того дня, когда она скрепя сердце вышла за Наполеона{234}. Другим ее любовником был Поль Баррас, но связь с ним оборвалась после лета 1795 года. «Она уже давно мне наскучила», – объяснял Баррас в мемуарах, в которых неучтиво называет Жозефину «льстивой куртизанкой»{235}. (Хорошо известное в истории явление – период свободы нравов после долгого кровопролития. «Ревущие двадцатые» после Первой мировой войны и распущенность древнеримского общества после гражданских войн – вот лишь два примера.) После террора решение Жозефины выбирать в любовники людей могущественных соответствовало, как и многое другое в ее жизни, моде. При этом она не была распутницей, в отличие от ее подруги Терезы Тальен, прозванной «собственностью правительства» из-за того, что в ее постели побывало много министров. Жозефина исполняла «зигзаги» и для других – кроме Богарне, Гоша и Барраса – мужчин и получила гораздо более солидное любовное образование (éducation amoureuse), нежели ее почти невинный второй муж.
Жозефина, воспользовавшись возможностью (власти после вандемьера объявили о конфискации оружия), отправила в штаб Наполеона своего четырнадцатилетнего сына Евгения де Богарне с просьбой оставить в семье на память отцовскую шпагу. Наполеон верно воспринял это как приглашение и уже через несколько недель был страстно влюблен в Жозефину. Его страсть росла, и пять месяцев спустя они поженились. У них было довольно много общего: и Наполеон, и Жозефина были чужаками, иммигрантами, уроженцами островов и бывшими политзаключенными. Первое время Жозефине не нравилось его желтоватое лицо, прямые волосы и неухоженный вид и, можно предположить, его чесотка, и она определенно не была в него влюблена. Однако и у Жозефины начали появляться морщины, красота увядала, к тому же у нее были долги. (Их размер она осмотрительно не раскрывала до тех пор, пока Наполеон не надел ей на палец кольцо.)
Жозефина всегда очень заботилась о нарядах и макияже. В спальнях ее домов и дворцов висели зеркала. Она была обаятельной и обходительной (но недостаточно образованной для того, чтобы быть остроумной) и прекрасно понимала, как понравиться преуспевающим мужчинам.
Как утверждают, Талейран на вопрос, умна ли была Жозефина, ответил: «Никто и никогда с таким блеском не обходился без этого». Наполеон, в свою очередь, ценил ее политические связи, статус виконтессы, которую принимали и революционеры, а также то, как она компенсировала отсутствие у него такта (savoir-faire) и дурные манеры. В гостиных он не блистал остроумием. «Никогда из его уст в разговоре с женщинами не выходило не только изысканной, но даже просто уместной фразы, – вспоминал признанный льстец Меттерних, – хотя усилия найти ее часто выражались на его лице и в тоне голоса»{236}. Наполеон говорил с дамами об их туалетах или же о количестве их детей, и одним из его обычных вопросов было, кормят ли они сами (причем этот вопрос, по словам Меттерниха, Наполеон «предлагал обыкновенно в выражениях, совершенно не принятых в хорошем обществе»). В отличие от Наполеона, неловкого с женщинами, Жозефина занимала очень видное положение в парижском обществе и была вхожа во влиятельные политические салоны Тальен, Рекамье, де Сталь и так далее.
После революции духовенство лишилось полномочий регистрировать рождение, смерть и брак, поэтому Наполеона и Жозефину в 22 часа 9 марта 1796 года, в среду, поженил сонный мэр 2-го округа, на улице д’Антен. Невеста надела трехцветную перевязь поверх свадебного платья из белого муслина{237}, а жених опоздал на два часа. Свидетелями были, кроме прочих, Баррас, адъютант Наполеона Жан Лемаруа (с точки зрения закона – несовершеннолетний), супруги Тальен, сын Жозефины Евгений и его одиннадцатилетняя сестра Гортензия.
Чтобы сгладить шестилетнюю разницу в возрасте, Наполеон указал в документах, что он родился в 1768 году, а она сбросила себе четыре года, так что обоим стало по 28 лет{238}. (Позднее в Almanach Impérial указали, что Жозефина родилась 24 июня 1768 года{239}. Наполеона всегда забавляло упорство, с которым жена лгала о своем возрасте. Он шутил: «По ее подсчетам, Евгений должен был родиться двенадцатилетним!»{240}) В виде свадебного подарка Наполеон преподнес Жозефине золотой медальон с эмалью и гравировкой: «Судьбе»{241}.
Причина, по которой Наполеон опоздал на собственную свадьбу, а его медовый месяц длился менее сорока восьми часов, заключалась в том, что 2 марта Баррас и четыре остальных члена Директории, нового правительства Франции, преподнесли ему свадебный подарок, о котором он мог лишь мечтать: пост командующего Итальянской армией. Впоследствии Баррас утверждал: чтобы убедить коллег (бывших якобинцев Жана-Франсуа Ребелля и Луи де Ларевельера-Лепо, а также умеренных Лазара Карно и Этьена-Франсуа Летурнера) выбрать для похода в Лигурийские Альпы Наполеона, он заявил, что тот – «горец» с Корсики – «с рождения привык лазать по горам»{242}. Это едва ли веский довод: Аяччо расположен на уровне моря. Но еще Баррас настаивал, что Наполеон способен вывести Итальянскую армию из сонного оцепенения, и это гораздо ближе к правде.
За девять дней между своим назначением и отъездом 11 марта в Ниццу, в штаб армии, Наполеон затребовал в военном министерстве все книги, карты и атласы Италии, которые только можно было достать. Он читал биографии полководцев, которые сражались там, и, если чего-либо не знал, имел мужество это признать. «Я оказался в помещении Генерального штаба на Новой улице Капуцинов, когда вошел генерал Бонапарт», – много позднее вспоминал другой офицер.
Я и теперь помню маленькую шляпу, увенчанную растрепанным плюмажем, его кое-как скроенный мундир и шпагу, которая, говоря по правде, не казалась орудием достаточно надежным для того, чтобы проложить дорогу в жизни. Швырнув шляпу на большой стол посередине комнаты, он направился к пожилому генералу по имени Криг, знающему все в подробностях, автору очень хорошего наставления для солдат. Он усадил его рядом за стол и с пером в руке принялся расспрашивать о многочисленных обстоятельствах, имеющих отношение к службе и дисциплине. Некоторые его вопросы выдали такое его незнание простейших вещей, что кое-кто из моих товарищей улыбнулся. Меня самого поразило количество заданных вопросов, их очередность и быстрота, а также то, как он постигал сообщенное и часто извлекал из него новые вопросы. Но еще сильнее меня поразило зрелище – главнокомандующий, совершенно спокойно демонстрирующий подчиненным, сколь глубоко несведущ он в различных аспектах дела, которые и самые юные из них обязаны были превосходно знать, и это подняло его в моих глазах на тысячу локтей{243}.
11 марта 1796 года Наполеон уехал из Парижа в почтовой карете вместе со своим другом Шове, новым квартирмейстером Итальянской армии, и Жюно. В письме Жозефине, отправленном 14 марта из Шансо, Наполеон выбросил u из своей фамилии. Впервые в газете (официальной Le Moniteur Universel) его упомянули в 1794 году, причем фамилию записали через дефис (Buono-Parte)[24].
Теперь Наполеон «офранцузил» фамилию, сознательно желая подчеркнуть свою принадлежность в первую очередь к французам, а не к итальянцам и корсиканцам{244}. Еще одна нить, связывавшая с прошлым, была разорвана. Через пятнадцать дней Наполеон приехал в Ниццу. Если кто-нибудь делал ненужное замечание, что он чересчур молод, чтобы командовать армией, 26-летний Наполеон отвечал: «Я вернусь уже старым»{245}.