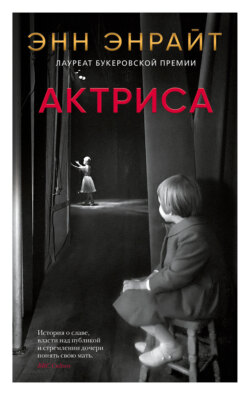Читать книгу Актриса - Энн Энрайт - Страница 2
Оглавление* * *
Меня часто спрашивают: «Какая она была?». Мне хочется думать, что люди имеют в виду, какой она была в обычной жизни: как выглядела, когда в тапочках намазывала на тост конфитюр, или какой была матерью, или какой актрисой («звездой» между собой мы ее не называли). Но чаще всего их интересует, какой она была до того, как сойти с ума, – словно подобные изменения происходят в одну ночь и их собственные матери могут испортиться, как портится к утру забытое на столе молоко. Или они подозревают, что и сами малость с приветом.
Когда они со мной разговаривают, с ними что-то происходит. Не сразу, постепенно, но происходит. Мой собеседник все больше изумляется, как будто годы спустя вдруг узнает свою первую любовь.
– У вас ее глаза, – говорят мне.
Люди ее любили. В смысле, посторонние люди. Я видела, как они смотрели на нее и кивали, хотя не слышали ни одного ее слова.
О да, у меня ее глаза. Во всяком случае, того же цвета, карие, хотя про мать все предпочитали говорить, что у нее они зеленые. В самом деле, сколько журналистов, заглянув ей в глаза, непременно вспоминали поля или болота. И моргали мы одинаково, медленно и доверчиво, словно думая о чем-то невыразимо прекрасном. Я-то знаю, она сама меня этому научила. «Представь себе, – говорила она, – как плывут в воздухе вишневые лепестки». Иногда я так и делаю.
Это наследие, которое я получила от Кэтрин О’Делл, звезды сцены и экрана.
– Ну как ты, родная?
– Лучше не бывает, – отвечала она, поднимая на меня глаза, и с цветущего вишневого дерева слетали лепестки.
Как-то у нас на кухне на Дартмут-сквер (где, кажется, происходило все мало-мальски важное в моей жизни) сидел один гость; его знакомый когда-то переспал с Мэрилин и, по его словам, «с тех пор не мылся». Я услышала эту фразу однажды вечером – я была тогда совсем маленькой, – когда спустилась сверху и увидела пожилого симпатичного мужчину, и она врезалась мне в память. Поэтому, когда меня спрашивают, какой она была, меня так и тянет ответить: «Довольно чистоплотной». И добавить: «По меркам своего времени».
Ну что ж. Вот она, Кэтрин О’Делл, готовит себе завтрак, достает из холодильника и шкафчиков продукты, одни с удовольствием, другие с неприязнью. Где же, где же он?.. Ага, вот он, конфитюр. В окно светит солнце, над сигаретой поднимается изящная раздвоенная нитка дыма. Что тут рассказывать? Когда она ела тост с конфитюром, то ничем не отличалась от любого человека за завтраком, разве что поражал яркостью контраст между цветом лица и губ, даже когда ее рот не занимал собой все двенадцать футов киноэкрана.
Вот она сидит с тостом в руке. Ест она быстро. Поднесет тост ко рту, откусит, прожует, снова откусит. Проглотит. И так раза три или четыре, после чего тост возвращается на тарелку. Потом она возьмет его и откусит еще кусок. Снова положит на тарелку. Затем следует короткая битва, которую тост проигрывает; неуверенное движение руки – хочу или не хочу? – нет, не хочу.
Она поднимает трубку и набирает номер. Когда она разговаривала по телефону – бежевый аппарат с длинным ободранным витым проводом висел на стене кухни, и мне приходилось подныривать под него, пока она, повторяя: «Прелестно», расхаживала туда-сюда с сигаретой в руке и просительно подмигивала мне, тыча пальцем в чашку кофе или бокал вина, до которых не могла дотянуться, – у нее все всегда было «прелестно».
– Прелестно!
Или она разговаривает со мной – мне лет восемь или девять, и я сижу за столом в розовом хлопчатобумажном платье, привезенном из Америки. Или обращается к псу, который затаился под столом в ожидании объедков, как все киношные собаки. Но чаще она обращается к потолку, к тому месту, где он смыкается со стеной. Ее взгляд блуждает вдоль этого стыка, как будто в поисках новой идеи. Или справедливости. Да, именно справедливости. Она поспешно опускает голову и закуривает очередную сигарету. Делает затяжку.
Тост забыт. Тост для нее умер. Стул отодвинут, окурок раздавлен прямо в тарелке. Потом мать встает и выходит. Я вроде упоминала, что она была звездой. Не только на экране или на сцене, но и за завтраком на кухне. Моя мать, Кэтрин О’Делл, была звездой везде.
Спустя примерно час она вновь появляется на кухне, приговаривая: «Черт! Черт!» Гремит посудой. Может выбросить в открытое окно тост или разбить об угол раковины тарелку. Потому что нет Китти. Китти ушла за продуктами к ужину, или у нее выходной, или она ухаживает за сестрой, больной раком. Когда надо, Китти никогда нет, хотя вообще-то она все время здесь. Зато когда она возвращается, нагруженная сумками или расстроенная, расколотая тарелка превращается в случайность, а Китти – в сокровище, которое надо холить и лелеять. Китти – наша домработница, приходит к нам каждый день убирать дом, она обладательница новомодного пылесоса и одной из первых в стране посудомоечных машин. Машину доставили прямо к моему двадцать первому дню рождения, даже фотография осталась: мать в клубах пара у открытой дверцы, а позади, у большой кухонной раковины, – Китти, погруженная в свои мысли.
По случаю торжества мать решила меня принарядить. Мы давно миновали период розового американского хлопка, как и стадию сарафанчиков на трех пуговицах и коротких цельнокроеных платьиц, из-под которых торчали мои худые ободранные коленки. Мне исполнился двадцать один год. У меня рыхлые белые руки в веснушках. Я дылда. В день рождения на мне надето нечто болотно-зеленое с тошнотворно-розовым и длинной тюлевой юбкой с тюлевыми же рюшечками. Моя мать – вот она, высоко держит торт со свечками, – в черном. Перед ней толпа, среди которой и я. На этой второй фотографии лица у всех какие-то слишком одинаковые. Я смотрю на них спустя годы – щеки горят, глаза неподвижны – и пытаюсь понять, что чувствуют эти люди.
Ослепленные светом звезды.
Их можно разглядывать часами.
Они смотрят на нее с восхищением, но из-под этой маски проступает не обожание, а обида. У некоторых до боли натянутые улыбки: вот-вот наружу выползет зависть. Особенно у женщин. Нельзя отрицать, моя мать заставляла окружающих, женщин в особенности, испытывать сложные чувства.
Среди всех этих лиц – мое собственное. Мне страшно быть на виду и одновременно внимание матери мне льстит. Огоньки над тортом – маленькие и неподвижные. Я замерла под ее взглядом; вокруг – буйство и дикость. Или это следствие выпивки? Вокруг – лица толпы.
Это была ужасная вечеринка. Во всяком случае, для меня. Тем летом я закончила колледж, и большинство моих друзей уже разъехались кто куда. Две девочки из школы пришли слишком рано, в платьях, взятых напрокат, и, подозреваю, растерялись от количества вещей в доме или, что вероятнее, от его размеров. Они устроились на втором этаже в гостиной, заставленной театральным реквизитом со всего Дублина: попадая туда, каждый входил в роль, сам не зная в какую. Синий бархатный диван с пуговками на спинке, резное деревянное кресло под Борджиа, крашеная табуретка в скандинавском стиле. Примостившись на этих списанных в утиль историях, мы болтали о своих маленьких драмах: неверных парнях, подружках-предательницах, матерях, которые «просто какой-то кошмар». Во всяком случае, так о своих матерях отзывались мои школьные подруги; я в этом отношении всегда старалась вести себя сдержанно. Правда, в тот вечер моим усилиям мешал ее доносящийся из кухни голос, «голос знаменитости», звучавший тем громче, чем быстрее таяли запасы виски.
Мне было трудно найти верный тон.
После десяти подтянулся народ из театрального колледжа. Расселись кто где. Свет приглушили, музыку врубили на полную катушку. Все кончилось тем, что Мелани, моя школьная подружка, целовалась с президентом Театрального общества возле двери в ванную. Дело было в конце лета 1973-го. Опасность подстерегала повсюду. Выйдешь причесаться, а тебя уже прижали к стенке и лапают.
Незадолго до полуночи прибыли актеры театра Гейт. Все сгрудились вокруг пианино и стали петь и пить – обычно так проходили и другие субботние вечера в доме на Дартмут-сквер. Толпа приятелей моей матери переместилась в гостиную, но мои друзья не обратили никакого внимания на это старичье. А может, в те годы все мужчины казались старыми – мешковатые спортивные куртки, пачки сигарет, галстуки – что в двадцать пять, что в сорок пять лет.
Мать многие годы принимала у себя на большой старой кухне оравы крупных, пьющих, общительных мужчин, в том числе довольно известных. Они приходили к ней в поисках прибежища и ни к чему не обязывающих разговоров, а также своего рода одобрения, на которое в те времена ни один здравомыслящий мужчина не мог рассчитывать у себя дома. Они наполняли мое детство волшебством. Совали мне фунтовые банкноты, декламировали на ночь Йейтса, сажали себе на колени, поддразнивали или посвящали в тайны. «Видишь вон того? Он пел для папы римского». Некоторых я любила, некоторые – возможно, в отместку моей матери – относились ко мне с искренним теплом.
Но к двадцати одному году от этой любви не осталось и следа. Они меня больше не впечатляли. Наверное, подрастеряли былой шарм. Те еще типы. И их алчные жены. Сопровождавшие их девушки были либо туристками, если судить по свитерам аранской ручной вязки, либо сильно умными и еще сильнее пьяными. Мужчины, к которым они прижимались обтянутой свитером грудью, были театральными деятелями, интеллектуалами, музыкантами или писателями; практически каждый что-то писал и каждый был выдающейся личностью, во всяком случае в собственных глазах. Говорили о работе – в «Айриш таймс» или в Дублинском университетском колледже; это называлось «подработкой». «Ты не в колледже подрабатываешь?» Колледж располагался всего в двух милях от нас. Хьюи Снелл «подрабатывал» на телевидении – «на Монтроуз», – хотя на самом деле был там штатным сотрудником; то же, впрочем, касалось и всех остальных.
Все подражали Найлу Даггану, утонченному любителю каламбуров, инверсий и латинских пословиц (Sic transit!), которые он вставлял, намеренно искажая утрированным местным акцентом («Карпим, карпим дием!»). Первоклассный треп, вполне светский, никаких шуточек про секс, никакого неуважения к женщинам. Вернее, как я сегодня понимаю, никакого упоминания женщин. Разве что с глазу на глаз – вот тогда он позволял себе непристойности.
Так просто не объяснить.
Все состояло из сплошных аллюзий. К примеру, О’Бойл получил прозвище Тише по ассоциации со строчкой Томаса Мура «Тише, О’Мойл, струи́ свои воды» и каким-то случаем с писсуаром в баре «Пэлас». Это было одновременно и плоско, и странно, и элегантно; даже откровенные скабрезности у них звучали стильно. «Тише О’Бойл» рассказывал моей правой груди о красоте Бодлера, а потом переключался на левую – должно быть, чтобы та не чувствовала себя брошенной, – и повествовал ей о молодом Рембо. «Тебя возбудил бы тот персонаж из Фолкнера? А с Сэлинджером? Да, ты спуталась бы с этим жалким создателем нескончаемой нудятины, и история американской литературы, даже не спорь, навсегда бы изменилась. Ты бы спасла ему жизнь и погубила книгу. В этом проблема, понимаешь? В этом все вероломство». Когда я училась на первом курсе, Дагган, который, разумеется, был в числе моих преподавателей, посулил мне в обмен на мою девственность диплом с отличием, на что мать сказала: «Меньше, чем на все твои земные сокровища, она не согласится, Найл», – и лишь потом добавила: «Отстань от ребенка».
Они пили, пока их взгляд не застывал, точно студень, теряя способность воспринимать реальность. Во всяком случае, так мне думалось в двадцать один год; тогда я не пила, потому что мне не нравился вкус спиртного, и эти мужчины могли пялиться на меня сколько угодно, потому что мне они казались стариками и я уже любила тебя.
Потом запел мамин друг Хьюи Снелл, – как обычно, высоким поставленным тенором.
Когда из уст и из сердец чужих
Польется песнь о любви…
Он ссутулился от старания, губы тщательно прорабатывали гласные, восхитительно их корежа.
Тогда и ты, маоолю тебя,
Мой оообраз в мыслях возрадиыыы!
Это была ария Тадеуша из «Цыганки», обожаемая (попробуй это забудь!) молодым Джимми Джойсом. Хьюи уверял, что без памяти влюблен в мою мать, и ему это позволялось, ведь он был открытый гей. Все муки своей истерзанной души он вложил в песню, и правда очень красивую: с его голосом в дом вступила необъятная ночь.
Даже типы из колледжа замерли. Я прислонилась к стене, чувствуя, как на глазах выступают слезы, и подумала о тебе и о том, как поезд уносит тебя в раннюю осень с твоей англичанкой Оливией. Мне хотелось знать, где вы сейчас: в Пизе, в Вероне? А может, в Братиславе? Ты оставил меня, на этот раз навсегда. Ты сказал, что наша любовь невозможна. Или нет. Тебе просто хотелось отдыха, а Оливия прекрасно для этого подходила. С Оливией-то все было в порядке.
Ты никогда не рассказывал, как прошла та поездка. Никаких забавных рассказов об убогих вагонах поездов или итальянских гостевых домах с абажурами в розовых рюшах. И ты никогда не рассказывал, какова она в постели, хотя я постоянно спрашивала (я думала, что все дело в этом), а ты просто улыбался и отвечал: «Не такая, как ты».
Хьюи Снелл вывел последнюю ноту сквозь выпяченные губы и приподнял брови, словно удивившись, какая долгая она получилась. Грянули аплодисменты. А потом пианист перешел к простенькой мелодии на высоких нотах, и на этот зов откликнулись с лестницы. Мы повернулись к двери, в нее хлынул свет и показались яркие огоньки свечей на именинном торте, который внесла в комнату моя мать. Она направилась ко мне неспешным и размеренным шагом. Прошествовала. И для этого прохода выбрала чудесную старую песню – Que sera sera, «Что будет, то будет».
Ты наверняка знаешь, что к тому времени она уже редко пела, а уж со сцены – никогда. «Я слишком стара», – говорила она, вероятно вспоминая об одном из своих выступлений, заставлявших концертные залы в Лондоне, Нью-Йорке или Дублине рукоплескать ей стоя. Но, боже мой, голос матери звучал буквально отовсюду. Вырвавшись у нее изо рта, он настигал тебя в самом дальнем углу. Кэтрин О’Делл не пела, а вытягивала песню из стен. Она вызывала ее к жизни и заряжала звуком самый воздух.
А потом («Нет, погоди, не задувай!») мы сгрудились, чтобы сфотографироваться; снимал профессионал, которого привел ведущий светской хроники из «Ивнинг пресс». Мать встала спиной к камере, повернув лицо в три четверти. Все было срежиссировано заранее. Было выбрано время и для торта, и для шествия, и для снимка. Я это знаю, а еще я знаю, что тем вечером мать пела для меня одной.
Потом мы хором исполнили «С днем рожденья тебя», и я задула свечи на торте. Покупном, из «Ти тайм экспресс», с кремом.
Сейчас, глядя на фотографию, я вижу, что платье на самом деле симпатичное – ворох матового тюля. Я выгляжу в нем бледной и загадочной. А на матери настоящая классика: пышная юбка, облегающий лиф, рукава три четверти. Вырез-лодочка, широкий белый атласный воротник. Мать отвернулась от объектива, и видно, как длинные концы воротника – по-пуритански строгие – лежат на спине ниже лопаток. Много обнаженного тела, стиль начала пятидесятых. Возможно, Диор.
«Дома у Кэтрин О’Делл» – сообщает заголовок, а вот и вторая фотография, поменьше: мать с новой посудомоечной машиной, «по всей видимости одной из первых в Ирландии»; выражение лица беззаботное: «Понятия не имею, как эта штуковина работает».
«Кэтрин О’Делл в своей недавно обновленной кухне на элегантной дублинской Дартмут-сквер».
Вырезок у меня мало. Ты знаешь, я скучаю по матери каждый день, но по-прежнему не в состоянии читать эти жуткие заметки. Они нечитабельны. Конкретно эта – жемчужина в моей короне! – написана язвительным алкашом-недомерком, разъезжавшим в смокинге и бабочке на машине с шофером. Представительницы среднего класса верещали от восторга, когда он появлялся на их вечеринках и приемах. Часа в три ночи он возвращался к себе на Бург-Куэй и принимал позу роденовского мыслителя, а затем выдавал что-то вроде:
На этой неделе, вернувшись домой после недавнего триумфа на Бродвее, Кэтрин О’Делл нашла время, чтобы встретиться с нашим обозревателем Терри О’Салливаном и поговорить о театре и о жизни вообще. Не так давно она стала обладательницей посудомоечной машины: «Первой в стране. А что, мне кажется, это вполне возможно». Идею она привезла из Америки, где подобные устройства никого не удивляют. Так во всяком случае утверждает сама путешественница и муза, вдохновлявшая таких писателей, как Сэмюэл Беккет и Артур Копит. Тянет ли ее обратно в Голливуд? Все меньше и меньше: «Для меня ничто не сравнится с радостью живого выступления на сцене».
Под фотографией с тортом подпись:
Праздник дочери. Прием, устроенный в честь дня рождения дочери Кармел, посетило множество известных лиц, в их числе Кристофер Кейзнов, у которого только что прошла премьера в театре Гейт, коллега хозяйки дома по актерскому цеху Хьюи Снелл, импресарио Бойд О’Нилл, архитектор Дуглас Келли с женой Дженни и дочерью Море, недавно с отличием окончившей Дублинский университетский колледж. Море планирует работать в сфере туризма.
Разумеется, Море на вечере самая хорошенькая. Работать в сфере туризма она не стала, а вышла замуж и переехала в Монкстаун. Ошибся журналист и в моем имени – готовя заметку о моем собственном дне рождения. Непонятно, откуда вообще взялась эта Кармел. Меня зовут не так. Мое имя – Нора Фицморис.
Я гляжу на эту вырезку и недоумеваю, почему именно она сохранилась, в то время как множество других вещей сгинуло без следа. Эта фотография насквозь фальшива и была фальшивкой, уже когда ее делали, но годы добавили ей некой правдивости: изящная обнаженная спина Кэтрин, оживленные лица людей напротив, мое собственное лицо (на одном уровне с тортом; возможно, я сижу на стуле) обращено к матери, я гляжу преданно и радостно. Ее точеный профиль наклонен ко мне.
Все – заголовок, статья – сводится к одному: актриса с ребенком, которого затмевает собой. Фотография подкрепляет ложное представление обо мне как о бледной копии матери; я – заложница времени, тогда как над ней время не властно. Небожительница родила простое человеческое дитя. Но у нас с ней все было не так. И ощущали мы себя иначе.
Платье, диоровское или вроде того, и правда отличное, теперь я вижу, но в тот вечер она нацепила шиньон, из-за которого мне было так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю. Волосы она начала красить задолго до того, как это вошло у женщин в привычку, во всяком случае, такой темный цвет тогда точно никто не выбирал – он, по ее же словам, убивал лицо. Кэтрин О’Делл было тогда сорок пять лет. Ее сорок пять – не нынешние сорок пять. Она выкуривала в день по тридцать сигарет и пила с шести вечера до бесконечности. Моя мать никогда не ела овощи, разве что когда садилась на диету. Мне кажется, у нее не нашлось бы ни одной пары туфель без каблуков. Целыми днями она без умолку говорила, а по вечерам, когда лицо у нее опухало от спиртного, а глаза делались ярко-зелеными, становилась желчной.
Правда состояла в том, что, несмотря на фото с новой белоснежной кухонной техникой, словно для съемки в журнале «Лайф», жизнь Кэтрин О’Делл в сорок пять уже закончилась, во всех смыслах: и профессиональном, и сексуальном. В те времена женщина за тридцать садилась дома и навсегда закрывала за собой дверь.
Но моя мать – надо отдать ей должное – отказалась ложиться и умирать. Закатила вечеринку, потратилась на наряд для меня от самого Иба Йоргенсена и перерыла свои старые коробки и сундуки в поисках платья, в которое все еще могла влезть. Напоследок.
Это платье она носила беременной. Я помню, как она это сказала, пока мы готовились к предстоящему вечеру. Она оттянула ткань под высокой талией со словами: «Смотри, двое поместятся».
Мы стоим у зеркала в ее спальне. Платье отдельно, я отдельно, а когда-то я была внутри него, внутри нее. Она рассказывает, что во время беременности ей потребовалась всего пара лишних дюймов ткани. И поднять бюст повыше. Подтяни лямки бюстгальтера! Выше, выше, выше! Никто и не догадается.
Она не уточнила, почему беременность нужно скрывать, а я не спросила. Я знала, что я была ее тайной радостью.
– Выше, выше, выше! – говорила она, зачесывая мне волосы к макушке.
Лучше меня для нее никого не было.
– Ты милашка, – говорила она, а я поднимала лежащий у меня на коленях болотно-зеленый помпон и роняла его обратно.
Я все же получила диплом с отличием. Не то чтобы это имело хоть какое-то значение теперь. Ни малейшего. Но позднее тем вечером, возможно, разозлившийся из-за торта, Дагган заявил, что все дело в моих сиськах. У них правда умный вид.
– Отвали, Найл, – огрызнулась я.
Очередная необъяснимая странность: меня к нему сильно тянуло. Именно с ним я хотела поговорить, в какой бы комнате ни оказывалась.
– Воображение – это убийство, – говорил он. – Но ты и сама это знаешь, ясное дело. Нутром чуешь.
– Воображение – это воображение, – отвечала я.
– Кого ты убьешь? – и он обвел рукой толпу позади себя.
– Как насчет тебя, Найл? Ничего, если я убью тебя?
– Уже, дорогая, уже.
В самом деле, он казался мне покойником, с его толстой и белой кожей, из которой сочился пот.
А ему было всего лишь сорок восемь. Не верится даже. Пришлось проверить. Найл Дагган пил, и трезвел, и опять пил, приставал к студенткам и рявкал на студентов, третировал коллег и устраивал на работу своих друзей, по большей части бездарных. В двадцать один год мне думалось, что его жизнь кончена, но он прожил еще тридцать лет, продолжая заниматься тем же, чем всегда.
Моя мать умерла в 1986 году. Пора бы уже с этим смириться. Ей было пятьдесят восемь.
Но я помню, как вечером в мой двадцать первый день рождения даже стоять рядом с ней казалось невыносимым. Ее тело выпирало из черного платья мелкими валиками, так что создавалось впечатление, будто швы на талии того и гляди разойдутся, и от самого наряда, долго хранившегося в глубинах шкафа, пахло затхлым. На дворе стояли семидесятые, мы были слишком современны для черного, а винтажными называли лишь автомобили. То платье казалось маскарадным нарядом. В нем она выглядела ненормальной. Вот и пожалуйста. Видела ли я тогда в ней начинающееся безумие? Не больше, чем любая дочь видит его в своей матери, ведь со всеми матерями что-то не то.
На пьяной вечеринке обязательно наступает момент, когда лица расплываются, когда всех гостей никак не собрать вместе. Кто-то твердит одно и то же, кто-то внезапно уходит. И когда дело принимает дурной оборот – в углу завязывается драка, на лестнице слышится женский плач, – внезапно раздается совсем другая музыка. Ты идешь вниз и обнаруживаешь, что вся компания переместилась на кухню. Вокруг стола расположилось несколько музыкантов, явившихся после позднего выступления в местном пабе, сладостно звучат струны мандолины, – легкая дрожь, предвестник песен, которые вот-вот зазвучат.
На подобных вечерах не обходилось и без политики. Так уж повелось, что чем позже приходил гость, тем больше симпатизировал делу республики, а эти музыканты пришли последними. Горстка мужчин в замшевых пиджаках, широких галстуках и с разной конфигурацией растительности на лицах, – что отражено на обложке их первого альбома, вышедшего чуть позже в том же году. Там и бакенбарды, и усы подковой, а на щеках у одного и вовсе топорщится нечто нелепое. Сложи одно с другим, выйдет нормальная борода.
Мелодия стихла, и в наступившей тишине мы дружно, если можно чего-то ждать дружно, ждали Море Рахилли. Ну же, спой. Певица, рядом с которой моя мать казалась провинциалкой. Рыдающий голос пробирал до кишок – воплощенное горе и первобытная сила. Песня, которую, собравшись с мыслями, исполнила Море Рахилли, была на ирландском. От этих звуков мои школьные друзья вздрогнули и заозирались вокруг, словно ища повод уйти.
Но никто не ушел. На Дартмут-сквер никто не уходил до самого утра и не чувствовал в том необходимости. Никто никогда не прощался, гости просто растворялись в воздухе, и все. И хотя моя мать не выпускала из руки бокал, в такие вечера она словно по волшебству становилась лишь трезвее. На следующий день никто не сплетничал о Кэтрин О’Делл, управлявшей, подобно шекспировскому Просперо, этим островом выпивки и миражей. Она всегда выступала лишь радушной хозяйкой, помогающей сводить знакомства, а сама держалась поодаль, и ничто дурное к ней пристать не могло.
Я не очень хорошо помню, как готовились эти званые вечера – точно не было никаких терзаний над списком гостей. Она брала трубку и звонила по десяти-двенадцати номерам, а гостей заваливалось человек шестьдесят, если не сто шестьдесят, знакомых между собой хотя бы заочно. Среди них – заклятые враги, в том числе хозяйки дома. Я рано научилась избавлять ее от нежелательных разговоров. Вот мать, прижатая к стене старой школьной подругой, закатывает глаза. «Ты никогда мне не нравилась, Кэтрин, все эти годы. Не знаю, почему. Я пыталась тебя полюбить. Не получается, и все тут».
В те годы Дублин казался маленьким городом, и даже забияки причиняли окружающим мало вреда, зато сплетни разрастались до умопомрачительных масштабов. Знаю, в этом есть что-то болезненное, но я скучаю по тем временам. С тех пор мы все оторвались друг от друга. Типа выздоровели.
А вот присутствие на том вечере Бойда О’Нилла моя память не сохранила, хотя он есть на фотографии. Высоченный. Пробираясь через толпу, он словно плыл над ней. Ближе к полуночи он обычно забивался в угол, где препирался со своим старым спарринг-партнером Найлом Дагганом. Ох уж эта парочка боевых петухов: импозантный высокий О’Нилл в свитере с высоким горлом и пиджаке и неуклюжий Дагган в заляпанной рубашке. Один – длинная кривая линия, второй – низенькая, загнутая к полу закорючка. Такими я вижу их теперь, словно персонажей комиксов из «Даблин Опинион», сплошное зазнайство и карикатурная жестокость. Тем не менее, безобидными они не были. Они лезли тебе в душу.
Разумеется, сначала надо было впустить их в себя. Бойду О’Ниллу я слишком много пространства не предоставляла. Красавчик – такие не для меня. Но к Даггану меня тянуло. Он – серые, чуть навыкате глаза – обладал редкой способностью вползать тебе в башку, а потом словно прорывался сквозь тебя наружу. Я была молода и не сознавала, насколько привлекательна, но, думаю, Найл Дагган хотел не столько заполучить меня в смысле секса, сколько стать мной. Или перестать быть мной.
Это что, прикол такой? Так сказала бы моя дочь. Сейчас такое по-прежнему в тренде?
Думаю, он чувствовал себя мерзко. Мерзко. Потому что, разговаривая с умной женщиной двадцати одного года, не слышал собственных мыслей, такой гам стоял у него в голове.
Помню, как на исходе вечера поднимаешься наверх – за чьим-нибудь забытым пиджаком или сумкой – и видишь в комнатах, где только что принимали гостей, запустение и разгром: мебель не на своих местах, на столах и буфетах бутылки и бокалы, выстроившиеся миниатюрным архитектурным макетом неведомого городка. Разруха полная. На следующий день Китти проходилась по комнатам с щеткой и совком, не удивлялась осколкам, не бросала осуждающий взгляд на пепельницу. Мать могла изобразить раскаяние, но я знала, что Китти не расстраивается из-за особенностей нашей жизни. Эти подробности ее не занимали. У нее хватало своих проблем.
Но я забегаю вперед.
Как все, наверное, хорошо помнят, в 1980 году мою мать после нападения на этого самого Бойда О’Нилла, кинопродюсера, более известного в Ирландии, чем за ее пределами, поместили в центральную психиатрическую больницу. Она выстрелила ему в ступню, тем самым подарив всему Дублину сюжет для сотен острот. Это злополучное происшествие принесло много горя, в том числе О’Ниллу, который, рискуя репутацией, поддержал обвинение в попытке убийства. Адвокатов поведение матери после ареста обнадеживало: она так переигрывала, что казалась искренней. Она смеялась невпопад, напевала себе под нос и дергала себя за волосы. Когда дело наконец дошло до суда, ее невменяемость подтвердили сразу два психиатра. Здание суда она покинула в том же белом фургоне, в котором приехала. Спустя три года ее выпустили из лечебницы. Напичканная таблетками, иссохшая, она вскоре превратилась в безнадежно больную старуху, которую на улице никто не узнавал.
Нельзя не упомянуть, что О’Нилл за это время несколько раз ложился в больницу. В целом он провел в медицинских учреждениях не меньше времени, чем моя мать. В газетах писали, что он лишился большого пальца. На самом деле его палец пять часов собирали из жуткого месива из мяса и костей, но тот никак не заживал. Чтобы остановить ползущий вверх некроз, О’Ниллу сделали четыре операции подряд, по частям отнимая правую ногу. Он сидел на антибиотиках. О работе пришлось забыть. Итоговая и самая успешная ампутация дошла до колена, но к протезу он так и не приспособился. По ночам его мучили, не давая спать, фантомные боли. Моя безумная мать прострелила Бойду О’Ниллу ступню, и все решили, что это вроде как забавно. Но «забавно» – не то слово. Или, напротив, единственно пригодное слово. Учитывая все случившееся.
Мне тогда было двадцать восемь. Следующий год или около того я пыталась держаться, но наступил день, когда я поняла, что больше не могу заставить себя ходить на работу. Я объявила, что пишу книгу. И так оно и вышло. Я написала не одну, а несколько книг. Но не ту, которую должна была написать, не ту, которая прямо кричала: «Напиши меня!» – историю моей матери и ее нападения на Бойда О’Нилла.
* * *
Пару месяцев назад я получила электронное письмо от некой Холли Девейн. Она хотела поговорить со мной о моей матери, от чего я обычно отказывалась. Но я успела соскучиться по интервью с журналистами – давненько они ко мне не обращались – и переживала свой провал в этой особой игре. Я имею в виду писательство. Хотя казалось бы. Статьи выходили. Книги более или менее успешно продавались. Терзания по пустякам, банальные до пошлости.
Я пригласила Холли Девейн к себе в Брей и объяснила, как добраться, потому что наш дом не находит ни один навигатор. Одно из многочисленных преимуществ приморского городка: здесь полно переулков и тупичков, о которых известно только местным, до того они старые и так умело прячутся.
В утро ее приезда я осмотрелась и сочла, что живу вполне сносно. Поправила фотографии на стенах, протерла плинтуса. Подготовилась к обвинениям, которые мне, вероятнее всего, будут предъявлены. Или не будут. Иногда тебя ни в чем не обвиняют. Ничего из тебя не вытягивают, не пытаются выковырять тебя из скорлупы твоего самодовольства. Не подвергают твои слова сомнению (зачем тратить лишнюю энергию), ведут вроде бы обычный разговор, что-то записывают и уходят. А потом публикуют чудовищный бред. Как будто дают тебе понять: в следующий раз не расслабляйся.
Но, знаете ли. Не всегда.
Холли Девейн появилась у меня на пороге ветреным и холодным весенним днем. Машину она не поставила, а скорее бросила возле соседнего дома. Совсем ребенок, подумалось мне: темное двубортное пальто, вязаная шапочка, шарф, облачко светлых волос. Двадцать минут спустя она уже рассказывала мне, что мужчины ее «не то чтобы интересуют». «Не то чтобы да, но и не сказать, что нет». По ее словам, она их (мужчин) любила и иногда ходила с ними (с мужчинами) на свидания, но это не вписывалось в узкие рамки привычного гетеросексуального поведения.
Понятия не имею, каким образом разговор о моей матери свернул в это русло, да еще так быстро. В камине горели дрова, во френч-прессе настаивался кофе, поднос с овсяным печеньем, по виду и не догадаешься, что покупным, ждал наготове. Холли подвинула табуретку и положила на нее маленькую плоскую видеокамеру (или это был ее телефон?), направленную на меня под наименее выигрышным углом, чтобы записать все, что она намеревалась из меня вытянуть. Камера включилась не с первой попытки. Но сама Холли произвела на меня прекрасное впечатление: добрая, умная, пышущая энтузиазмом. Из нее получилась бы превосходная учительница английского. Она много чего знала. Работала над диссертацией, посвященной моей матери. Сердце у меня чуть дрогнуло – появилась надежда, что о Кэтрин О’Делл в кои-то веки напишут что-то стоящее. Я, стараясь не подавать виду, внимательно разглядывала эту девочку: ладная, энергичная, интеллектуалка – из тех, чей блестящий ум порой граничит с глупостью. Молодая.
Ученой степени Холли пока не получила, но рассчитывала со временем превратить свою диссертацию в книгу. Услышав слово «книга», я подвинула к ней блюдо с печеньем, но она отказалась и задала первый вопрос. Потом второй. Я ответила: «А, вы про это. Знаете, это было просто…» Минут через двадцать или около того (после ее реплики о гетеронормативности) я догадалась, что «Кэтрин О’Делл», как это обычно и происходило, занимает ее прежде всего в связи с ней самой, «Холли Девейн», главным образом в связи с ее неприятием гетеронормативности, что бы это ни означало: Адам и Ева, Эдем и сорок тысяч лет последовавших затем мерзостей.
– Какой она была матерью?
– Ну какой, – сказала я. – Она была моей матерью.
Как многие другие до нее, девчонка старательно вынюхивала, не было ли со стороны матери намека на жестокое обращение, нарциссизм, отсутствие заботы; разочаровать ее не составило мне труда. Годы практики, как-никак, и не только общение с журналистами – за моей матерью закрепилась репутация человека, тесно дружившего с геями особого ирландского разлива. Но Холли подошла к делу по-новому. Ее интересовало, как моя мать понимала собственную женственность, подразумевая под этим стиль сексуального поведения, то есть то, на чем я меньше всего хотела бы останавливаться.
– Она спала с мужчинами, – сказала я.
Внезапно я задумалась, зачем вообще впустила в свой дом эту девчонку. Я вновь оказалась в ловушке чужого любопытства, куда меня заманило одиночество, – свое или матери – чувство, которое рождается в тебе, когда стоишь на краю могилы. Мать давно умерла. А я даже сейчас бы все отдала, лишь бы вернуть ее назад из могильного холода.
Эти рвущие сердце мысли отвлекли меня от Холли Девейн, которая теперь рассказывала, что моя мать интересует ее не как зеркальное отражение ее самой, а как деятель (она многозначительно подчеркнула это слово интонацией). Она хотела создать ее в высшей степени субъективный портрет, подразумевая под этим стремление лишить Кэтрин О’Делл ореола иконы и показать ее как живого человека. Совершающего поступки.
– Стреляющего в людей, – уточнила я.
– Да. И это тоже. – Она на мгновение умокла.
Я подумала, что теперь Холли спросит о политике. В середине семидесятых моей матери нравилось тусоваться с членами ИРА в Нью-Йорке и Бостоне, но в основном (я так и порывалась сообщить об этом Холли Девейн) в гетеронормативном смысле. Ее волновали не перестрелки или терроризм, хотя именно они вызвали в Дублине скандал. Точнее говоря, не скандал, а «недовольство». Одно дело петь для ностальгирующих американских ирландцев песни протеста, и совсем другое – попасть в травматологию в Белфасте с простреленным коленом или осколочным ранением – тут уж не до ностальгии. У большинства романтика быстро выветривается, но моя мать, несмотря ни на что, продолжала верить в Объединенную Ирландию.
Я набрала в грудь воздуха, чтобы объяснить все это Холли Девейн, но объяснять пришлось бы слишком многое.
– Думаю, они просто пользовались ее известностью в своих целях, – сказала я.
Холли непонимающе моргнула. Она была слишком молода, чтобы помнить Смуту, и не интересовалась Северной Ирландией. Ее не занимала даже проблема ИРА. Вместо этого, немного помявшись, она задала-таки вопрос, который сегодня стал почти обязательным.
– Простите, что спрашиваю, но мне кажется… Возможно, это важно. Вы никогда не думали, что в детстве она подвергалась насилию?
– Нет, никогда, – ответила я. – Правда, никогда. Хорошо, что вы об этом спросили.
В конце концов я от нее отвязалась. Теплые слова у порога. Обещания, которых я не собиралась выполнять. Желание толкнуть ее в спину на пути к калитке и, в самый последний момент, желание крикнуть что-то вдогонку. А потом, четыре часа спустя – борьба с собой, после того как ты сказал, что эту чертову книгу должна написать я сама.
После ужина мы сидели на кухне. Солнце клонилось к закату, пробиваясь внутрь сквозь растения на подоконнике возле раковины; у меня росли перец чили в желтой жестяной банке и кориандр из супермаркета. В какой-то момент окно за ними вспыхнуло серебристой пеленой пыли и въевшейся грязи, так что стало не видно улицы.
Настроение у меня было паршивое.
– Почему бы тебе самой не написать эту книгу? – спросил ты.
Довольно противным, позволю себе уточнить, тоном. Не голосом терпеливого многострадального мужа писательницы. Нет. В твоих словах звучало безграничное раздражение, словно ты приравнивал мою неспособность написать эту книгу к моей же неспособности загрузить посудомоечную машину, чем ты вместо меня как раз и занимался.
Я доедала последнее овсяное печенье, рассуждая об удивительной молодости Холли Девейн, заставившей нас обоих почувствовать себя стариками. Я не сунула тарелки в машину потому, что скорбь по матери на некоторое время лишила меня возможности заниматься домашними делами, а ты в очередной раз стал жертвой моей никчемности. Кроме того, эту долбаную кастрюлю пришлось замачивать, что в сложившихся обстоятельствах (приближение старости и необходимость в одиночестве расставлять посуду) окончательно тебя добило.
– Почему бы тебе самой не написать эту книгу? – спросил ты.
– Что?
– Я просто предложил.
– И о чем же, по-твоему, мне написать?
Ты примирительно поднял руки вверх.
Ночью я проснулась. Ты тоже не спал. Я услышала в темноте тихий предательский звук – ты сглотнул.
Так мы и лежали.
Было часа четыре. За окном темень, в комнате густые тени; отгораживаясь от них, я закрыла глаза в надежде снова уснуть. Ты лежал на спине, лицом в потолок. Немного погодя опять сглотнул.
В былые времена это свидетельствовало о желании. Когда нам было по девятнадцать-двадцать и все только-только начиналось, мы сидели рядышком на диване и болтали, а когда темы для разговора иссякали, просто задумчиво смотрели перед собой. Мы могли просидеть так довольно долго, глядя то вверх, то в стороны, как будто и вправду изучали рисунок на шторе, пока ты, устав притворяться, не сглатывал, дернув кадыком. Почти незаметно, но громко. Я прекрасно понимала, что это означает. Что не успеешь опомниться, а мы оба уже без одежды; именно об этом ты и раздумывал, прикидывая, как бы к этому подвести. И я невольно сглатывала вслед за тобой.
Но в Брее, графство Уиклоу, было четыре часа ночи, а нам давно уже не по двадцать лет. Ты думал не о сексе, маясь без сна посреди ночи. И вовсе не мой образ волновал тебя в темноте.
Тебя волновало нечто другое.
Ты как-то сказал, что хорошо бы придумать отдельное слово для попытки продолжать спать, когда тебе позарез надо в туалет. Потребность вставать по ночам появилась у тебя не так давно, служа признаком наступления среднего возраста, если не чего похуже, и ты цеплялся за крепкий сон как за доказательство молодости. Даже проснувшись, ты не желал просыпаться. И верил, что если останешься лежать, то никогда не умрешь.
– Не спишь? – спросила я.
– О господи…
Ты с усилием поднялся и вылез из постели. Нетвердым шагом прошел мимо спальни нашего здоровенного сына-подростка, который спит без просыпу по десять часов, мимо пустующей в будни комнаты его сестры. Спустил воду и открыл кран. Зашумела вода в трубах и шумела до тех пор, пока ты не заполз обратно под одеяло, в тепло. Повернулся, чтобы я тебя чмокнула, и заснул. И все. А я лежала без сна и думала о том, во что мы превратили свою жизнь. О том, какой она была простой и непредсказуемой. И о том, что теперь возникало из темноты.
О моей книге.
* * *
На следующее утро я забронировала через интернет дешевый билет до Лондона, аэропорт Гатвик. Выбирая дату, я на миг задумалась. Двадцать третье апреля. Вылет в день рождения матери (если покойники могут отмечать дни рождения), а я лечу в Лондон. Потому что – как бы бестактно это ни звучало – именно там она родилась. Да. Кэтрин О’Делл – для всего мира самая что ни есть ирландская актриса – на деле родом из Великобритании.
Она появилась на свет в Лондоне и провела там детство. Забудьте о рыжих волосах, клетчатой шали и поэзии. Забудьте о песнях протеста:
О море, о море, grá geal mo chroí[1].
От Англии нас ты навек отделяй!
Пару недель спустя я смотрела из иллюминатора на рябую поверхность Ирландского моря, которую далеко внизу разрезала носом то одна, то другая малюсенькая лодка.
«Хвала небесам – вокруг воды»[2].
Где она родилась, не знал никто, и нипочем не узнал бы – это была тайна за семью печатями. Глядя сверху на голубую водную полосу, я недоумевала, чего ради она шла на такие ухищрения.
Разумеется, она никогда не раскрывала свой точный возраст, о котором оставалось лишь гадать. Если неизвестно, где человек родился, бесполезно искать свидетельство о рождении. Чего-чего, а напустить туману она умела, не зря же была актрисой.
Леди так и не выдала свой секрет, но сейчас его раскрою я. Смерть разбила часы, ход которых моя мать все время пыталась повернуть вспять. Так не хочется ее изобличать. Серьезно, сердце сжимается, словно я предаю ее, объявляя на весь мир, что она родилась в апреле 1928 года в лондонском пригороде Херн-Хилл. Крестили ее в поместной церкви святых Филиппа и Иакова и нарекли Кэтрин Энн Фицморис.
Позднее она возьмет для сценического псевдонима фамилию матери – Оделл, а в двадцать лет, в Америке, изменит имя на ирландский манер – О’Делл. Тогда же от тоски по старушке-родине у нее порыжеют волосы.
Мать моя была той еще притворщицей. Артистка, бунтарка, романтичная натура – кто угодно, но только не англичанка. Назвать ее так было бы страшным оскорблением. И, к сожалению, чистой правдой.
Самолет приземлился в Гатвике. На поезде я добралась до вокзала Виктория, где пересела на электричку до Херн-Хилла. Англия показалась мне приятным местом. Тук-тук, тук-тук – ровно стучали по рельсам колеса прекрасного английского общественного транспорта. Более чем приятным. Ухоженные дворики, аккуратные ряды домов, толпы людей, едущие из предместий на работу, все чистые, опрятные и вежливые. Если моя мать бежала от этого, то мне ее не понять.
Дом я нашла легко. Он стоял в пяти минутах ходьбы от станции, на Милквуд-роуд, застроенной скромными домиками из желтого кирпича. Сегодня улицу отделяют от железнодорожных путей склады промышленной компании имени Махатмы Ганди, но в 1928 году отсюда наверняка открывался вид на проходящие мимо поезда. Дом, где родилась Кэтрин Оделл, располагался на пересечении с Поплар-роуд. Я дошла до перекрестка и завернула за выступ стены. Никакого садика – ни перед домиком, ни на заднем дворе. Мать родилась в апреле. Всю жизнь она обожала магнолию, каждую весну с нетерпением ждала, когда на Дартмут-сквер наконец расцветут глицинии, но я так и не поняла, настоящая то была любовь или показная. Но и во время своего внезапного паломничества в Херн-Хилл, глядя на два задних окна с грязными тюлевыми шторами, я была вынуждена констатировать, что нисколько не приблизилась к разгадке.
Ее родители, странствующие актеры, переезжали с квартиры на квартиру. Этот дом они сняли в 1928 году, и, судя по виду, он и теперь сдавался. Я вернулась к фасаду, вдохнула поглубже, шагнула в проем в низкой ограде и постучала в дверь. Вернее, приложила к ней ладонь. Дерево было теплым, и от этого тепла меня будто стукнуло током.
Здесь она родилась.
Вечером двадцать третьего апреля ее отец, Ментон Фицморис, выступал на сцене «Дейли», театра на Лейстер-сквер. Днем его жену пару раз прихватило, но потом отпустило. По дороге на станцию Фиц сказал об этом соседке, но особых причин для беспокойства не видел. Соседка решила-таки проведать мою бабушку и застала ее стоящей на лестнице. Так мне всегда рассказывали: входная дверь нараспашку, внизу толпа ребятишек, а моя бабушка, пузом вперед, цепляется за прутья перил, издавая утробный звериный вой. Такой она мне и представляется – иллюстрация к жизни той эпохи. На ней ботинки на каблуках и шляпа (с нелепым пером) набекрень. На этой картинке юбки у нее в полном беспорядке и скрывают следы крови или отошедших вод, если они и были. Настырной головы моей матери тоже не видно, но сжатый конус ее черепа уже проталкивается через разверзающуюся плоть, пока моя бабушка топчется на ступеньках, пытаясь нащупать спиной хоть какую-нибудь опору, а соседские дети глазеют на нее, догадываясь о серьезности момента
Тем временем мой дед играет графа Беловара в прелестной пьесе «Леди с эглантериями». На нем гусарский мундир и рейтузы с высокой талией, он принимает позы и декламирует, а бабушка тужится и стонет. Бесспорно, Фиц был шикарным мужчиной, когда-то это придется признать, так почему не сейчас? Его жена нашарила ногой опору, но оступилась на нижней ступеньке, и из нее выскочила моя мать. Она появилась на свет на лестнице, спиной вперед. Бабушка запустила руки под юбку, и вот Кэтрин Энн – уже лицом кверху, дрыгая ручками-ножками, – летит прямо к соседке, стоящей наготове внизу. Вот она. Описывает в воздухе дугу. Шлепается в руки соседки. Та кричит: «О боже святый! Держись! Погоди, не тужься!» – но бабушка тужится, и на ступеньку падает плацента, обозначая окончательную принадлежность младенца к этому миру. Соседка поднимает ребенка выше, поворачивается и показывает его повивальной бабке, проталкивающейся сквозь толпу детишек:
– Смотри-ка, девочка!
«Дама с эглантериями» – это оперетта: костюмы в пастельных тонах, солдаты, похожие на оловянных солдатиков, женщины в летних платьях с кринолинами. По сюжету это оптимистичная версия библейской истории о Юдифи и Олоферне. После поцелуя с красавцем-захватчиком (которого играет мой дед) Юдифь не отрубает ему голову, а роняет кинжал, потому что влюбилась во врага. Он в нее тоже. Чем не прекрасный способ завершить войну? Не знаю, что они потом делают с кинжалом. Может, вешают над брачным ложем?
Критик из «Спектейтор», которому в постановке понравилось все, кроме моего деда – его он вообще не упоминает, – полагал, что «музыкальная комедия адресована среднему британцу и являет собой яркий пример буржуазного искусства». И хотя критик кажется слишком умным, а пьеса слишком глупой, в ее по-современному беспечной тональности есть нечто ободряющее. Разумеется, Юдифь никому не отрезает голову. На дворе 1928 год. Эти люди уже более или менее похожи на нас: они все знают про классовое общество и войны и способны хором спеть «Дама отвечает отказом» или «Думаю, мечтаю о тебе».
В том же году постановка отправилась в Нью-Йорк, где прошла под названием «Дама с цветами»; мой дед выступал во втором составе. Мать была слишком мала, чтобы запомнить эту первую поездку в Америку. Есть фотография, на которой она сидит в новехонькой американской коляске перед подъездом типичного нью-йоркского дома из бурого песчаника. Она насуплена, как и положено ребенку; на ней чепчик с кружевной розочкой сбоку.
В то время Нью-Йорк переживал последние лихорадочные дни экономического бума. Сухой закон еще не отменили, но спиртное в городе лилось рекой. Увиденное так потрясло бабушку, что она отказалась от звания актрисы и предпочла сидеть дома. Позже она вспоминала, что там было жутко холодно, но и по наступлении жары лучше не стало. Зато ее мужа Америка захватила и привела в восторг. Вроде бы ему собирались предложить роль в фильме, съемки которого проходили в Калифорнии, но что-то этому помешало. Спустя четыре месяца, в июле, когда пьесу сняли с репертуара, семья вернулась в Англию.
Вскоре после этого случился крах фондовой биржи. Этот факт мой дед проигнорировал и продолжал сожалеть о великолепной возможности, упущенной в Америке. В результате он превратился в актера-неудачника, у которого славу увели из-под носа. Моя мать, мало склонная вникать в разочарования своего отца, описывала его как поденщика: в любой пьесе он учил только свою роль. Ей-то удалось обрести известность на Бродвее, и она всегда глубоко погружалась в содержание пьесы, а не только в образ своей героини. Моя мать искала в искусстве защиты, и в этом отношении она была современнее своего отца, при этом унаследовав его красоту; обладатели «драматической внешности», они оба выделялись на общем фоне, просто появляясь на сцене.
Она явно умела привлечь к себе внимание.
Смотри-ка, девочка!
Возможно, из-за этого эпизода на лестнице в Херн-Хилл мать всегда боялась высоты. Ее страшил переход из темноты кулис под свет софитов. Будто летишь вниз, говорила она. В бездну забвения. Ей было десять лет, когда она дебютировала в лондонском театре «Роялтон» под именем Кэтрин Оделл. Играла крокус в хоре весенних цветов. Юбка с лепестками, чулки шафранного цвета и зеленая шапочка с прелестным стебельком на макушке, которой она страшно гордилась. Только костюм она и запомнила. Все остальное – сюжет, название, интрига – так и осталось тайной до конца ее дней. Она говорила, что среди персонажей был Поэт, во всяком случае, так его называли. И женщина с яркой помадой – Ночная бабочка, что насмешило мою мать дважды; первый раз тогда, а второй – десять лет спустя, когда она поняла, что прозвище не имеет никакого отношения к насекомым. Но роль крокуса так ее захватила, что она не видела и не слышала ничего вокруг себя. В самый ответственный момент, когда надо было произнести: «Придет весна, и твой утихнет звон» или еще какую-то глупость в этом духе, а затем упасть, словно от порыва ветра, у нее пропал дар речи. Она забыла, какие слова в итоге слетели с ее губ, зато помнила чувство невероятной реальности происходящего.
Я делала уроки за кухонным столом на Дартмут-сквер, а она рассказывала приукрашенные истории своей юности. Я старалась делать вид, что не слушаю. В пластиковом конверте у меня были аккуратно разложены разноцветные фломастеры, и я заполняла контурные карты Ирландии. Или рисовала водоемы: система озер, исчезающие озера, каровые озера. Надевая колпачки на фломастеры и раскладывая их по цветам, я чувствовала себя слегка оскорбленной, – к чему все это актерство? В этой комнате единственное подлинное создание – это я. Я-то здесь.
И всегда была здесь.
Ведь еще когда она только ворвалась в этот мир, внутри нее было крохотное яйцо – я. Это еще одна история, которую она рассказывала мне, пока я ярко-голубым цветом закрашивала реку Шаннон. Она рассказывала, что с момента ее рождения я хранилась внутри нее, словно крохотная матрешка в матрешке побольше.
Двадцать четыре года спустя, в бруклинском родильном доме после долгих и мучительных схваток, которые она мужественно перенесла, из нее достали меня. Дело было поздней ночью, и мать, накачанная каким-то препаратом, плохо соображала, но ясно помнила акушера, мужчину в костюме, который даже не расстегнул запонки на манжетах, прежде чем взяться за какую-то штуковину – «точь-в-точь вантуз» – и начать вытягивать меня из ее тела. Вытягивание оставило круглый рубец у меня на черепе. Я появилась на свет пришибленной, говорила она, и абсолютной инопланетянкой. А потом открыла глаза, словно готовая к следующему раунду, и она поняла, что все будет в порядке.
«В полном порядке».
Мне не надо было объяснять, что это значит.
«И жалость, как младенец обнаженный[3]», – продекламировала она, приняв соответствующую позу. Она стояла на кухне, закатив глаза, надув щеки и приложив к губам воображаемую трубу – вылитый херувим; на дне кастрюли варились, постукивая одно о другое, яйца.
Браво!
Моя мать умела прямо на глазах входить в роль и выходить из нее. Приподнимала плечо, поджимала губы, по-другому смотрела. И какую-то глубинную дочернюю часть меня захлестывала несказанная радость.
Еще, мам! Покажи еще раз!
Летними вечерами мы брали плед, плетеную корзину и шли в наш маленький парк. «Пойдем в сквер», – говорила она. Обогнув ограду, мы заходили в ворота и валялись на траве. Местные жители гордились парком, но не часто им пользовались, возможно, потому, что все там было слишком на виду. Но Кэтрин это не волновало. Ей нравилось быть женщиной из парка с клетчатым пледом «Фоксфорд», корзинкой для пикника и чудесной дочкой, наливающей своим куклам невидимый чай. Ее постоянное стремление все превращать в спектакль меня смущало, как и безликие фасады зданий, для которых мы устраивали представление. Ей было ни к чему притворяться моей матерью. Она и была моя мать. Во всем этом чувствовался перебор.
Гораздо больше мне нравилась наша зимняя штаб-квартира в кухонном подвале, где нам никто не мешал. Возле огромной старой печи стояло большое кресло, над ним – полка со старыми газетами и забытыми безделушками, среди которых были фарфоровая собачка и снежный шар с Нью-Йорком, покрытый кухонной копотью. Пол был выложен черной и красной плиткой. Красные квадраты, чуть более пористые, истерлись больше черных, из-за чего венские стулья вечно шатались. Я любила забираться на эти стулья: вставать, вновь садиться, устраиваться поудобнее.
Вторая половина подвала принадлежала Китти, и оттуда постоянно слышалось шарканье ее кожаных тапок. Китти передвигалась медленно, но почти никогда не останавливалась. В ее комнате всегда царил полумрак и там противно воняло – подозреваю, она держала под кроватью ночной горшок.
Когда наступали настоящие холода, кухня становилась единственным во всем доме теплым местом, поэтому Китти занималась сортировкой запасов и нас не дергала; мать сидела с книгой или болтала и курила одну сигарету за другой; на самой прохладной части огромной плиты у нее стоял бокал вина. Кажется, она сидела со спущенными колготками. Звучит ужасно, но думаю, что она иногда так отдыхала: «колготочки», как она ласково их называла, собирались вокруг ее щиколоток облачками поблескивающего бежевого тумана. По какой-то причине она не снимала колготки полностью. Возможно потому, что истинные леди никогда не сидят с босыми ногами.
В основном она читала дорогие издания в твердом переплете: мемуары, биографии, иногда что-то смешное. Мне нравились книги с картинками: серия газетных комиксов Джона Шеридана «Шляпа улетела», «Яйцо и я» Бетти Макдональд. Или «Хоть убей» – про что там было, я уже не помню (хоть убей). Еще она любила нон-фикшн с заголовками типа «Самые коварные женщины мира». Елизавета Батори, Екатерина Великая, Лиззи Борден с топором… Ее привлекали истории злодеек, особенно ирландок. В книге «Изумруд с изъяном» были главы, посвященные проститутке-убийце Доркас Келли, известной подпольной акушерке Мейми Кадден и парочке разорительниц могил – Хиггинс и Флэннаган.
Много лет спустя я задумалась, чем ее так манили эти кровавые истории.
Больше других ее завораживал образ Доркас Келли, дублинской содержательницы притона, которую в 1761 году приговорили к смерти за убийство пяти клиентов. Казнь устроили на Бэггот-стрит, на соседней с нами улице. Когда мы там проходили, мать иногда говорила: «А ты знаешь, что здесь сожгли женщину? Прямо тут, где сейчас светофоры». В день казни проститутки Дублина устроили бунт на Медной аллее. Может, сказала мать, они считали, что ей следовало убить еще пятерых.
Кэтрин читала постоянно. Ей нравились биографии диктаторов, и она довольно долго была одержима Сталиным. Но ее интересовали не ГУЛАГ и не Ялтинская конференция, а самоубийство его жены, его пристрастие к сладким грузинским винам и его манера заставлять своих министров после ужина по-собачьи лаять на мелодию вальса «На прекрасном голубом Дунае». Она цитировала слова его дочери Светланы: «Стрелец на стыке с Козерогом».
Утром я собирала школьный рюкзак: нужные тетради, учебники, маркеры – вызывающе яркие на бумажной странице, они изумительно смотрелись в прозрачной пластиковой упаковке. Уходя спать и оставляя ее в одиночестве допивать вино, я волновалась, как бы она не споткнулась в своих спущенных колготках и не упала.
Сталин на стыке. И сорок миллионов жертв.
Это всего один пример того, что бесило меня в матери. Подобные вещи просто так из памяти не вычеркнешь, особенно если ты упертая Дева.
Она верила, что серийного убийцу можно распознать по маленьким ушам и что желтый – это цвет безумия. «Возьми хоть Ван Гога!» (Я переживала из-за того, что мои уши начисто лишены мочек; это тревожило меня не на шутку. Я оттягивала их перед зеркалом, чтобы вырасти приличным человеком.) Я была Дева до мозга костей, но мать утешалась моей календарной близостью к Весам, что означало наличие скрытых творческих способностей. При всем моем занудстве, в чем любила упрекать меня мать, когда ей приходилось пить в одиночестве, я оставалась ее опорой, ее ангелом и величайшим сокровищем.
Я и в самом деле была основательным ребенком. Мне нравились факты, карты, арифметика и естественные науки. Возможно, в этом еще одна причина моего внезапного паломничества в Херн-Хилл. Реальность всегда вселяла в меня чувство спокойствия. Я с огромным удовлетворением прикасалась к двери, за которой она родилась, ощущая кончиками пальцев плотную текстуру древесины, ее материальность, ее температуру, ее темно-зеленую краску, облупившуюся под натиском лет и непогоды.
Так. Именно так.
День выдался хмурый и теплый. Между эркером и низкой оградой втиснулся мусорный бак, от которого сладко попахивало гнилью. На Милквуд-роуд вынырнул из промышленной зоны белый фургон, и я проводила его взглядом.
Вновь повернувшись к двери, я постучала. Мне ответила тишина, и я поняла, что дом пустует и, видимо, уже давно. Это не то, чего ждешь от двери в волшебную страну. За этой дверью не было ничего, кроме заполненного воздухом пространства, в котором она появилась на свет, – в узком коридоре, прочерченном перилами лестницы.
Раз в году солнце нагревало древесину под тем же углом, что в день ее рождения. И хотя меня мало волновало, в каком именно порядке выстроились тогда планеты, стоя там, я почувствовала грандиозность того, с какой точностью Земля совершает свой неспешный оборот.
Мне было пятьдесят восемь. Через пару месяцев исполнится пятьдесят девять, что на год больше, чем она прожила на этой земле. Я продолжу вращаться вместе с ней в неизведанном космосе. Я стану старше собственной матери.
Мимо прошла ватага школьников: серые форменные брюки, незаправленные рубашки, сбитые набок галстуки. Они в шутку пихались, вырывая друг у друга телефон с каким-то сообщением. Возились, гонялись друг за другом, кидались рюкзаками, тянули друг друга за пиджаки.
«Ну, ты и придурок, Филипс. Больной на всю голову».
Она прожила в Херн-Хилл семь месяцев, затем ненадолго перебралась в Нью-Йорк, после чего вернулась в Лондон, но уже на другие улицы, в невыразительные домишки и квартиры Хаммерсмита, Хэкни, Ноттинг-Хилла. Росла она, по собственным рассказам, дикаркой; мать в ней души не чаяла, отец ее обожал – болтушка, неряха, одежды не напасешься. Но она была хорошим ребенком, утверждала она. Настаивала на этом. Она была очень хорошим ребенком!
Меня смущало, каким тоном она это произносила, потому что я тоже была хорошим ребенком и не понимала, что тут плохого. Я не понимала, почему она огорчается, как будто жизнь сыграла с ней злую шутку.
Я слушала ее со своего места за кухонным столом или смотрела, как она выходит во внутренний двор, чтобы насладиться невероятным закатом, какими нас баловал Дублин в те пасмурные дни; возвращаясь, она рассказывала истории из своего детства, от которых мое собственное расцвечивалось новыми красками. О собаке, которая чуть ее не укусила (в итоге все обошлось). О белой мышке (или крысе?), обнаруженной в малиновых леденцах. О девчонке-вредине из школы (знать бы, где она теперь). Об эксгибиционисте. О том, как на сообщение о нем отреагировала ее мать («Ничего страшного, переживешь»). Истории о чудесном спасении, об опасностях, которых она избежала, о поверженных чудищах. Если на то пошло, очень мало историй о том, какой она была хорошей.
В три года она украла у мальчика по соседству самодельный карт: маленькое белое сиденье и вожжи, позволяющие поворачивать колеса в разные стороны. Машинка стояла так сиротливо, будто только и ждала, когда на ней прокатится какой-нибудь приятный человек.
И она прокатилась. Крутила педали и отталкивалась пухлыми ножками, пока хорошенько не разогналась. Потом она кое-как смогла развернуть карт и уже собиралась вернуться назад, когда поняла, что понятия не имеет, где ее дом. Улицы казались похожими одна на другую.
«Ты потерялась, малышка?»
С ней заговорил мужчина – великан сорока футов ростом, со зловещим взглядом исподлобья. В руке он держал большой черный зонт и тыкал его рукояткой, пока не подцепил рулевую веревку и не потащил карт за собой. Девочке пришлось задрать ноги вверх и вперед (для иллюстрации рассказа часто использовался кухонный стул) и повиснуть на краях кузова, а мужчина как ни в чем не бывало тянул ее прочь. Она подняла лицо к небу, взглянула в равнодушные небеса и завыла.
Откуда ни возьмись рядом возникли две женщины. Одна накинулась на мужчину: «Отстань от ребенка!» – а вторая выдернула из-под нее карт: «А ну вылазь, да поживей!» Это были ее мать и мать мальчика. Зловещий спаситель страшно оскорбился, отцепил зонтик и зашагал дальше по улице. Владелец карта, мелкий гаденыш, отвесил ей пинка тяжеленным башмаком, подбитым стальными пластинами. Мать схватила ее под руку и потащила домой, приговаривая: «Никогда не разговаривай с незнакомцами, слышишь? Никогда!» Я так и не могла понять, о ком та история – о плохом мужчине или о плохой маленькой девочке. Уж не знаю, сколько раз я ее выслушала, прежде чем до меня дошло.
– Они не так говорили.
Она уставилась на меня. К этому времени для меня, уже подростка, должно быть, наступил период сомнений.
– Не с ирландским акцентом.
Она на миг задумалась. В глазах что-то мелькнуло, возможно, гнев. И изумление, как бывает с людьми, которых подводит память.
– Боже, а ведь верно.
Они говорили с лондонским акцентом. Она переписала свое детство и потеряла черновик.
Ее фальшивый ирландский акцент превратился в символ, а постепенно стал звучать почти обыденно. Мне трудно вспомнить, как именно она говорила, в смысле, к какой социальной группе и к какой точке на карте принадлежала. Даже дома – особенно дома – ее голос поражал роскошью. Как изысканное лакомство.
Когда я выросла, она, как мне кажется, говорила со стандартным для южного Дублина акцентом – как дикторы и врачи, – порой не брезгуя крепким словцом. Я помню, что, застигнутая врасплох (если падал стул или убегало молоко), она восклицала: «Твою ж!..» с явной примесью лондонского кокни.
Так что я в какой-то степени собралась вернуть это ее английское детство, которое она то ли потеряла, то ли отвергла. Я шла по обычной улице в Херн-Хилл и впитывала в себя все: красный почтовый ящик, поджидающий почтальона и его красный фургон, круглые янтарные фонари, пешеходную зебру и угловой магазин сладостей под вывеской «Мороженое Уолл». Все это она выбросила и меблировала свое детство заново: небольшой ирландский городок, полыхающее закатное небо, лоскут ткани, чтобы запеленать малую, и возглас соседки с крупными, шершавыми от вечной стирки руками: «Боже святый, Боже святый» (как иначе?) – и вот моя мать вваливается в этот мир. Вдыхает его воздух.
«Сцена сама выбрала меня».
Так она заработала свои первые аплодисменты.
* * *
Ее отец, Ментон Фицморис, родился в 1899 году. Он был сыном ирландского капитана Британской армии, служившего в городке Фермой, графство Корк, и местной жительницы по фамилии О’Брайен. Возможно, они не были женаты; впрочем, если это обстоятельство и имело значение, то недолго – капитан Джон Фицморис погиб во Второй англо-бурской войне, когда его сыну было два года.
Должно быть, что-то ему передалось от отца-военного. После учебы в небольших частных школах в Ирландии и Англии мальчик всю свою жизнь продолжал играть в солдатики.
В Ирландии он чувствовал себя аристократом, а вот в Англии ему было неуютно. Мой дед не вышел ростом, но в военной форме казался выше. Он мог с моноклем в глазу вести светские беседы со сливками общества, но в случае надобности мог и сыграть ирландца, особенно когда бывал в Лондоне. Ходил вихляющей походкой. Засовывал пальцы за лацканы жилета, выставлял локти и насвистывал: «Оп-ля-ля».
Фиц, как и многие актеры, был полукровкой, но сохранил материнскую веру и никогда от нее не отступал. Мой дед был католиком и относился к этому невероятно серьезно. Куда бы его ни занесло, в какой угодно город – Лондон, Нью-Йорк или Каслбар, – в воскресенье он непременно шел в церковь. Свою религиозность он лелеял, как сирота тайно лелеет свое дворянское происхождение.
Эта искренняя набожность играла всем на руку, когда Фиц колесил по Ирландии с передвижным театром, чем он занимался и на протяжении обеих мировых войн. Театральные труппы везли в глубинку Шекспира и мелодрамы, заставляя сердца простых ирландцев трепетать и преисполняться восторгом. Приехав в очередной город – впереди ведущие актеры в «королевской машине», за ними остальные в бибикающем грузовике, – они спешно собирали мало-мальски пригодный реквизит и мчались ставить декорации к вечернему спектаклю. Они играли по две пьесы в день и никогда не повторялись. «Отелло», «Трильби»[4], «Эдип»: ревность, инцест, кровь и страсть. Местное духовенство не жаловало бродячих артистов, тогда как они в основном рассчитывали на школы и приходские залы, а потому, едва разместившись, отправляли Фица на церковную службу. Снаряжали на молитву.
И он молился, комар носу не подточит. Тихо входил и со смиренным достоинством преклонял колени. На него, скромного на вид, в хорошо пошитом пальто, никто не обращал – или делал вид, что не обращает – внимания, ровно до той минуты, когда прихожане начинали петь. Тут уж он брал свое.
«Ве-е-ера на-ших отцо-о-ов, ве-ра свята-а-ая!» Редкой чистоты голос Фица был способен смутить и воодушевить каждого присутствующего, подпевающего невпопад. Послушав его, женщины лезли за шестипенсовиком, припрятанным на дне корзинки с вязанием, а то и за заветным шиллингом, дремавшим где-нибудь на комоде, чтобы купить билет на вечернее представление.
Его жена, Маргарет Оделл, была ему под стать – невысокая и хорошенькая, хотя ее красота казалась менее убедительной. По рассказам моей матери, она отличалась кротким нравом и говорила негромко, с едва заметным йоркширским акцентом. Я совсем ее не помню, хотя какое-то время она жила с нами, и впоследствии я часто спрашивала, какой она была. Моя мать отвечала: «Чудной», а на мою просьбу уточнить, чем конкретно, добавляла: «Просто чудной. Сама понимаешь».
На одной фотографии она держит меня, грудную, на руках. На ней блузка в мелкий темно-фиолетовый цветочек на темно-зеленом фоне; я вся в кудряшках и улыбаюсь патентованной улыбкой моей матери, говорящей: «Заберите меня отсюда».
Если не считать характерной для нее манеры наклонять, глядя в объектив, голову – примерно вот так, – я в принципе понятия не имею, каким человеком была моя бабушка. По какой-то причине память о ней у меня не сохранилась.
– Она была доброй?
– Разумеется.
Но как проявлялась ее доброта? Может, она кормила ее пирожными?
– Она любила шутить?
– Еще бы, – отвечала моя мать, обладавшая таким ядовитым чувством юмора, что лучше бы его и вовсе не было. – Она бывала весьма…
– Неприятной?
– Нет, что ты.
– Забавной?
– О да. Она умела… – Она слегка пожимала плечами – неопределенным беспечно-скорбным движением, означавшим «ну, в любом случае…» Судя по этой жестикуляции, моя бабушка походила на доброго по натуре и немного печального ребенка. Но я так и не разобралась, то ли это относилось к внешнему стилю ее поведения, то ли отражало суть ее характера. Вертящийся в руках зонтик от солнца, легкая походка. Томный вздох.
«Ну что ты, дурачок, нет».
Она играла доярок и брошенных возлюбленных. Критик писал, что ее Офелия «выглядит так, будто забыла снять ужин с плиты». На карточке из фотоателье, которую я обнаружила в сети, она стоит в кимоно и шляпе с кисточками, похожей на абажур из шанхайского борделя; губы застыли в нежной улыбке, обнажающей мелкие зубы.
Так и чудится, что в широком рукаве у нее спрятан нож и она просто старается делать вид, что все прекрасно. И в реальной жизни она, конечно, поддерживала эту видимость. Позже она в усыпанных блестками туфлях с загнутыми вверх носами пела в мюзиклах Гилберта и Салливана – пышногрудая женщина, одетая мальчиком-китайцем. Я бы должна была помнить ее молочно-белую грудь в низком декольте. Она умерла, когда мне было пять.
И все же я спрашивала: «Какой она была?» Какой она была, ныла и ныла я. Какой она была?
– Чудной, – с печалью в голосе отвечала мать. И не факт, что мне удастся доказать обратное.
Правда, никаких пирожных я не помню.
Зато помню деда. Помню, как забиралась к нему на колени и через две минуты, ерзая, сползала на пол; помню, что он меня обожал. Я понимала это по тому, как дрожала у него рука, когда он лез в кармашек для часов за монеткой или вставал на четвереньки и бодал меня своей стариковской головой. Есть маленькая акварель Тисдалла, который приятельствовал с моей матерью. Несколько лет назад она появилась на выставке в Дублине, в Национальной галерее на Меррион-сквер. Непринужденный изящный набросок: мой дед сидит с закрытыми глазами на солнце, а я использую его как кресло – превосходное место для чтения.
Я по-прежнему натыкаюсь на него в телевизоре – днем в воскресенье или, если ночую в гостинице, поздно ночью, когда щелкаю пультом, чтобы убежать от «магазинов на диване». Ошалевшая от смены часовых поясов или от усталости, я нахожу британский фильм 1950-х и жду, что на экране вот-вот появится Фиц – обычно в военной форме. Он играет грубовато-добродушного старика-генерала или полковника Королевских военно-воздушных сил, дымящего трубкой и вычеркивающего на грифельной доске подбитые противником самолеты. Трус и лжец, он принимает неверное решение и с довольным видом исчезает из кадра. Возможно, во всем был виноват его рот. Фиц говорил как обманщик, и создавалось впечатление, что этого требует роль, но он точно так же говорит во всех своих фильмах.
Даже тогда, в расцвете лет, он преподносил миру свою красоту, словно непрошеный дар, но все никак не решался с ним расстаться.
Некоторые актеры из тех фильмов по-настоящему сражались за Британию. Но не Фиц. Сентябрьский день 1939 года, когда объявили о начале войны, застал его в Туаме, на сцене. К концу октября мебель из их лондонского дома отправилась на склад, а жена и дочь перебрались к нему, в мирную Ирландию. Кэтрин записали в ирландскую школу в аббатстве Кайлмор, в графстве Голуэй, где она и провела следующие пять лет.
Образование Кэтрин получила, мягко говоря, беспорядочное. Череда начальных школ в Хаммерсмите и Ноттинг-Хилле. Один год она училась в школе святой Терезы – католическом пансионе в Суррее, еще какое-то время посещала театральную школу Де-Леон в Гринвиче. А в одиннадцать лет ее вдруг привезли в замок у озера, на западной окраине Ирландии. Школа в Кайлморе словно сошла с коробки печенья. С горы позади школы открывался вид на дикие просторы Коннемары, раскинувшиеся под бескрайним, овеваемом всеми ветрами ирландским небом. Укрытый стенами монастыря, внизу зеленел оазис; здесь, между зарослями папоротников и душистых трав, по расчерченным на квадраты аллеям муравьями ползали, бормоча молитвы, монахини. В этой суровой школе дочь бродячих актеров, юная Кэтрин Энн, обрела тихую гавань, и к шестнадцати годам стала любимицей монашек.
Каждое лето она ездила с театром на гастроли.
В одной из наиболее часто повторяющихся историй она приезжала в безымянный городишко в ирландской глубинке, где ее никто даже не встретил. Куда идти, она понятия не имела. Ей было тогда двенадцать лет. Именно в этом образе я неизменно представляю себе ее в детстве: девочка на перроне с коричневым чемоданом, как у детей-беженцев, из которого впоследствии, если верить кино, появятся бесчисленные цветастые платьица, кардиганы, плащи, соломенные шляпки и галоши. Она держит чемодан обеими руками, а вагоны постепенно пустеют. Выходят женщина с кудахчущей курицей под мышкой, старик с белой глиняной трубкой в зубах, влюбленная пара… И вот – никого.
По лязгающим железным ступенькам девочка поднимается на пешеходный мост, останавливается и окидывает взглядом округу. С одной стороны железнодорожных путей раскинулось лоскутное одеяло небольших полей, окаймляемое рекой, дальше, за мерцанием воды, простираются бескрайние топи. Земля скудна, но выглядит щедрой: на фоне шоколадных пашен золотится дрок, расползается по невысоким холмам бурый, отсвечивающий пурпуром терновник.
По другую сторону моста виднеются крыши ирландского провинциального городка: солома, гофрированное железо и черный шифер, под дождем превращающийся в синий. Она поворачивает к крышам и спускается по металлическим ступенькам. Проходит сквозь вокзальную арку и замирает, провожая взглядом запряженную лошадью громыхающую повозку. Никто ее так и не встретил. В канаве копошится пес. Слышится пыхтение мотора, ее обгоняет фургон бакалейщика. И вновь тишина.
Девочка озирается и замечает на вокзальной стене афишу. Она подходит поближе, поднимает честное юное личико и читает:
Только сегодня
Величайший ирландский актер
Энью Макмастер
в роли Отелло
со своей великолепной труппой:
Ментон Фицморис в роли Яго
очаровательная Плезанс Макмастер
Лилиан Маквей и другие.
Обещаем незабываемое зрелище.
В зале Содружества
в 8 вечера
Соль истории не в том, что она потерялась в Ирландии, а в том, что в Ирландии потеряться невозможно. Потому что вот они, ее родители, на первой попавшейся стене. Их всегда было легко найти.
Энью Макмастер, труппу которого представляла афиша, был английским актером и администратором в классическом понимании этого слова. Он верил в магию темных бархатных штор, расшитых стеклярусом. Музыка, трепет, поэзия, слезы. Мак отдавался этому целиком, или почти целиком (актеров, которым приходилось мучительно зубрить роль, он не жаловал), и собирал вокруг себя сильных партнеров, особенно ценя тех, кто был заметно ниже его. Сам Мак был внушительного роста.
Фиц ростом как раз не вышел, так что они идеально подошли друг другу. Показав себя умелым актером и приятным компаньоном, он на много сезонов стал второй скрипкой в труппе и закадычным другом Мака. Мой дед относился к числу артистов, влюбленных в дорогу, поскольку и в жизни предпочитал плыть по воле волн. Его глаза, глядевшие мягко, но чуть насмешливо, одни называли «водянистыми», другие «прозрачными», а кто-то и вовсе удостоил их эпитета «молящие». Порой он вел себя глуповато. Сатирическая колонка некого Ликурга, опубликованная в «Даблин Опинион» в 1945 году, сообщает, что «Фицборис» настолько бахвалится собственной внешностью, что «постоянно лезет к самому краю рампы», что в Бойле, графство Роскоммон, обернулось катастрофой: он «по-крабьи пробирался вперед, пока не свалился в оркестровую яму».
В той же заметке набросан портрет Макмастера (выведенного под именем «Макнамары») в расцвете сил.
Макнамара играет Мавра: черное лоснящееся лицо, обнаженный торс, мощное предплечье, украшенное золотым браслетом, стареющие чресла, стянутые поясом из позолоченной жести, в ухе – серьга, глаза мечут яростные молнии. Когда он швыряет юную Дездемону на пол с грозным: «Молилась ли ты на ночь?», от его руки у бедняжки на белой коже остается черная отметина, похожая на кровоподтек. Какой-то впечатлительный болван пытается прорваться на сцену, но взбудораженная толпа его оттаскивает; возле рампы шумят горлопаны, в задних рядах дрожат от избытка чувств матроны и старые девы. «Позор!» – кричит кто-то, и этот крик эхом подхватывают остальные: «Позор, позор!» Вдруг наступает тишина. Ее разрывает одинокий вопль, когда тело бедняжки обмякает под подушкой, которой изверг зажимает ее несчастное милое личико. «Помилуй нас, Боже и пресвятая Богородица».
В ролях Отелло, Шейлока и Свенгали партнершей Макмастера – Дездемоной, Порцией и Трильби – была родная дочь. Не выдающаяся актриса, Плезанс вполне годилась на эти роли: светлокожая блондинка с красиво очерченными скулами, она принадлежала к числу тех девушек, которые на первый взгляд кажутся заурядными, а в следующее мгновение ослепляют красотой. Мак называл ее своей «маленькой саксонкой». Она нравилась ему с распущенными волосами, в зеленом средневековом наряде, когда играла с гирляндой из цветов или натягивала лук. На самом деле она была славной девушкой. В лучшей своей ипостаси – добрая и обидчивая, в худшей – плаксивая и бесхарактерная.
Моя мать очень любила Плезанс, которая была на год старше ее и очень тепло к ней относилась. Иногда девушки жили вместе в доме, который Мак снимал в пригороде Дублина, на полуострове Хоут-Хед, и более чем вероятно, что в той пресловутой сцене на вокзале ее сопровождала Плезанс. Удивительно, что они вообще приехали в нужный город. В 1940 году, к примеру, труппа давала представления в Баллине, Слайго, Туаме, Баллишанноне, Дандолке, Маллингаре, Атлоне, Клонмеле, Клохджордане, Лимерике, Бандоне, Шарлевиле, в оперном театре Корка и Королевском театре в Уотерфорде и Дублине. Они играли три шекспировские пьесы («Гамлета», «Отелло» и «Венецианского купца») и три мелодрамы («Маленького лорда Фаунтлероя», «Ракитовую аллею» и «Трильби»).
Пьесу «Трильби», действие которой происходит в Париже, поставили вскоре после того, как этот город заняли нацисты, что звучало актуально, но не в лучшем смысле. В веселом сюжете, возможно, нашел отражение некоторый хитрый ход Ирландии, объявившей о своем нейтралитете. Мак играл Свенгали. Накладная борода, фальшивый горбатый нос, сверкающие глаза – персонаж вышел еще более антисемитским, чем его же Шейлок. Конечно, в то время никто не знал, кто победит в чертовой войне. Не исключено, что артисты прикидывали разные варианты, в любой момент готовые переметнуться на другую сторону.
Тем не менее, пока шла война, в Ирландии жилось совсем не плохо. В деревне можно было купить свежие продукты, хотя из-за дефицита бензина Маку с женой пришлось отказаться от королевского автомобиля и вместе с актрисами передвигаться в кузове грузовика. Доски, с которыми было неимоверно трудно, доставали через городского гробовщика и по окончании гастролей продавали ему же (как это поэтично, говорил Фиц, быть закопанным в столь живописном гробу). Нормальное жалованье не платили, все жили на паях. Фиц с женой, Маргарет Оделл, получали меньше четырех фунтов в неделю каждый, и считалось большой удачей, если их дочери перепадало два фунта.
Она продавала билеты, помогала с реквизитом и даже выходила на сцену: играла служанок, гонцов, разнообразных мальчишек. Кэтрин Оделл приносила пользу – другого выбора у нее не было. Актеру нужен реквизит – она приносит реквизит. Нужно подать реплику – она подает реплику. В «Царе Эдипе» она в роли его дочери, с несчастным видом шаркая ногами, шла смотреть, как отец, которого играл Мак, шатается и утирает кровь из пронзенного глаза. Она рано научилась искусству «остолбенело таращиться», потому что ничего иного от актеров-детей или служанок на сцене не требовалось: знай себе роняй поднос.
Давай. Как будто видишь что-то ужасное.
– Не ДЕРГАЙ ЛИЦОМ! – приказывал Мак. – Роняй поднос.
– Но у меня нет никакого подноса, мистер Макмастер.
– Вот именно, дорогуша. О чем я и толкую.
Иногда посреди представления Мак выходил из роли и поправлял покосившиеся декорации или в конце длинной сцены («Только в провинции, милочка») отвешивал поклон, позволяя публике выразить свое восхищение. Он любил оголять торс, демонстрируя пульсацию диафрагмы, заключенной в массивную грудную клетку и работающей во всю мощь легких. Мак считал, что ирландцы особенно чувствительны к устному слову и не столько произносил каждую реплику, сколько вибрировал вместе с ней, переходя на выдохе с баса-профундо на баритон. Он прекрасно владел этой техникой и умел использовать ее в быстром темпе. Выдавались недели, когда у Мака ничего не получалось, и он сам недоумевал, что идет не так, но потом наступал триумфальный вечер, когда вся труппа толпилась в кулисах, чтобы посмотреть на его блистательную игру. Фица, выходившего на сцену с ним вместе, он «изумлял», актеров «поражал», публику «покорял». По рассказам моей матери, происходило взаимопроникновение актера и персонажа. И оба сгорали дотла.
– Это было незабываемо.
Вздохнув, она добавляла:
– Теперь так давно не играют.
Эти летние каникулы были самым счастливым временем в жизни Кэтрин. Она никогда не уставала о нем говорить. Прелесть новых дорог, переезд с одной убогой квартирки на другую. Выйдешь ночью по нужде и увидишь быка, привязанного к кольцу в стене. В графстве Голуэй они спали втроем в одной большой кровати, с одной стороны от нее – мать, с другой – Лилиан Маквей, все в длинных хлопковых ночных сорочках. Потом она узнала, что когда-то Лилиан потеряла новорожденную дочь – выживи та, была бы ее ровесницей. Именно это она и чувствовала, просыпаясь наутро в теплой постели, – утраченную недостижимую любовь.
Маку нравились зрители в провинции, потому что они понятия не имели, чем заканчивается пьеса («Тряхни-ка ее хорошенько!» – крикнула одна женщина в Баллишанноне, когда Ромео нашел в гробнице бездыханное тело Джульетты). Но моей матери и в голову не приходило потешаться над простодушием публики где-нибудь в Сент-Джонс-холле в Трали или в ангаре лодочной станции в Каппокуине – она самозабвенно верила в благородство зрителя. С годами она начала даже завидовать им, потому что они видели эти великие произведения впервые. Ирландская публика похожа на море, говорила она, ее внимание засасывает тебя, как водоворотом. Эти люди принимают все.
Они уезжали из Слайго и уже сидели в кабине грузовика, когда им передали записку. Посланец вынырнул из-за стены ливня с листком бумаги в руках. Записку прислала приютившая их хозяйка. Развернув ее, мать Кэтрин прочитала: «Погода ужасная. Ради бога, берегите себя». Вот что значило играть в ирландской глубинке.
Кэтрин было всего тринадцать, когда дочь Мака Плезанс однажды заболела скарлатиной, и Кэтрин пришлось за три часа выучить роль Трильби О’Ферралл, ирландской гризетки, натурщицы, которая под гипнозом Свенгали превращается в великую певицу (хотя, пробудившись от транса, она не в состоянии спеть ни ноты).
Выучить текст было нетрудно – она много раз видела пьесу. Так же легко было изобразить транс, но играть очнувшуюся Трильби оказалось непросто. Матери никак не давалась бесхитростная сердечность, заложенная в характере героини.
– Просто упри руки в боки и немного покрути задом, – посоветовал Мак.
Помог костюм. Она нарисовала себе брови, наложила на веки голубые тени, собрала волосы в два пучка, нарумянила щеки и похлопала по ним пальцами. Посмотрела на себя в зеркало и совсем пала духом. Играть простушек – не для нее.
И вот час настал. Кэтрин тряслась за кулисами, зал понемногу заполнялся зрителями. В занавесе была специально проделана дырочка, малая прореха в темном полотнище, позволяющая взглянуть на публику, но Кэтрин и не подумала приподняться на цыпочки, чтобы узнать, много ли народу. И без того было ясно, что много – по сгустившейся духоте, по тому, как глохли звуки. Пахло телами, привыкшими к крестьянскому труду. То тут, то там кто-то покашливал, шуршали бумажные пакеты, в которых люди передавали друг другу леденцы. И как минимум одна любительница комментировать происходящее на сцене сообщала своей соседке:
– Сейчас ей достанется!
В зале всегда находится такой зритель.
И в первом ряду всегда сидит какой-нибудь странный тип, потому что странным типам нравится сидеть поближе, где лучше видно. Собственно, почему бы и нет? Таких называют «помоги нам, боже», но вреда от них никакого. Просто надо привыкнуть к тому, что на сцене тебе ничего не грозит. Публика тебя не тронет, никогда в жизни. Зрителям нравится сидеть в темноте, позабыв, кто они такие. Все дело в интриге: они не столько смотрят, сколько ждут, что будет дальше. Именно это имел в виду Мак, говоря, что «главное – это пьеса». От провала убережет представляемая история.
Что случилось после спектакля?
Много чего.
Хотя на самом деле ничего. Какой-то мужчина помахал ей шляпой, а какая-то восхищенная женщина от избытка чувств пожала ей руку. Еще кто-то узнал ее на улице.
Она стояла за кулисами в городской ратуше Баллинасло и чувствовала всех этих людей, рассевшихся на обшарпанных стульях: в третьем ряду пьяный, в глубине зала священник, вот молодая влюбленная девица, вот старик, вспоминающий о любви, а вот мать, во власти внезапно пробудившихся сожалений забывшая о своих детях.
Пьеса, если смотреть со стороны, вроде бы не имела с ней ничего общего. Она смотрела ее, как смотришь на приближающийся поезд, гадая, остановится ли он на дальнем перроне, пока вдруг не поймешь, что он мчится прямо на тебя. От него никуда не деться. Придется в него вскочить – столкновение запрограммировано и неизбежно. Пьеса оживала. Ее ткали из воздуха, но по железным законам. Это было чудо. И когда оно свершалось, она тоже становилась Чудом и Дорогушей.
Ведь даже если она забывала реплику, стоило открыть рот, и та сама слетала с губ. Словно у нее в мозгу возникала, открываясь и закрываясь в нужное время, некая брешь, заполняемая произносимыми ею словами. И каждый раз выяснялось, что следовало произнести именно эти слова. В будущем все должно было происходить, как было отрепетировано в прошлом, только лучше. По-настоящему.
Но пока собственные руки казались ей несоразмерно большими, и она не знала, держать их перед собой или оставить висеть вдоль бедер. Она то подбирала подол юбки, то вновь отпускала, остро ощущая в тесноте кулис границы своего тела – кончик носа, выступающие губы. Они пересохли, пришлось их облизать. Она чувствовала в зале, всего в нескольких шагах от себя, пока невидимое темное предвкушение. Услышала сигнальную реплику, подхватила юбки.
И вышла на сцену.
Она не понимала, как это получилось. Как она переставляла ноги, одну за другой, как повернулась и заговорила, что сказала и что ответили другие актеры. Дело могло обернуться чем угодно. Но обернулось успехом. Каким-никаким, но успехом. Она не помнила, что делала, но, судя по всему, играла превосходно. Это и правда было чудо.
После этого ее подруга Плезанс попыталась окончательно передать эту роль Кэтрин. Плезанс было четырнадцать, и она была сыта по горло неловкими сценами с отцом. Но Мак отказался менять свою Трильби на другую и терять трогательную белокурую Дездемону. Вместо этого он попробовал Кэтрин в роли Порции и научил ее декламировать шекспировские строки.
Не действует по принужденью милость;
Как теплый дождь, она спадает с неба
На землю и вдвойне благословенна[5].
Он закрывал глаза и, пока она говорила, с трепетом впускал их в себя. Затем открывал глаза и улыбался.
Ей приходилось переодеваться в мальчика, одной рукой держаться за лацкан, а другой жестикулировать, говорить, размахивать листом бумаги, прятать под широкополую шляпу длинные каштановые волосы. Грудь у нее еще не оформилась, так что скрывать было нечего.
Неужели ей не было страшно?
Я часто задавала ей этот вопрос.
Меня все это ужасало. Даже выражения, которые она употребляла, рассказывая, как кто-то «помер» на сцене или превратился в «хладный труп». Множество историй о накладках: актер вышел без меча и сражался ботинком. Актер забыл слова. Или штаны. Актер упал в яму. Выпил чай с мыльной водой. И он играл дальше, этот актер без штанов, или без парика, или без реплики, или без меча, как герой, как дурак, ни на мгновение не умолкая, знай шпарил свою роль.
Актера по-настоящему ранили в ненастоящей драке, и публика взревела и взорвалась аплодисментами. Или актер – хуже не придумаешь – вышел на сцену пьяным. В Боррайсокене один актер умер на сцене, правда умер; закатил глаза и прошептал, что умирает, а остальные продолжили играть, пока не потеряли веру в себя: бормотали свои реплики, но никто не двинулся с места. Наконец, они бросились к умирающему, чтобы заслонить от зрителей реальную смерть.
Но в основном ничего подобного не случалось. В основном все шло хорошо.
Как бы часто она ни выходила на сцену, привыкнуть к мгновению, когда оказывалась в свете рампы, не могла – прямо за этой линией ее ждал спектакль. С жестикуляцией и декламацией, с потоком слов. Здесь проявлялась ее истинная личность, ее судьба – пространство, в которое она вступала или позволяла ему проникнуть в себя. И так каждый раз. Или почти каждый.
– Тебе не было страшно?
– Ужасно страшно.
– Правда?
Но она никогда не раскрывала своих секретов.
Быть милой хорошо, говорила она, но надо еще быть умной. И тихой. Как театральная мышка. Ты же слышала про мышку? Она питается гримом. На ночь сворачивается клубочком и спит в пышном парике, грызет трос, которым поднимают занавес, знает слова всех пьес. Мышку звали Джозефина, и в более поздних версиях истории она умела петь. Поющая мышка Джозефина составляла моей матери компанию во всех холодных гримерках всех городков, которые она объездила девочкой. Джозефина сидела на репетициях, как я сейчас, и иногда пищала из-под сцены, подсказывая слова. Когда спектакль кончался и публика расходилась, Джозефина пела свою песенку. Надо сказать, остальные мыши считали, что она малость зазналась, но восхищались ее талантом, поразительным для мыши.
Кэтрин Энн Фицморис знала, что ничего лучше этого нет и быть не может. Великие пьесы, великие постановки, порой оборачивавшиеся провалом. Все держалось только на вере (Баллина, Слайго, Туам, Баллишаннон, Дандолк, Маллингар, Клонмел и Атлон), скрепленной картоном, гримом и паникой. Плохая акустика, плохие корсеты и туфли не по размеру. И колымага, на которой они ночь за ночью колесили под деревенской ирландской луной.
* * *
На второе лето к труппе Макмастера присоединился молодой Бойд О’Нилл, тот самый, в которого спустя сорок лет она выстрелит. Не то чтобы они обратили друг на друга особое внимание. Ей было четырнадцать, и она по-прежнему играла гонцов и служанок. Он в свои двадцать пять только-только основал актерскую труппу «Клундара», позднее ставшую инициатором проведения одного из крупнейших в стране фестивалей любительских театров. Еще в те далекие годы он работал школьным учителем, иногда писал стихи, охотно говорил на гэльском языке и носил значок общества трезвости «Пионер».
Очевидно, Мак взял его без жалованья – он любил так делать – и, наверное, это вызвало недовольство остальных актеров. Они гордились своей работой: пели, декламировали, падали на задницу с такой самоотдачей, будто от этого зависела их жизнь, и все максимум за четыре фунта в неделю. После лета Бойда ждала работа, поэтому в финансовом, а возможно и в творческом отношении он напоминал хорошо одетого человека в комнате, заполненной голыми людьми. Трудно сказать, кто в подобных обстоятельствах чувствует себя глупее.
Когда я думала о Бойде – а после выстрела я без конца о нем думала, – то вспоминала, что долгие годы многие друзья моей матери отзывались о нем с пренебрежением. По словам Снелла, в нем было что-то «линялое». Лилиан Маквейл говорила, что он стеснительный.
Он не брал в рот ни капли спиртного.
И он не умел играть. Из всех упреков этот всегда казался мне самым смехотворным. Да среди этих актеров было полно тех, кто не умел играть, и никого это не останавливало. Полагаю, подразумевалось, что ему не удавалось раскрепоститься.
Бойд медленно продвигался к цели, не видной остальным, и со временем обрел могущество. Безусловно, это нельзя ставить ему в вину. Он никогда не был «талантливым», что бы под этим ни понимать. Ему не нравилось выходить на сцену – подозреваю, что это вызывало у него отвращение. Он предпочитал наблюдать за людьми и тасовать их у себя в голове. Именно этим и занимаются продюсеры. Бойд был прирожденным стратегом. Поначалу это было непросто разглядеть, еще и потому, что он был идеалистом – верил в будущее ирландского языка, создание подлинно ирландского театра и распространение культуры, отражающей и формирующей национальное государство (Хьюи Снелл прозвал его Твидовыми Штанишками). Сегодня все это звучит слишком пафосно, но в то время к подобным вещам относились на полном серьезе. (Снеллу он отплатил презрением и не простил его даже после того, как взлетел высоко, а бедняга Снелл опустился на самое дно. Когда год спустя после смерти моей матери Снелла выносили в ящике, Бойд уселся в церкви на лучшее место, чтобы от души насладиться зрелищем.)
Как бы то ни было, Бойд преуспел. Пусть на пути своего восхождения он покорежил эго энного числа людей, скорее всего, действовал он из лучших побуждений: в том смысле, что, будучи идеалистом – или полагая себя идеалистом, особенно в возрасте тридцати-сорока, – он строил карьеру с глубоким убеждением, что одновременно работает на общее благо.
В 1961 году он оставил труппу «Клундара» и ушел на новый национальный телевизионный канал RTÉ, продюсером цикла театральных постановок, выходивших субботним вечером. Пленку использовали повторно, и оригинальные записи оказались затерты, поэтому трудно сказать, что в действительности представляли собой те трансляции. Отдельные сохранившиеся фрагменты позволяют судить, что по современным стандартам постановки поразительно медлительны. Поначалу вроде бы возникает ощущение саспенса: кажется, что кадр с чашкой, в которую неторопливо наливают чай, предшествует появлению в окне убийцы с топором, – но нет, это просто чашка чая.
– Сахару? – интересуется женщина с чайником.
Но телевизионный театр неделю за неделей будоражил всю страну. Бойду выпала потрясающая возможность: у него был глаз, наметанный на поиск талантов. Не исключено, потому, что сам он никаким особым талантом не обладал.
«Я рад, что получил эту работу. – Это широко растиражированное заявление он сделал после того, как его назначили на сулящую награды и неплохую пенсию должность заместителя главы Управления по делам театра. – Вокруг полным-полно шарлатанов».
Трудно восхищаться тем, кто без устали восхищается собой, но что это меняет? Бойд был человеком своеобразным, это верно. Но в нем не было ничего, из-за чего двадцать лет спустя в него следовало стрелять.
Я хорошо помню, как в четыре-пять лет пела для него под запись. Кое-кому нравилось раздувать вокруг меня ажиотаж, демонстративно игнорируя мою мать, но Бойд, как мне кажется, и вправду любил детей. Они давали ему возможность ощутить себя добрым.
Он таким и был. В числе прочего. Сердце у него было доброе.
Он водрузил на низенький журнальный столик в гостиной огромный катушечный магнитофон, нацепил наушники и сидел, уставившись в пол, пока я пела в тупоконечный серебристый микрофон «Узнаю тебя лучше». Время от времени он бросал на меня короткий взгляд и ободряюще мне улыбался. В эти мгновения он явно от меня шалел. В его обожании не было ничего сексуального, но все-таки это обожание чуть зашкаливало. Он внимал моему детскому голоску с любовью, на которую не имел права. Это воспоминание долго меня не отпускало: возбуждение при виде нового магнитофона, мое чистое милое пение и меланхолия сидящего передо мной на корточках Бойда. Интересно, понимал ли он тогда, что своих детей у него никогда не будет?
Примечательно, что трезвенник Бойд пристрастился к спиртному как раз тогда, когда остальные понемногу бросали пить. Бойд скис к середине жизни. Возможно, он страдал из-за утраты некоего идеала, возможно, из-за смерти своей матери. Он всегда был склонен к соперничеству, но в сорок с лишним и в пятьдесят с небольшим его амбиции обрели новую остроту и стали более болезненными. Возможно, взяв все высоты, доступные в Ирландии, он разочаровался в этой стране и чем дальше, тем больше в ней разочаровывался. Неизвестно, как давно он начал попивать, но, когда я достигла возраста, в котором уже замечаешь подобные вещи, Бойд предпочитал бренди – вполне серьезный напиток. Трудно сказать, напивался ли он вдрызг, но, подозреваю, он почти всегда был навеселе.
Позже, когда ему стукнуло пятьдесят шесть, в город приехал неистовый американский режиссер ирландского происхождения, и жизнь заиграла для Бойда новыми красками. В 1973 году он ненадолго прославился как продюсер известного международного художественного фильма. Фильм, снятый на западе Ирландии в сотрудничестве с RTÉ, назывался «Моя темная Розалин», а снялась в нем, как легко догадаться, не моя мать, а американская красавица со смоляными волосами Мора Херлайи.
В те времена в Ирландии не снимали почти ничего серьезного, и шумиха вокруг единственного успешного фильма достигла небывалого размаха. Освятить камеру приехал епископ Эльфинский, остановить которого не было никакой возможности. Все отели от Лимерика до Слайго заполнились до отказа, улицы запрудили закусочные на колесах и лимузины. Для Моры Херлайи каждое утро смешивали свежий крем для лица из охлажденных ингредиентов. Оливер Рид затеял в местном пабе драку, впоследствии удостоенную памятной таблички. Фильм привел Бойда на европейские кинофестивали, на красные ковровые дорожки Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Он лично возил копию в Сидней, в Австралию, где у трапа его встречал ирландский посол.
На следующий год Бойд оставил национальный телеканал и, сняв маленький офис на Уиклоу-роуд в центре Дублина, основал независимую кинокомпанию, которую назвал Cast A Cold Eye Productions – «Смотри на вещи трезво». Смелый шаг в столь зрелом возрасте – надо думать, позже он пожалел, что на него решился. Следующие пять лет он провел в чистилище под названием «развитие бизнеса», что потребовало от него недюжинного нахальства. Бойд переписывал сценарии, охмурял финансистов мирового уровня, составлял фантастические списки актеров и записывал их на обратной стороне конвертов, которые слал в Лос-Анджелес своему соратнику-режиссеру, после пика популярности оказавшемуся не у дел.
Следующий значительный фильм так и не материализовался, но Бойд нашел чем заняться. Он дал свое имя шести прекрасным пятичасовым программам Лайама Макматуны «Lámh, Lámh Eile»[6] о ремеслах на Аранских островах. Далее последовала серия телевизионных документальных фильмов в жанре «жизнь замечательных людей», под общим названием «Разговор с гигантами», где уже он сам обсуждал проблемы современности с интеллектуалами и творческими личностями вроде Фредди Айера, Исайи Берлина, ирландского поэта Остина Кларка и католического богослова Ханса Кюнга. Он поддерживал свой имидж на высоком уровне.
Он приходил к нам на поздний ужин, по меньшей мере, один раз. Теперь я понимаю, что мать, похоже, пыталась его очаровать, потому что вокруг этих ужинов для театралов всегда поднималась некоторая суета. На стол накрывала племянница Китти, главным блюдом был огромный лосось, приготовленный целиком; обложенный по краям прозрачными ломтиками огурцов, он разваливался на мягкие розовые куски. Бойд ходил в гости как будто против воли. Я так и вижу, как он отшатывается от остальных, высокий и худой, подчеркнуто надменный. Как незаметно слегка пригубливает из бокала, при этом в бокале убывает – как будто его содержимое высасывают через невидимую соломинку. Рано или поздно отпускает в чей-нибудь адрес оскорбительное замечание, произнесенное чуть гнусавым пронзительным голосом, но, если вспыхивает ссора, в ней не участвует.
Я прекрасно помню, как он стоял в гостиной, затылком упираясь в стену. Комнаты на первом этаже были оклеены бледно-голубыми обоями с разводами, того водянистого оттенка, каким окрашивается на закате горизонт. Бойд в этой позе напоминал старинный портрет, писанный несколько веков назад; на лице – печать равнодушия, характерная для облеченного властью мужчины в состоянии усталости.
Что касается секса, то как у него с этим обстояло, сказать трудно. Детей у Бойда не было, что в те времена считалось большим несчастьем, но его жена была очень милой и, по-видимому, преданной мужу. Впрочем, не исключено, что моя память искажена чувством вины. Вот они оба в суде, зал заседаний номер девять, непоколебимо респектабельная пара, связанная близостью и временем; она его любит, он принимает ее любовь и заботу. А вот моя мать – какой контраст! – безумная и чудовищно одинокая.
На похороны он не пришел. За это я ему благодарна.
Бойд О’Нилл умер в семьдесят четыре года, спустя одиннадцать непростых лет после нападения. На пенсии он кочевал от одного комитета или комиссии к другому, ходил в театр Гейт и заглядывал в Европейское общество телепродюсеров. Пил он дома или по случаю в баре «Шелбурнская подкова». Одним зимним днем, незадолго до Рождества, я проходила мимо и видела его там. Он сидел в кресле сразу за вращающейся дверью. Мы встретились взглядами, и он долго не мог отвести от меня глаз. В тот бесконечный миг в них настолько явственно читалась мольба, что после этого Бойд снился мне год или два и во сне просил выстрелить в него еще раз.
Но летом 1942 года (ему двадцать шесть, матери – четырнадцать) вряд ли они перекинулись хоть словом. Она не отходила от Плезанс, а остальные не обращали на нее внимания, если не считать пары досадных эпизодов вроде того, когда один актер запустил руку ей под блузку, каркнув: «Ну, что там наросло?» – и был он такой обворожительный, что ей захотелось «умереть на месте». В труппе царила заурядная распущенность, но к Бойду это не относилось; он вел себя, как «святоша», набожный и целомудренный.
На фотографии, снятой за год до того, осенью, с актерами труппы «Клундара», двадцатичетырехлетний Бойд сидит в окружении участников одноактной пьесы леди Грегори «Новости расходятся»: женщины в клетчатых шалях, мужчины в кепках или заломленных шляпах, на корточках. Позади стоит высокий полицейский с размалеванными красным щеками, впереди – молодой Бойд О’Нилл с серебряной статуэткой на колене. У него такое открытое лицо, что его можно было бы назвать глуповатым, если бы не спокойные глаза. Он по-своему безупречен – этакий идеальный сын, любимец матери.
Но моя мать его как раз не любила, точнее говоря, ничем не выделяла. Да и история тех летних гастролей (Туам, Суинфорд, Уэстпорт, Каслбар, Килтама, Каван, Келс, Донерайл, Типперэри, Митчелстаун, Фетард, Фермой) привлекала вовсе не скучной фигурой Бойда О’Нилла, а фигурой Кэтрин Оделл, будущей звезды сцены и киноэкрана. Никто не спрашивал: «Каким он был в двадцать шесть лет?» Зато всех интересовало: «Какой она была в четырнадцать? Она уже догадывалась, что готовит ей судьба?»
«Я была всего лишь крошечной мышкой, – говорила она. – Бегала туда-сюда, а когда никто не видел, пела свою мышиную песенку».
Насколько мне известно, всерьез о ней заговорили лишь три года спустя, когда Энью Макмастер упомянул имя семнадцатилетней Кэтрин в письме кастинг-директору театра Гейт. В нем он давал характеристики нескольким актрисам, объясняя, почему их не следует брать: «слишком манерная», «чахоточная», «глупа как пробка». Но юную Кэтрин Фицморис он все же оценил выше других и не без иронии написал о ней: «Моя юная подопечная из Хоута живет здесь с девочками, пока ее родители откатывают последние гастрольные недели. Кукольная версия Фица. Та же красота, но в женском воплощении. Странная и трогательная. Хорошо читает стихи. В возрасте не уверен».
Что до Бойда, то некоторое представление о его ранних годах я получила благодаря его школьному приятелю по Coláiste Mhuire – колледжу Святой Марии – Дермоду Мурхерну, который позже стал епископом Клонферта. После смерти Бойда в 1991 году он опубликовал в школьном журнале – на ирландском, с английским переводом на противоположной странице – глубоко продуманный текст, отдающий дань уважения памяти покойного. Он пишет о непреклонном характере Бойда: «Мы соглашались далеко не во всем» и добавляет, что его друг отличался великодушием, но «выбрал в жизни собственный духовный путь». Мягко сказано. Успех Бойду как телевизионному продюсеру принес спектакль о молодом священнике «Се человек», вызвавший в свое время жаркие споры. Чему был посвящен спектакль – проблеме гомосексуальности, гетеросексуальности или одиночества – сказать трудно. По сюжету молодой викарий после нелегкого дня спасается бегством от любезностей пышногрудой прихожанки, чьи достоинства подчеркивает блузка в рюшечках. Священника играл англичанин, потому что, по слухам, ни один ирландец на эту роль не согласился бы.
Студийная запись давным-давно затерта, но сохранилась одна сцена, снятая вне павильона, в парке святого Стефана. Красивый печальный священник наблюдает, как беззаботные детишки кидают уткам хлеб. Крутится архивная пленка, а я сижу в просмотровой будке и не могу поверить в свою находку. Перепроверяю: шестьдесят шестой год. Это, без сомнения, первый в Ирландии публичный документ, свидетельствующий о нездоровом интересе священника к детям. Но, как и с чаепитием в комедийном сериале, за которым не стоит ничего, кроме чаепития, затянутая сцена с утками – лишь про кормление уток.
Этот возмутительный (несуществующий) подтекст епископ обходит вниманием и высокопарно продолжает: «Даже в детстве он отличался невероятной скромностью. Он привык довольствоваться малым и был бережлив. Снисходительный с теми, кому было далеко до его интеллектуальных дарований, нежный с нежным полом, он был щедрым к нуждающимся и защищал обездоленных. Было даже время, когда он подумывал о сане, и церковь, как видно по его последующей карьере, понесла в его лице значительную утрату. Однако я всегда испытывал на этот счет сомнения, о которых не говорил вслух. Но, если я и упрекал его в гордыне, то не в мирской, а в духовной. Бойд полагал себя неудачником, даже когда добился власти. Это исказило его восприятие окружающего, и в последние годы ему мерещилось, что в интеллектуальных и художественных кругах его осаждают враги, которых в реальности не существовало».
Или они все же существовали? Моя мать продемонстрировала это майским утром 1980 года, когда поднялась вверх по узкой лестнице в его офис на Уиклоу-стрит с бутафорским пистолетом, оказавшимся настоящим, а вниз спустилась уже совершенно безумной.
1
Светозарная любовь моего сердца (ирл.) – Здесь и далее, если не оговорено особо, – прим. пер.
2
Строка из стихотворения американского поэта ирландского происхождения Тома Кахилла. – Прим. ред.
3
Уильям Шекспир. Макбет. Пер. М. Лозинского.
4
«Трильби» – роман английского писателя и художника Джорджа Дюморье (1894), по мотивам которого создано множество театральных постановок и кинофильмов. – Прим. ред.
5
Уильям Шекспир. Венецианский купец. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.
6
Одна рука, другая рука (ирл.).