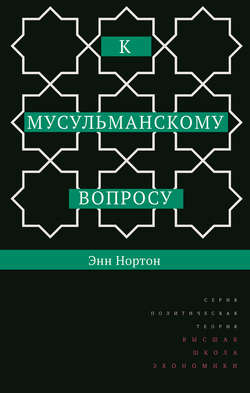Читать книгу К мусульманскому вопросу - Энн Нортон - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Введение
К мусульманскому вопросу: философия, политика и улица Запада
Секуляризм
ОглавлениеСлавой Жижек, ссылаясь на споры о преамбуле к европейской конституции, объявляет атеизм стержнем всего Просвещения. «Где было самое драгоценное наследие Европы, – вопрошает он, – наследие атеизма? Европа уникальна потому, что это первая и единственная цивилизация, в которой атеизм является совершенно законным выбором». Но радость Жижека по поводу отвержения религии Просвещением, однако, портит (как и само Просвещение) постоянное возвращение вытесненного. Доказательством того, что «атеизм – это европейское наследие, за которое стоит сражаться», является то, что «он создает безопасное публичное пространство для верующих», даже для мусульман[5]. Жижек определяет мусульман как подлинный объект проявления терпимости, а подобное стремление он сам когда-то подверг резкой критике.
Назначение мусульман мишенью для толерантности относит их к «другому», к чему-то нежелательному. Не нужно быть терпимым к привычному и знакомому или тому, что приветствуется, что нужно и хорошо. То, к чему проявляют терпимость, маркируется как чуждое и нежелательное. У. Э. Б. Дюбуа некогда задал афроамериканцам знаменитый вопрос: «Ну и как это, ощущать себя проблемой?» То же самое можно спросить у мусульман – в глобальном масштабе. Однако формула Жижека предполагает, что на кону стоит нечто большее, нежели терпимость к исламу. Если атеизм действительно одно из славных достижений Нового времени, то не только ислам следует сбросить со счетов и молчаливо терпеть, но также и христианство.
Для многих секулярных философов и властителей дум из журналистов, например для Кристофера Хитченса, проблема ислама – это проблема религии в целом. Проблема с мусульманами в том, что они более религиозны. Религия доминирует в их жизни, их нельзя от нее отделить. Многие христиане могут сказать, причем с гордостью, то же самое и о себе. У них вообще вызывает сожаление отгораживание от веры. Это даже может привести к союзу между иудео-христианскими консерваторами и мусульманами. Правда, есть два препятствия. Более религиозные христиане и иудеи всегда были медленны в установлении связей поверх религиозных барьеров. Что важнее, мусульмане, как и христиане и иудеи, часто бывают секулярными. С другими секуляристами они разделяют подозрительное отношение к религиозной власти. Они с особой ясностью способны увидеть ограниченность и хрупкость секуляризма на Западе.
Западный секуляризм якобы уходит корнями в отделение церкви от государства. Однако во многих местах на Западе этого отделения так и не произошло. Законы о богохульстве остаются в силе. Официальная религия продолжает существовать. Секуляризм якобы создает и сохраняет нейтральную публичную среду, но повсюду на Западе расписание рабочих и выходных дней тянется из христианского прошлого. Христианство доминирует в глазах и ушах видами соборов и звуками церковных колоколов. Идеи государства и суверенитета глубоко пропитаны политической теологией.
Однако если секуляризм не преуспел в хваленом отделении церкви от государства, то его частичный успех оказался больше, чем мы сознаем. Секулярное мирное соглашение сделало религию практически неприкосновенной для критики со стороны философов. Мятежным и скептичным позволили покинуть церкви и жить, ничего не опасаясь, но и церкви в свою очередь могли рассчитывать на свободную от скептиков жизнь. Церкви наслаждались иммунитетом против критики разума. Они были защищены от грубых споров публичной сферы. Скептики и философы придерживали язык или направляли свою критику куда-то вне церкви, подальше от нежных ушей верующих. Это не было триумфом атеизма или просвещения; это было соглашением между старыми врагами, ни один из которых не мог сокрушить другого окончательно, и каждый хотел обеспечить себе безопасное местечко, недоступное для атак другого. Прежде присутствие евреев служило своего рода неприятным напоминанием о том, что все могло пойти по-другому. Теперь присутствие ислама ставит секулярное соглашение под сомнение.
Секуляристы, боящиеся ислама, опасаются не самого ислама, а возвращения религиозной власти. Самые честные из них, как Айаан Хирси Али, признают, что они против религии в любом виде. Христиане могут бояться конкуренции в религиозной сфере, а иудеи – вызова со стороны сионизма. Люди более знающие и осторожные могут понять, что отказ секуляристов обеспечить исламу неприкосновенность снова способен вызвать у кого-то желание критиковать христианство и иудаизм.
Философы и другие ученые должны принимать во внимание свою собственную уязвимость. Труды аль-Фараби, ибн Рушда, Авиценны, ибн Туфайля, ибн Хальдуна и других мусульманских философов поставлены вне канона, их схоластически выслали на периферию, к локальным исследованиям, исследованиям религии и антропологии. Западный канон политической философии деформирован генеалогиями, которые отсекают труды мусульман и мусульманских философов. Много лет назад Лео Штраус заявил, что западная философия искалечила себя сознательным забвением ислама и иуда изма. С пренебрежительной укоризной Штраус писал о сопротивлении западных философов еврейской и мусульманской философиям в Средние века. Он учил своих студентов интерпретативным стратегиям еврейской «шуле» и мусульманского «медресе» и поднимал вопрос о возможности кардинально иного разрешения взаимоотношений политики, философии и теологии[6]. Штраус ратовал за возвращение иудейской и мусульманской философий в канон, особенно таких фигур, как Маймонид и аль-Фараби. Только в последние годы теоретики и философы начали выводить свои генеалогии из более обширного и вместительного канона.
5
Žižek S. Defenders of the Faith // New York Times. 2006. March 12.
6
Strauss L. Persecution and the Art of Writing. Chicago: University of Chicago Press, 1988.