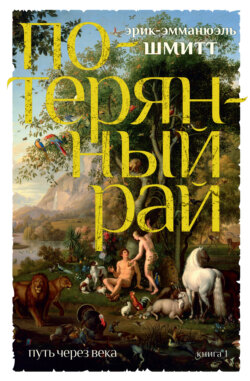Читать книгу Потерянный рай - Эрик-Эмманюэль Шмитт - Страница 4
Часть первая
Озеро
2
ОглавлениеНа меня уставился медведь.
Громадный бурый медведь в два раза выше меня, в три раза шире и в пять раз зловоннее. Его блестящий кожистый нос подергивался, пытаясь меня распознать. Он замер в нерешительности. Как ему быть? Кто перед ним? Враг? Друг? Если он опустит на меня лапу, мне конец.
Я в ужасе съежился. Меня прошиб холодный пот, во рту пересохло. Мне хотелось зарыться в землю. Меня убивала его близость, я ощущал его теплое дыхание, его враждебность, его пульсирующую мощь, укутанную меховой шубой. Черные бусины глаз, близко посаженных по сторонам длинной морды, запрещали мне шевелиться. Широко расставленные уши, прислушиваясь ко мне, подрагивали.
У меня перехватило дыхание; по рукам и ногам пробегала мелкая дрожь – значит я был еще жив.
Медведь распахнул пасть, на удивление нежно-розовую; челюсти – два ряда отменных зубов, острых клыков и добротных коренных; зверь испустил пронзительный рев. Но, как ни странно, этот рев не был ни злобным, ни грозным; он был сродни зевку и выражал, скорее всего, разочарование.
Медведь презрительно отвернулся, мягко опустился на четвереньки и, будто меня нет, побрел вразвалку своей дорогой. Но на краю поляны обернулся и вопросительно на меня посмотрел: «Ну что, идем?»
Плоский медвежий череп недвусмысленно давал понять, что с его хозяином не может быть торговли: либо подчиняешься, либо пощады не жди.
И я пошел за ним на почтительном расстоянии.
Убедившись, что я не своевольничаю и послушно за ним тащусь, он будто забыл про меня.
На берегу реки он напился воды, окунул голову, поморщился, почмокал, чихнул, плюнул и мечтательно уставился на бегущую воду. Вдруг его левая лапа вытянулась вперед, ткнулась в волну и махом извлекла из нее поддетого когтем вертлявого лосося, чешуя которого переливалась всеми цветами радуги. Кто бы подумал, что этот увалень проявит такое проворство? Медведь подбросил рыбину в воздух, проследил, как она взвилась над ним штопором, и поймал разинутой пастью. В три жевка размолол добычу и отправил в свое необъятное брюхо.
Насытившись, он пошел по мшистой тропинке вдоль берега, взобрался на груду камней и пропал из виду.
Что делать? Я растерялся. Я мог удрать, броситься в реку, улизнуть вплавь.
Вместо этого я медленно и опасливо карабкался по камням вслед за вожатым; на вершине я увидел под ногами меж камней круглую дыру.
И не поверил глазам… Там, съежившись, лежала узница, худенькая обнаженная женщина с тонкими запястьями и лодыжками, ее светлые волосы водопадом струились по плечам, спине и груди. Медведь подступил к ней. Она встрепенулась, нежно на него взглянула, улыбнулась, раскинулась вальяжно, протянула руки, чтобы обнять косматую голову и прильнула губами к медвежьей пасти. Они слились в долгом поцелуе.
Объятия их были чувственными и похотливыми, потом медведь накрыл своей тушей хрупкую фигурку, а женщина не только терпела его, но и приглашала продолжать соитие. Они спарились.
Я с гадливостью отвернулся, не желая видеть их совокупления, когда сбоку от меня взвыла собака. Я крутанулся, чтобы заставить ее молчать, из-под ног выскочил камень, я пошатнулся… и проснулся.
Я был у себя дома.
За стеной скулила собака.
Рядом спала Мина.
Ночь.
Я сел. Что значил этот медведь?
Озадаченный, я снова улегся, думая о последнем эпизоде сна.
В то время мы придавали снам большое значение. Они служили для человека вместилищем непостижимого. Во сне нам являлись Боги, Духи, Демоны и Мертвецы. Днем между ними и нами стояла незыблемая преграда, а ночь распахивала двери, и в них устремлялись духовные сущности. Уши, рот, веки и ноздри – все эти окна отворялись, и начиналось движение внутрь. Каждое сновидение связывало нас с миром, с силами Природы, с Душами. Сны раздвигали наши границы. Солнце ограничивало нас, а ночь открывала нам необъятное.
Во время нашей встречи медведь относился ко мне дружелюбно, советовал следовать за ним, показал, какие наслаждения меня ожидают: лакомства, любовь молодой женщины. Какой же урок мне следует извлечь?
Утром я проглотил кашу, сваренную Миной. Глаза ее сверкали, она приплясывала, посмеивалась, напевала. Уже несколько дней она была по-детски оживлена, а я делал вид, что не замечаю. Она старалась поймать мой взгляд, завладеть моим вниманием. Разве она не понимала, как раздражает меня? Она была частью моего прошлого, но не настоящего. С тех пор как меня покорила Нура, я едва терпел Мину, видел заурядность ее форм, невзрачность ее удивленного личика, никчемность ее разговоров, тусклость ее ума. Теперь, когда я лишился надежды получить вторую жену, первая приводила меня в отчаяние.
Первая и единственная…
Я торопливо вышел из дома.
– Ноам, я должна тебе кое-что сказать, – крикнула она от дверей.
– Потом!
Мысли Мины интересовали меня меньше всего на свете. Озабоченный разгадкой сна, я хотел отыскать Тибора на лесной тропе, где он нередко собирал травы.
Утреннее небо было усеяно мирными легкими розово-голубыми облачками, а лес стоял плотной темно-зеленой стеной. Запахи, свет и птичье пение – все лениво пробуждалось ото сна. Даже река будто не спешила набирать ход.
Из ежевичника вышел целитель, облаченный в свой необъятный плащ со множеством карманов, и тут же помрачнел, завидев меня:
– Мне очень жаль, Ноам. Но я ничем не могу помочь.
– О чем ты?
– Нура… Мне казалось…
– Что?
– Я был уверен, что вы с Нурой… то есть ты…
Я напрягся, сжал кулаки и процедил сквозь зубы:
– Это не важно!
Тибор пробормотал:
– Я думал, что ты хочешь соединиться с Нурой.
– У меня есть жена.
– У твоего отца тоже есть, но это его не останавливает.
– Мой отец – это мой отец. Вождь – это вождь.
Тибор внимательно на меня посмотрел и сказал:
– Прости меня, Ноам. Я вечно усложняю жизнь… Ты гораздо разумней меня.
Я хмуро кивнул. Мне хотелось, чтобы он умилился моей покорности, чтобы вся деревня восхваляла мою угодливость. Я повинуюсь отцу, чего бы он ни потребовал. Если я облеку свою горечь благородным самоотречением, если украшу ее добронравием, я сохраню лицо, останусь прежним Ноамом, избегу унижения и отчаяния. Иначе как мне вынести невыносимое?
Тибор стиснул мне запястье:
– Ты проявляешь великую мудрость, Ноам.
Да-да, великую мудрость! Я купался в своей добродетели, наслаждался своим героизмом, упивался своей жертвой. Величайшая мудрость…
Но другая часть моего «я» противилась. Я ненавидел отца за то, что он взял в жены Нуру, ненавидел Нуру за ее согласие, ненавидел Тибора за его покладистость, ненавидел Маму за ее покорность и себя ненавидел – за преданность отцу, за смирение, за малодушие, за проигрыш.
Мудрость… Да какая мудрость? Я проклинал свою мудрость. Она сводила меня с ума.
Я молча шел рядом с Тибором, стараясь успокоиться. Потом пересказал ему свой сон и попросил объяснить.
– А медведь тебе снится впервые?
– Нет.
– В жизни ты встречался с медведем?
– Часто. Видел его издалека. Не убегал, а любовался им… Медведь восхищает меня. Мне никогда не приходило в голову, что он может напасть. Когда я был маленьким, Панноам бранил меня за это безрассудство.
– Объяснение очевидно: медведь – твое тотемное животное.
– Вовсе нет! Тотем нашей семьи – волк.
– Отцовский тотем, но не твой.
– Но у меня не может быть другого тотема!
Тибор остановился и крепко стиснул мое плечо:
– Не думай о себе лишь как о сыне своего отца. Ты – отдельный человек.
– Что это значит?
– Ноам и Панноам не одно и то же.
– Скажи яснее.
– Ноам – это не часть Панноама. Не кусок Панноама. Имя, данное тебе отцом, стало для тебя ловушкой.
– Ловушкой?
Я совершенно не понимал, на что Тибор намекает. Он вздохнул и сменил тему разговора:
– Если твой тотем – сильный одинокий медведь, ты обладаешь его свойствами[7]. Силу ты уже показал, вся деревня тому свидетелем: бегаешь ты быстро, плаваешь отлично, целишься хорошо, да и дерешься великолепно.
– Но одиночество? Разве я одинокий?
– А это для тебя новость. Медведь пришел к тебе ночью сообщить об этом – значит теперь тебе полезно это знать…
Я поник. Ведь верно, брак Нуры и моего отца так меня печалил, что делал одиноким.
Я посмотрел в глаза Тибору:
– Но разве можно страдать от одиночества среди своих?
Он задумчиво проговорил:
– Таков удел человека, который думает сам.
По его затуманившемуся взгляду, по дрожи его голоса я понял, что он говорил не только обо мне, но и о себе.
Как он отличался от отца! Панноам состоял из решительности, распоряжений, поступков, а Тибору было свойственно задавать вопросы. В этот миг я почувствовал наше сходство.
– Твое животное тоже медведь, Тибор?
Он улыбнулся:
– Мое животное – сова, Ноам.
– Но ведь ты не бодрствуешь ночью!
– Сова причастна другим мирам, миру невидимого, миру Богов, Духов и Мертвых. Подобно сове, я ищу скрытое от многих, я снимаю покров видимого.
– Хороший у тебя тотем – сова! Он делает тебя счастливым, не то что одинокий медведь…
– Разве можно быть счастливым, лишившись иллюзий?
На этих словах Тибора мы расстались.
Я спустился к Озеру. Небо светлело. Деревня скрылась из виду и являлась мне своими шумами: мычаньем, квохтаньем, блеяньем, а еще звуками, производимыми теской камня, забиванием свай, заточкой кремневых орудий, мукомольем, растиранием гончарной глины, глухим потрескиванием дубимых кож, а еще указаниями, которыми перебрасывались ремесленники, детскими криками и женской болтовней.
Я дошел до главной улицы и направился к поляне, на которой мой отец вершил суд. Панноам сидел под Липой с представителями двух семей и разбирал дело о похищенной дичи.
Я смотрел на него со стороны, и меня мучили противоречивые чувства: я испытывал к нему свою обычную любовь, но руки чесались как следует ему всыпать. Мне виделся то прекрасный цельный человек, мягкий и милосердный, то калека со злобной гримасой. Где же истина? Как избавиться от дурного отца и оставить себе только хорошего?
Появилась Нура с высоко поднятой головой; заметила меня, убедилась, что Панноам еще занят, и устремилась ко мне. Ее нетерпеливые желто-зеленые глаза сияли от радости.
– Мои поздравления, Ноам!
Змеиный укус был бы мне приятней.
– О чем ты?
– Поздравляю!
Она лучезарно улыбалась, искренне и восхищенно. Я нахмурился, и она добавила:
– Какая добрая весть для вас с Миной!
Я был взбешен. Неужели она думает, что ее брак с моим отцом для меня добрая весть? Ну, для Мины безусловно… Но для меня?
Я смерил ее ледяным взглядом:
– Да как ты смеешь!
– Что ты хочешь сказать?
– Насмехаться надо мной!
Она не привыкла к моей резкости и забормотала:
– Ну как же… Ноам… не важно, кто… ты всегда говорил, что…
– Нура! Мне омерзительна эта ситуация! Не надо усугублять ее и смеяться надо мной. Даже если это тебя забавляет.
Она побледнела, надула губы и выпалила:
– Я не забавляюсь и не смеюсь! Я радуюсь, что Мина забеременела!
Я застыл с открытым ртом.
Она уточнила, думая, что я не расслышал:
– Я радуюсь, что вы ждете ребенка.
Видя мое удивление, она выпучила глаза, фыркнула, прыснула со смеху и прикрыла рот рукой:
– Как? Неужели ты не знаешь? – Она рассмеялась. – Ты не заметил?
Я покачал головой. Она продолжала смеяться от души, не скрывая веселости и оглядываясь по сторонам в надежде призвать кого-нибудь в свидетели.
– Да вся деревня знает, Ноам! У Мины уже месяца три как заметен животик… Ах, ты не больно внимательно смотришь на свою жену!
– Да я вообще никак на нее не смотрю!
Мой возглас прозвенел посреди деревни. По счастью, поблизости никого не было; только отец повернул в мою сторону голову, но разделявшее нас расстояние помешало ему расслышать мои слова.
Мне стало стыдно – не столько за сказанное, сколько за мою несдержанность.
Нура смотрела на меня. Моя горячность сбила ее с шутливого тона. Некоторое время мы молчали. Потом она кивнула на большой пень:
– Давай сядем.
Мы сели рядом; перед нами уходила в бесконечность озерная гладь, смешивая свою голубизну с небесной лазурью. Над нами пролетел утиный клин, непонятно куда и зачем. Под Липой справедливости отец разбирал уже другую жалобу сельчан.
Нура поймала мою руку. Горя то ли досадой, то ли гневом, я попытался высвободиться, но прикосновение ее нежной теплой кожи усмирило меня. Я поглядывал украдкой. Я ласкал взглядом абрис щеки, округлой, пленительной, с нежным пушком, долго смотрел на густые блестящие волосы, собранные на макушке в узел, из которого ускользнули несколько прядей – они щекотали ей лоб, виски, прелестные ушки, подчеркивали ясность ее лица.
Нура вдохнула чистый утренний воздух, опустила длинные ресницы и призналась мне:
– Я кое-что сделала для зачатия вашего ребенка. Кое-что важное. И горжусь собой.
– О чем ты?
– Я вам помогла.
Помогла нам? Мне? Она что, издевается надо мной? Она намеренно выбирала эти язвящие меня слова или же неосознанно? Нура удовлетворенно добавила:
– Я посоветовала Мине помолиться Богине-матери, Началу всех начал, и поднести ей пузатые фигурки. А еще я дала ей лучшие травы, которые благоприятствуют вынашиванию. Мина послушалась меня.
– Ах, это ты велела ей пить крапивную настойку?
– Ну да. То есть… назначил Тибор, а я передала его совет.
– Она меня каждый день поила крапивой!
– Это укрепляет и мужчину. Ну а ты пил отвар клевера?
– Нет.
– А отвар малинового листа?
– Нет.
– Отлично. Ах, я забыла! Тибор сказал, что Мине больше нельзя пить малиновый отвар. Не знаю почему, он мне сегодня утром сказал. Передай Мине, пожалуйста.
Она побарабанила бело-розовыми пальчиками по моей руке, загорелой, исцарапанной, со вздувшимися венами.
– Ну, ты доволен?
Я был в ярости. Долго еще она будет меня морочить этими пустыми разговорами? Когда мы поговорим о главном?
Не в силах терпеть, я ринулся вперед:
– Нет, я не доволен. Потому что мне плевать на то, что происходит с Миной. Потому что Мина меня раздражает. Потому что Мина нагоняет на меня скуку. Потому что не я ее выбрал, а отец навязал мне ее.
Она бросила встревоженный взгляд на Панноама, желая убедиться, что он к нам не прислушивается.
– Он ошибся?
– Он поступает по-своему, как ему кажется выгодней для деревни. Ему было безразлично, кто мы такие, Мина и я, чего мы желали, на что надеялись, что нас сближало или отдаляло друг от друга. Для него важны были интересы деревни, мирные и торговые соглашения, а вовсе не наши с Миной интересы.
Она упрямо повторила, пристально глядя на меня:
– Он ошибся?
– Как вождь – нет. Как отец – да.
– А какая разница?
– Отец ищет счастья для сына, вождь – для общины.
– Но твой отец – вождь. А ты сын вождя.
– Ты пра…
– Так как же ты смеешь порицать своего отца?
Я был уязвлен.
– Не хитри, Нура, хватит ходить вокруг да около! Мы говорим не о ней, а о тебе. Я осуждаю отца не за то, что он выбрал Мину для меня, а за то, что он выбрал тебя для себя.
Она выпрямилась, кровь ударила ей в лицо. Гнев заострил ее черты, кожа натянулась к вискам и переносице. Лицо стало жестким и очень женским.
– А какое тебе до этого дело?
– Панноам тебя украл!
– То есть?
– Он украл тебя у меня! Он меня обокрал!
– Обокрал тебя? Разве я тебе принадлежу?
Я в замешательстве опустился на колени и дал волю бурному потоку слов, беспорядочному и безостановочному; я признался ей во всем: в своей страсти, которую так долго лелеял, в своем желании взять ее в жены, рассказал о просьбе отцу, о томительном ожидании после того, как отца искалечили Охотники, о моих надеждах во время его выздоровления и, наконец, о моей тоске, когда я узнал, что он растоптал мои желания и сам берет Нуру в жены.
– Почему ты ничего мне не сказал? – побледнев, прошептала она. Ее тонкие ноздри дрожали.
– По нашим правилам, это сначала обсуждается с родителями, потом с родителями жены.
– Но ведь в первую очередь это касается меня!
– Я собирался сказать тебе, Нура, как раз в тот миг, когда раздались крики Панноама и лай собак. Вспомни. Я оборвался на полуслове и бросился к отцу.
– Да, я вспоминаю. Но я помню, что тем же вечером, когда все было позади, я предложила тебе закончить разговор.
– Я тогда падал от усталости, так вся эта история меня выпотрошила.
– Ну а потом?
– Ты ухаживала за моим отцом. Я надеялся, что это послужит нашему делу.
– Нашему?
– Что он согласится.
Слушая собственные объяснения, я начал понимать, что все это время поступал исходя из того, что Нура – моя сообщница и горит желанием стать моей женой.
Она подтвердила мои мысли, недовольно скривив губки:
– Ты никогда мне не говорил, что хочешь взять меня в жены, ты ни разу не признался мне ни в любви, ни даже в симпатии. Или ты считаешь, что у тебя это на лбу написано?
– Как же, Нура, это и без слов ясно!
– Что ясно?
– Что всякий, кто тебя встретит, непременно в тебя влюбится.
Глаза ее вспыхнули, потом она велела мне встать с коленей, сесть подле нее на пень и перевела дух: Панноам наших бурных объяснений не заметил.
Я грустно повиновался.
– А если бы я сказал, что-нибудь изменилось бы?
Ее глаза наполнились слезами, и она убежала.
Значит, это я во всем виноват…
Долгие годы свою покорность отцу я считал незыблемой, и лишь потом она пошатнулась, но слишком поздно, и Нура уже никогда не будет моей.
Однако этот печальный факт кое-что мне открыл: я наделен некоторой властью. Да, я мог вмешиваться в свою жизнь, а не только терпеть ее. Во всяком случае, теперь я это знал. Я понял, что могу быть собой, а не кем-то другим; я впервые обнаружил неопределенную часть моего существования, лазейку, слабое место, зону туманности, зияние, точное имя которому дать не мог и которое тысячелетия спустя философы назовут свободой. Это запоздалое открытие лишь усиливало горькую мысль: Нура не станет моей женой.
В мире, где я родился, свобода не только не имела имени, но и не пользовалась спросом. Вот почему Нура отсекала – Нура дерзкая, Нура странная – ту Нуру, которая попирала обычаи. В ее годы ей надлежало быть замужем! И стать матерью! К тому же красота и ум той, что сегодня сочеталась с Панноамом, возвысят ее до великолепной партии. Почему она так тянула? Почему до сих пор уклонялась от супружества? Почему – я не знал. Каким образом – я понял: Нура вынудила Тибора смириться со своим нравом, ведь тот боялся перепадов ее настроения, приступов гнева и слез и наслаждался ее радостью. Мама говорила, что она его за нос водит; но она водила его за сердце. Он любил ее. Его привязанность переросла простую родительскую ответственность. Стараясь не раздражать ее и не перечить ей, он обращался с ней уважительно, подмечал ее притязания, считал своей ровней.
Подобные отношения Нура установила и со мной: мы спорили, я ее выслушивал, мы обсуждали и женские, и мужские темы, меня интересовало ее мнение, я приводил доводы, я признавал свои ошибки, я никогда не был с ней резок.
Сельчанам Нура внушала уважение. Пришлая, непонятного происхождения, она одевалась, выражалась и вела себя на свой манер, была непредсказуема, то высокомерна, то приветлива, смешлива поутру, вечером задумчива, очаровательна, усердна, эгоистична, уязвима, чувствительна и бесчувственна – ее венчал ореол тайны. Будь она замужней, сельчанам было бы проще определить ее, но ее положение непреклонной и великолепной девственницы придавало ей еще больше пикантности. Она казалась всем королевой. Бесспорной королевой.
Бесспорная королева неведомого королевства…
А на самом деле этим королевством была она сама: Нура управляла собой, она с собой договаривалась и себе подчинялась.
Эта гордая независимость была заразительной… И вот я перестал безоговорочно разделять отцовские идеи и одобрять его решения. Я отделился от него. Конечно, я не отваживался на разрыв, но встал на путь, который к нему ведет, – на путь сомнения. Прав ли был отец, взяв себе вторую жену, когда у него уже имелась полноценная семья, готовая ему наследовать? Прав ли он был, когда пренебрег моими интересами и предпочел им свои? Прав ли он был, когда разрушил наше прекрасное согласие?
Нура вела себя с нами, с Панноамом и со мной, по-разному: ее присутствие будило в нас смутные импульсы, питавшие нашу особость и расшатывавшие устои. Тем самым Нура нас ссорила: она отделяла сына от отца, противопоставляла сына отцу. До нее один плюс один оставалось единицей. Теперь один плюс один равнялось двум.
Я не слишком радовался тому, что заразился свободой. Она не укрепляла меня, а удручала. Зачем уходить от нормы, если за это расплачиваешься миром и согласием?
В тот день я шел домой, исполненный решимости стать прежним Ноамом. Нура возмутила чистую и спокойную воду моей жизни. Я мирно плескался, а она швырнула меня в водопады и бурные потоки; я довольствовался привычной лужей, а она приговорила меня к штормам; итак, я возвращаюсь в родную лужу. Прощай, Нура, здравствуй, Мина. Ведь это и есть моя жизнь. По какому праву я требую большего? У меня была жена, скоро будет и наследник, я встану на место отца во главе деревни.
Переступив порог, я позволил Мине поворковать, походить распустив хвост, пританцовывая, потом с невинным видом спросил, чему она так рада.
Мина разыграла нерешительность, еще пуще стала жеманничать, радуясь, что придержала свой секрет. Но когда я нахмурился из-за этих выкрутасов, она объявила, что у нее будет ребенок. Ее веселые и робкие глазки, притаившись под низким лбом, ожидали моей реакции. Натруженные красные ручки очертили вокруг живота внушительный купол. Я встряхнулся, чтобы отогнать дурные мысли, подавил в себе ощущение дежавю, пытаясь забыть, сколько раз я обольщался напрасно; стараясь убедить себя, что на сей раз меня ждет детский лепет, а не похороны младенца, я изобразил восторг.
Ослепленная счастьем, Мина не заметила ни моих уловок, ни моих усилий.
День покатился по колее, проложенной этой сценой. Нужно было всенародно возвестить о том, о чем все, кроме меня, и без того догадывались. Вяло повиснув на моей руке, исполненная гордости, Мина мурлыкала и упивалась деланым удивлением соседей, привычными поздравлениями и пожеланиями: можно было подумать, что это она изобрела беременность! Я смотрел на нее с невольным презрением… лицо ее не было ни уродливым, ни красивым, вся она была лишена и достоинств, и недостатков, но болтовня ее была невыносима… лучше бы она молчала.
Вечером, пресытившись своим торжеством, она свернулась подле меня калачиком, положила голову мне на грудь и тотчас задремала. Моих губ коснулась улыбка, впервые за этот день искренняя: нет, я больше не поддамся этой рохле и не стану ее оплодотворять.
Наступила ночь.
Жизнь, казалось бы, шла своим чередом.
Прихрамывая на своей ноге из оленьей кости, Панноам все так же шагал по улицам деревни, и я все так же сопровождал его. Мы беседовали с жителями, вели переговоры с вождями соседних деревень, укрепляли отряд воинов, дрессировали собак, предназначенных для защиты от Охотников. Панноам, невзирая на свои хвори и увечье, усердно готовил меня себе на смену. Не угрызения ли совести были причиной этого преувеличенного внимания ко мне?
Мама утратила прежнюю веселость, хотя еще не осознала этого; в глазах ее застыло крайнее удивление. Ее супружеская жизнь до сих пор была ей в радость, и она никак не могла свыкнуться с мыслью, что ее муж официально и безоговорочно ввел в дом молодую соперницу. Мамины взгляды на жизнь изменились, она тревожно оглядывала свое тело, говорившее ей об утрате совершенства; ее обескураживал новый враг, внушавший ей страх и понимание, что ей его не одолеть, – время. И она обнаружила, что своими последними ухищрениями невольно скрывает увядание: обвешивается бусами, чтобы скрыть располневшую шею, носит платья без пояса. Мне было больно за нее. Уголки глаз опустились; лицо отяжелело; румянец говорил уже не об избытке жизненных сил, а об одышке.
Оставаясь с Панноамом вдвоем, мы с ним не произносили ни слова. Нас уже не связывало ничего, кроме общинных дел. Не касаясь предмета нашей размолвки, мы не обсуждали и других семейных дел – ни беременности Мины, ни здоровья Мамы, – тем более что Тибор самолично занимался Мамиными мигренями. Привычная дружеская болтовня, шуточки и подтрунивание канули в прошлое.
Шли дни, и наше молчание становилось все тягостней. Поначалу оно освобождало нас от никчемных слов, затем стало давить. Мы с Панноамом не знали, как разрубить этот узел. Случилось немыслимое: находясь рядом с ним, я скучал.
И страдал от этого.
Страдал, думая о нашем прошлом, освещенном светом чистой привязанности; страдал, думая о нашем унылом будущем, с которым я уже не связывал честолюбивых помыслов.
Не знаю, страдал ли Панноам. Увы, по его лицу, искаженному постоянными болями, я не мог отличить душевного страдания от телесного.
Наш разлад – вот что меня мучило. Клинок, рассекший нашу дружбу, расщепил надвое и меня. Во мне жили два противоборствующих существа: хороший сын и дурной, покорный и мятежный. Когда я придерживал язык, мятежник кидался на покорного. Если же я протестовал, покорный затыкал рот мятежнику. Я жил в постоянном разладе с собой и вел с собой непрерывную войну. Я сдерживал свои побуждения и слова. Но и наоборот: я упрекал себя за чрезмерную сдержанность, подавление своих порывов, придирки к себе. Я был подмостками разлада, я был самим разладом; я был мучением и мучился сам.
В то утро Панноам предложил мне сесть рядом с ним под Липой справедливости напротив жалобщиков. Обычно он требовал, чтобы такие встречи проходили без посторонних, полагая, что те могут повлиять на ход дела.
– Я хочу, чтобы ты учился вершить суд, Ноам.
Пришли двое селян, толстый и тощий. Толстяк Пурор возмущался, что собака тощего Фари задушила его пятерых цыплят.
– Ты лучше присматривай за своими курами! – вопил Фари, торговец овсом.
– Я не собираюсь запирать своих кур из-за твоей паршивой собаки. Как же им кормиться? Убей свою собаку.
– Убить мою собаку?
– Или привяжи.
– А зачем мне собака на привязи? Она должна сторожить мой дом, гнать незваных гостей, душить лис, крыс и хорьков.
– Твоя собака уничтожила моих кур. Если не привяжешь, я ее убью.
– Только тронь мою собаку, я тебя удушу!
Панноам дал им выпустить пар. Когда они обратились к нему, он мирно объявил толстяку Пурору:
– Посади остальных кур в высокий загон, чтобы собака в него не проникла. Тогда и твои куры будут целы, и собака Фари останется при деле. Всякая живность должна приносить свою пользу.
– Вот поистине мудрое решение, – с облегчением вздохнул тощий.
– Пусть он возместит мне убытки! – взорвался толстый. – Пусть отдаст мне пять кур! Пусть каждый день приносит мне яйца!
– Ничего подобного, – проворчал Панноам. – Прими меры предосторожности, таково мое решение.
– Он виноват! Он и его собака!
– Это мое последнее слово, – сурово отрезал Панноам и встал. – Ты просил справедливости, ты ее получил. А теперь идите по домам.
Жалобщики ушли, тощий довольный, толстяк чертыхаясь.
Панноам повернулся ко мне:
– А ты рассудил бы так же?
Я поколебался, затем ринулся в бой:
– Нет. Я потребовал бы возместить убыток. Пурор пришел с жалобой, он пострадал из-за гибели своей живности, он жертва. И вот его же и обвинили. Мало того, ему предстоит еще разориться и на загон для кур.
– Тебе это не кажется справедливым?
– Нет.
– Почему я вынес такое решение? Оно мне кажется более разумным для нашего будущего. Собак в деревне становится все больше, и такие случаи будут повторяться, если кур не помещать в загон.
– Я одобряю, что ты ввел это правило. Но оно еще не было в силе, когда этот случай произошел. Нечестно наказывать того, кто…
– Надо припугнуть куроводов, а не владельцев собак.
– Припугнуть? Мне казалось, ты ищешь справедливое решение.
– Ноам, такое может случиться и с нашими собаками.
– Ну да, понимаю: не справедливость для всех, а справедливость для себя!
Он рассвирепел:
– Молчи! Справедлив тот суд, который я вершу под этим деревом.
– Ах вот как! Ты вершишь? Это не справедливость, а произвол!
– Довольно!
Панноам побагровел; он раскачивался, припадая на левую ногу и тяжело дыша. Я набросился на отца впервые; мой бунт был стихийным, я его толком не осознал. Меня он озадачил, отца – обозлил.
Мы замолчали. Это был наш первый за многие недели столь долгий разговор.
Панноам снова сел, потер виски; взгляд был холодным и непреклонным.
– Займись подготовкой моей свадьбы.
– В каком смысле?
– Организуй торжества: церемонию, цветы, угощение. Мать больна.
Нет чтобы сказать: «Мать страдает» или «Мать отказывается», – он назвал ее больной. Меня раздражало его самодовольство.
– Ты мой сын, и к тому же старший.
– Но у тебя есть и другие дети, и самое время о них вспомнить.
– О чем ты?
– Если подготовкой займусь я, боюсь, что я «заболею», как и мама.
– Да как ты смеешь?
Я без робости вплотную приблизился к нему и сквозь зубы процедил, глядя прямо в глаза:
– Неужели тебе мало того, что ты меня подмял? Что пнул меня, как собаку? Ты хочешь стереть меня в порошок и уничтожить?
Он вздрогнул, не ожидая такого выплеска гнева. Я добавил:
– Поручи это сестрам, а меня уволь.
– Но почему?
– Неужели нужно объяснять?
Потрясенный моим упрямством, он весь обмяк и растерянно пробормотал:
– Я не знал. Ты ничего не сказал. Откуда я мог знать?
Его внезапная слабость меня ничуть не разжалобила.
– Ты прекрасно знал, что я надеялся взять Нуру в жены.
– Ах да, ты что-то такое говорил… – презрительно бросил он.
В этот миг я понял, какая пропасть разделяет нас. Когда он решил взять Нуру себе и отказал мне, он посчитал, что тема закрыта. Напоминание старой забытой истории вызвало у него досаду. Неужели отец так плохо меня знает? Так мало придает значения моим мыслям и чувствам? Неужели думает, что его приказы с легкостью их изменят? Конечно, в том была и наивность, и самоуверенность, и эгоцентризм…
Он заговорил со мной как с ребенком:
– Так устроена жизнь, Ноам. В ней есть и удовольствия, и женщины – иногда мы их получаем, но чаще приходится отказаться. Это не так уж важно.
– Не важно?
– Не важно!
– Отказаться от женщины – это не важно?
– Не важно, Ноам.
– Так откажись от Нуры.
Он уязвленно дернулся. Его взгляд блуждал в поисках новых доводов, потом остановился на мне.
– Я посвятил тебе мою жизнь, Ноам.
– Нет, ты посвятил ее деревне.
– Я никогда не уделял внимания твоим сестрам, я с ними никогда не охотился и не беседовал. Я выбрал тебя.
– Почему?
– Ты мой двойник. – И он прибавил: – Ты мое творение. Мой наследник.
Меня поразила горькая мысль.
– Так ты любишь не меня, а себя во мне.
Панноам озадаченно нахмурился, не желая вникать в мое резкое замечание, и упрямо продолжал хорошо отработанным снисходительным тоном:
– Не будем ссориться из-за девчонки.
– Вот именно, отец. Откажись от Нуры.
Его лицо исказила злоба. Губы задрожали от возмущения. Презрительно смерив меня взглядом, он бросил:
– У тебя уже есть жена.
– У тебя тоже. И она прекрасная женщина.
– Ты защищаешь ее, потому что она твоя мать!
– Мама подарила тебе одиннадцать детей, отец, – одиннадцать здоровых детей. Мина мне – ни одного. Мама – достойная пара вождя, она всегда на высоте, всегда рядом с тобой. Мина к этому не пригодна.
Панноаму хотелось защитить репутацию Мины. Но он тут же понял, что это дело гиблое. Он потер больную ляжку.
– Я немолод, Ноам.
– Вот именно. Нура слишком молода для тебя.
Его глаза подернулись влагой, и он воскликнул с обезоруживающей прямотой:
– Она вернула мне желание жить!
Он говорил правду, я знал это и по себе. В порыве нежности я схватил отцовскую руку:
– Когда мы с ней поженимся, ты будешь видеть ее каждый день, будешь ласкать наших детей. И она будет давать тебе радость жизни.
Панноам прикусил губу, его веки дрогнули, но он спокойно отвел мою руку:
– Я вождь. И делаю то, что важно для вождя.
– Но ты и мой отец.
– Да.
– Так для тебя важнее быть вождем?
Теперь увлажнились мои глаза. Я отстранился, ожидая его ответа. Панноам держался бесстрастно. Он пристально посмотрел мне в глаза и отчетливо произнес:
– Да.
Я отвернулся, чтобы скрыть свою боль, и, уходя, крикнул ему:
– Сегодня вождь убил отца!
* * *
– Ноам?
Я и ухом не повел. Я, поджав ноги, сидел на полу у себя дома напротив открытой двери, устремив взгляд на Озеро, и никакая сила не могла сдвинуть меня с места. Придя под покровом туч, затянувших горизонт, мое мрачное настроение передавалось моим словам и поступкам; о чем бы меня ни спросили, я пожимал плечами, вздыхал и отмалчивался. От моей угрюмости досталось и Мине; свернувшись калачиком в углу, она не решалась ни окликнуть меня, ни шевельнуться.
Вдали пророкотал гром. Из зарослей ивняка вырвался одинокий резкий крик птицы, и я едва сдержался, чтобы не зарыдать в ответ. Все вокруг было обескровлено скрытым отчаянием, оно обесцвечивало краски, лишало жизни тростник и студило воду. Природа затаила дыхание.
Гром грянул над головой, день превратился в ночь, и на деревню с яростью вражеских полчищ обрушился ливень. Нас ослепляли вспышки молний, струи воды обрушивались, как лавина дротиков, решетили дорогу, пробивали соломенную крышу и струились по стенам.
Мина взвыла. Напуганная гневом Богов, она забралась под циновку, зажмурилась, заткнула уши, а я так и сидел недвижно, наблюдая нашествие вод.
Всем телом я впивал это буйство, наслаждаясь его мощью. Буря отдавалась эхом в моей печали. В унисон со вспышками молний по телу пробегала дрожь; сердце билось в ритме раскатов грома; я вдыхал влажный воздух, чтобы омыть им легкие. О, как мне хотелось, чтобы водяная завеса нас накрыла, чтобы земля разверзлась под натиском небесных сил, чтобы потоки грязи смыли людей, их дома, их добро, их заботы и их несчастья! Я безмолвно молил Богов нас уничтожить. Конец света, и никак не меньше!
Обезумев от этого светопреставления, я растворялся в бурной ночи, страстно желая, чтобы она поглотила нас. И пусть следом за мной весь мир устремится в бездну! Я лишился самого важного. Отца. Нуры. Людей, которые так много для меня значили.
Дождь перестал.
Тишина.
Удивленная тишина.
Она казалась огромной. Соразмерной только что прекратившемуся грохоту.
Робко шлепались последние капли. Крыша вздохнула, будто жалуясь на свои увечья. Небо расчистилось.
Я зажмурился от ослепительного света. Что-то во мне переменилось. Раз я пережил эту бурю, позволю ли я, чтобы мною помыкали?
Я встал и вышел.
Возле дома Тибора я заметил Нуру: она зябко переминалась с ноги на ногу. Ждала меня? Увидев меня, она бросилась мне навстречу.
Я протянул к ней руки, она спряталась у меня на груди, и мы замерли – двое чудом уцелевших после неминуемой гибели согревались теплом друг друга. Я вдыхал ореховый запах ее волос, гладил ее нежный затылок, с трепетом прижимая ее к себе, такую хрупкую; ее тело всегда меня манило, а теперь, в моих объятиях, казалось бедным, уязвимым и драгоценным.
Я шептал ей на ухо:
– Откажись, Нура, откажись.
Она отстранилась, взглянула на меня, зажмурилась, как кошка, которая, лакая, боится забрызгаться, потом снова посмотрела мне в глаза:
– Как отказаться? Меня никто не спросил.
– Откажись.
– Меня заставят. Я женщина, Ноам, я бесправна.
– Ты женщина – сделай так, чтобы ему расхотелось брать тебя в жены. Стань ему неприятной, отвратительной, безразличной. Пусть у него пропадет всякое желание.
Она грустно усмехнулась:
– Ты хочешь, чтобы я стала безобразной?
– Для меня – не станешь! Нура, умоляю, стань отвратительной для него!
Я снова сжал ее в объятиях. Она им отдалась, потом высвободилась и вздернула подбородок:
– Зачем мне это делать?
– Ради нас.
– Нас?
– Нас!
Лицо ее раздраженно заострилось.
– Никаких «нас» никогда не существовало, Ноам. «Нас» никогда на свете не было. Ты не сумел вовремя объясниться.
– Прости меня, я понял свою оплошность. Теперь я говорю открыто: я хочу жить с тобой, Нура.
Она оттолкнула меня и отступила назад, побледнев.
– Неужели ты думал, что я согласилась бы стать твоей второй женой? Второй женой! Разве я не заслуживаю лучшей доли?
Я растерянно пробормотал:
– Я… я… Мину мне навязали прежде нашего знакомства… я ничего не решал… Слишком поздно… я не могу…
– Убить ее? Нет, но отречься от нее.
– Отречься от нее?
Нура бросила мне вызов. Она сделалась жесткой, колючей, непреклонной. Чем Мина заслужила такое суровое наказание? Если наши дети погибали, так пожелали Боги… Демоны… Духи… не знаю… Во всяком случае, простодушная и невинная Мина ни в чем не виновата. Я не мог причинить ей зло.
В глазах Нуры блеснуло осуждение.
– Чтобы достигнуть цели, иногда приходится резать по живому. Чего ты хочешь? На самом деле? Всего! То есть ничего! Ты должен сделать выбор!
– Нура, попытайся понять…
– Я вторая жена? Никогда! Я стою большего!
Мы смерили друг друга взглядами.
Во мне закипал гнев, и я проговорил сквозь зубы:
– Не бахвалься, Нура! Через несколько месяцев ты станешь второй женой!
– Первая – старуха!
Я замер с открытым ртом. Я не ослышался? Нура не только пренебрегла моими чувствами и попрала мою щепетильность, предлагая отречься от Мины, но еще и оскорбила мою мать. Мама – старуха?
Казалось, она наслаждалась моим изумлением; она кивнула, намереваясь добить меня:
– Я молодая, она старая. У меня жизнь впереди, у нее – позади. С твоим отцом я недолго останусь второй.
– Как? Ты ждешь, что моя мать скоро умрет?
– Нет, не я, это смерть ее поджидает.
Я влепил ей пощечину.
Она мне ее вернула.
Мы оба дрожали от ярости. Напружиненные, с горящими висками, как два борца, готовые нанести следующий удар, мы стояли друг против друга, лоб в лоб. Она бросилась первой:
– Через несколько месяцев я стану женой Панноама, а не твоей.
– Откажись от него, Нура, потерпи.
– С чего бы мне бросать надежный брак на ветер?
– Пожалуйста!
– Ну, допустим, я так поступлю, и что дальше? С досады или из ревности Панноам воспротивится нашему с тобой союзу.
– Он мучается сильными болями, угасает, Нура. Он скоро умрет.
– А Мина к тому времени тоже умрет? Пошевели-ка мозгами, мой бедный Ноам! Ты разом избавишься от всех трудностей?
Сдерживая раздражение, я мягко настаивал:
– Мой отец не вечен.
– И что дальше?
– Откажи ему и жди меня.
– Ты бредишь! Это может продлиться год, пять лет, десять лет!
– Панноам не вечен!
– Но и я не вечна!
Она больше не сдерживала гнева:
– Почему я должна склоняться перед приказами других, перед желаниями мужчин? Я пришла в этот мир не для послушания. Мне всегда удавалось повернуть дело так, чтобы мои желания выполнялись. Я скоро стану женой вождя.
– Ты будешь ему подчиняться.
– Посмотрим!
– Но чего же ты хочешь? Занять место вождя?
– Почему бы и нет?
– Любой ценой?
– Дорогой ценой: я отдаю вождю себя. Видно, и нынешнему вождю, и будущему этого мало…
– Ты бесчувственна… одно тщеславие…
– Не прикидывайся простачком, Ноам!
– Что ты о себе возомнила, Нура?
– Твой отец вождь сейчас, ты станешь им потом. А я кружу вождям голову и кручу головой вождя.
Она стиснула мне шею:
– Ты дорожишь мной? Тогда я объясню тебе ход событий: я выхожу за твоего отца, а когда его не станет, выйду за тебя. И подождать придется тебе, а не мне.
– Никогда!
– Именно так и будет! Сначала я стану женой твоего отца, а потом твоей.
– Ну нет, после него – не хочу.
– Ах, какой гордец! Именно после него! И ты будешь этим счастлив! И скажешь мне спасибо.
– Безумная!
Ее пальцы разомкнулись и нежно коснулись моей щеки.
– Я знаю, что ты будешь послушным, Ноам. Ты, как козочка, придешь кормиться из моих рук, когда я тебе свистну.
Я невольно оттолкнул ее. Она пошатнулась, ступила на мокрую глину, потеряла равновесие, заскользила в грязь, но, яростно вильнув бедрами, устояла. Выпрямившись, она смерила меня надменным взглядом; на меня смотрела воинственная, полная жизни, непримиримая и великолепная женщина. Темные страсти захлестнули нас с новой силой. Мне хотелось искусать ее и задушить в объятиях.
Нура уловила мое состояние. Она язвительно усмехнулась, потом рассмеялась.
Она смеялась, а меня все больше одолевал стыд, что я так ею околдован, что она безраздельно владеет моими мыслями. Меня взбесили ее спесь, глумление и насмешки.
Я вернулся на тропинку и, обернувшись, решительно бросил ей:
– Спасибо, Нура! Спасибо за твой эгоизм и твою жестокость! Мне будет проще тебя разлюбить!
Ее смех тотчас оборвался.
– На здоровье, Ноам!
– Ты помогла мне возненавидеть тебя.
– Возвращайся, когда передумаешь!
И пошла домой. Едва войдя, она что-то нежно проворковала Тибору, достаточно громко, так что я услышал ее голос. Этой мгновенной переменой она дала мне понять, что наш разговор не слишком взволновал ее, что она прекрасно обойдется без меня и, возможно, будет вполне счастлива.
* * *
Мина стала моим спасением. С ней все было просто, ее восхищала даже капля моего внимания к ней: небрежная ласка, поданная ей кружка воды, протянутая рука. Она неустанно радовалась фруктам, которые я ей приносил, а выдра или заяц, добытые мною на охоте, казались ей непревзойденным деликатесом. Оброненное мною слово было для нее событием, моя беглая улыбка вызывала у нее восторг, а если я усмехался, она хохотала как безумная. Видя ее отзывчивость, я исправно играл свою роль, а она отдавала мне сторицей.
К моему удивлению, мне было с ней хорошо в этом доме, который она обустроила за годы нашей жизни. Я с опозданием оценил ее талант домохозяйки. Она никогда не давала угаснуть углям нашего очага, не была похожа на тех вертихвосток, что пренебрегают своей семьей и бегают по чужим домам. Сплетенные ею круглые корзины позволяли с толком разместить нашу провизию, одежду и инструмент. Когда мы садились завтракать, она раскладывала на полу чистые цветные циновки. Стены она украсила охряным фризом – геометрические фигуры, волны и рыбьи кости, – имитируя роспись кувшинов и горшков Дандара. Благодаря ее стараниям наш дом дышал теплом и уютом, тогда как жители схожих домов, казалось, по-прежнему обитали в пещерах[8].
Мина совершала обряды радости. Ей нравилось быть, ее восхищало то, что у нее есть. В отличие от Нуры, она никогда не желала большего. У нее не было устремлений, она не старалась что-то усовершенствовать – прежде я презирал в ней эти черты, теперь же они казались мне вершиной мудрости. Почему я видел пустоту, а не полноту? Зачем? Что я получал, кроме разочарования? Мина ценила не пустоту желания, а полноту удовольствия.
Я старался исполниться этой мудрости: ценить свое положение сына вождя; ценить свой долг подчинения отцу; ценить свою обязанность создателя семьи; ценить свою роль мужа… Совсем недавно я недолюбливал свою жизнь, мне казалось, что все в ней ничтожно. Теперь же я принял те мелочи, из которых она состояла, и жизнь стала налаживаться. Жизнь моя оставалась прежней – изменился мой взгляд на нее.
Встреч с Нурой я благоразумно избегал. Уклонялся я и от общения с Мамой, чтобы ее печаль не пошатнула мое хрупкое равновесие. С отцом держался так, будто у нас не было никакой размолвки. Ноам и Панноам будто условились о полной амнистии – вернее, амнезии.
И я согласился взять на себя организацию свадебных торжеств.
Панноам желал умопомрачительного великолепия, роскоши и блеска, хотел затмить все прежние праздники, а нынешним заявить об изобилии и процветании нашей общины. То есть мы не ограничимся приглашением односельчан, а примем влиятельные кланы других озерных деревень. Мы рассчитывали по меньшей мере на четыре сотни человек – сборище по тем временам неслыханное.
Мы расширили поляну, вырубив часть деревьев, стволы ошлифовали и превратили их в скамьи, а скамьи расставили по кругу. В середине устроим танцы. Вокруг разместим певцов. А по краям за сколоченными на скорую руку столами будут пировать гости. Я нанял на ярмарке бродячих музыкантов, троих дударей и четверых барабанщиков, а они присоветовали мне взять еще одного свирельщика, искусно извлекавшего из своих свирелей дивные погудки; я отыскал его и пригласил тоже. Все подробности – цветы, гирлянды, наряды, угощения и напитки – я обсуждал с Миной и ее советы пускал в дело. Несколько месяцев наши деревенские ремесленники по моим указаниям мастерили подарки.
Во время бракосочетания подарки будут вручаться не новобрачным, а гостям. Такой порядок был задан высоким положением новобрачных; качество и количество даров создавало или разрушало репутацию. Не было более дорогостоящего предприятия, чем свадьба, и большинство сельчан вовсе без нее обходились, спариваясь без церемоний, как звери.
И вот наступил день, к которому так тщательно готовились.
Едва забрезжил рассвет, поляна стала заполняться. Люди прибывали отовсюду целыми семьями, они были радостно возбуждены, хотя и робели. Ребятишки с флягами наперевес носились меж гостей. Черничное вино лилось рекой, гости пили без продыху, но наши сельчане не ударили в грязь лицом и наготовили питья вдоволь. Солнце поднималось, веселье нарастало. Тела и души разогревались. Гул голосов, взрывы смеха, поздравления, шутки, подначки, тумаки – а то ли еще будет, и песни застольные, и хмельные хороводы. Голоса все громче, жесты все размашистей, объятия все жарче, кто-то уже затягивал песню. Щеки лоснились от пота. Нетерпение нарастало.
Когда солнце достигло зенита, грянули барабаны.
На вершине холма возник Панноам. Величественный и широкоплечий, в кожаном плаще, обшитом ракушками, – в этом одеянии он казался выше, а его искусственная нога была скрыта. Его шумно приветствовали.
Но вот с другого холма нежно зазвучали свирели, и все мигом обернулись: там в сопровождении девушек появилась Нура. По толпе пронесся восхищенный шепот. Нура, одетая в полупрозрачное льняное присборенное платье, излучала красоту, силу и молодость. Она шла под музыку по тропинке, легкая и грациозная рядом с дородными девами своего кортежа. Ее движения напоминали танец. В волосы были вплетены белоснежные лилии, шея и руки обвиты гирляндами живых цветов. Ее изумрудные глаза, алые губы, точеные брови были слегка тронуты краской.
У Нуры был немыслимо лучезарный, чистый цвет лица, всем женщинам на зависть. Наши девушки и в жару, и в дождь, и в холод стирали белье, собирали ягоды, работали в поле, и кожа их за несколько лет грубела и темнела; лицо Нуры сохранило нежный младенческий тон; не знаю, каким чудом, но капризы погоды пощадили ее.
Новобрачные двинулись навстречу друг другу и встретились внизу, на полдороге. Он подал ей руку, и они направились к поляне. Там колдун, обряженный в мех и перья – то ли волк, то ли филин, – встретил их ритуальными заклинаниями.
Поначалу я следовал за кортежем, но на опушке остановился. Праздник шел своим чередом, я подготовил его безупречно и все предусмотрел – а просчитался лишь в одном: мне вдруг сделалось невыносимо тошно.
Прислонившись к ореховому дереву, я едва устоял на ногах; пытался отдышаться, успокоить взбесившееся сердце и проглотить слюну, и все же меня вывернуло наизнанку.
Едва мой желудок освободился, я осознал всю горечь происходящего. До сих пор я был озабочен подобающим течением церемонии, но теперь она близилась к финалу, и этот финал меня ужасал: Нура стала женой Панноама!
Колдун протянул новобрачным две глиняные кружки – Нура и Панноам разбили их, и это означало, что они порывают со своим прошлым. Потом колдун вручил им пеньковую веревку, которой они обвязали запястья, и это означало союз, который они заключают.
Я не смог сдержать слез и, отвернувшись, увидел за спиной Маму: она стояла прислонившись к дубу – бледная, изможденная и опустошенная.
Нам незачем было говорить. Горе у нас было общее.
Мне хотелось отвлечь ее льстивыми заверениями; но Мама была непохожа сама на себя. Всегда милая и оживленная, она умела так выигрышно подать свою полноту и так горделиво носила украшения; теперь же она походила на собственную карикатуру: то была отяжелевшая, горестная и поблекшая матрона, утратившая вкус к жизни.
Она машинально протянула мне флягу:
– Хочешь выпить?
По ее невнятной речи я понял, что она уже изрядно приняла на грудь.
Я взял флягу и воскликнул:
– Конечно! Чего еще желать!
– Нечего! – икнув, подтвердила она.
Я сделал добрый глоток. Черничное вино согрело меня. Мне сразу полегчало. Она кивнула:
– Пей на здоровье! У меня этого добра полно.
Она хохотнула, пробормотала что-то невнятное и заключила:
– Все равно я первая жена вождя.
Я еще раз глотнул вина и указал на маячившую вдали фигуру отца:
– Как по-твоему, Панноам ждет нас?
– Как же! Нужны мы ему! Отсюда хорошо видно, верно? Ты же видишь старика, который взял молодую!
– Ну да!
– Правда, отсюда плохо видно, что он безногий калека.
Она выхватила у меня флягу и припала к ней.
– Странная девчонка! Выйти за хромого старика… Я в ее годы отказалась бы.
Я промолчал; по обычаю, Маму выдали замуж, не спрашивая ее мнения.
Она продолжала выплескивать обиду:
– Я никогда не согласилась бы стать второй женой! Никогда! Делиться с кем-то! Да и теперь делиться не собираюсь. Говорю тебе как на духу, Ноам, можешь мне поверить: если твой отец начнет ко мне пристраиваться, чтобы переспать со мной, он получит от ворот поворот!
Я взглянул на потерпевшую поражение мать, представил себе великолепную Нуру и кивнул, хотя вообразить такую возможность было немыслимо. Она обрадовалась моему одобрению и буркнула:
– Еще чего!
И тут же залилась слезами. Ее отяжелевшее лицо оживилось возмущением наивной и обиженной молодой девушки. Я крепко обнял ее. Она всхлипывала, бормоча:
– И что вы все в ней нашли, в этой Нуре, а? Что вы в ней нашли?
Что я мог ей ответить? Я увильнул:
– Конечно, женщина его жизни – это ты, Мама! Это тебя Панноам любил долгие годы, это тебе он подарил столько детей. А Нура… это каприз!
Она вцепилась мне в руку:
– Ох уж этот случай! Этот случай! Лучше бы он погиб от рук Охотников! Я страдала бы, да, я оплакивала бы любимого мужа. Но он изменился, стал на себя непохож. Слабый старый калека! У него ни ноги, ни головы! Проклятый случай…
Все внезапные перемены, произошедшие с отцом, Мама приписывала нападению Охотников, полагая, что, если бы отцу не потребовалась забота сиделки, он не заметил бы Нуры. Если бы он не ощутил своей ущербности из-за болей и хромоты, не потянулся бы к юной девушке. Может, Мама и была права. Или ей просто хотелось принизить роль своей соперницы?
– Все он, целитель, – проворчала Мама.
– Что целитель?
– Он заколдовал твоего отца.
– Он его спас, Мама!
Она взорвалась, замахала руками:
– Тибор ни спас его, ни вылечил! Он помешал ему испустить дух! Он превысил свои права. Целитель не идет против Природы, он ей служит. Природа назначила твоему отцу умереть от увечий. Нельзя противиться Природе!
Она кусала губы и бормотала:
– Ох, умри он в тот день, я хранила бы о нем самые лучшие воспоминания! Оплакала бы его добрыми слезами, чистыми слезами, они текли бы рекой, как лучший залог моей любви к безупречному супругу. А вместо этого…
Мать не закончила фразы, в ярости стукнув кулаками по дубовой коре.
– Это все его происки, Тибора. Отрезал ему ногу, заточил у себя в доме, чтоб он снюхался с его дочерью, а пока она его выхаживала, поил приворотным зельем. Это все он, Ноам, все он!
Я по-прежнему не возражал, понимая, что Мама пытается исключить Нуру из этой истории, затушевать ее привлекательность. Церемония заканчивалась. Новобрачных осыпали лепестками цветов, и они медленно, величественно шли с радушными улыбками посреди всеобщего ликования.
Вскоре должны были начаться танцы и угощение. Потом чета уединится в свежевыстроенном доме за деревьями, у самой реки…
Мама подняла на меня глаза:
– Как чувствует себя Мина?
– Хорошо.
– У нее на этот раз получится?
– Надеюсь.
– Я помолилась за нее Духам.
– Спасибо.
– Я понимаю твои чувства, сын. Знаю, что Тибор вертел тобой как хотел, сначала привязал к своей дочери тебя, но потом переиграл и подсунул ее вместо будущего вождя нынешнему. Злое дело сделано. Ревность отравляет твое сердце, как и мое, но я восхищаюсь тем, что ты борешься! Ты уважаешь свои обязательства, свою супругу и даже своего отца. Но пообещай мне одну вещь.
– Какую?
– Не надо уважать свою мачеху.
И она расхохоталась. Я тоже. Мы обнялись. Она фыркнула мне в плечо, потом подтолкнула меня к толпе.
– Займись Миной. Когда она тебе надоест, приходи ко мне. У меня дома не один кувшин вина… Напьемся до беспамятства.
И она пошла, напевая и чуть покачиваясь, ведь гордость не позволяла ей упасть.
Отыскав глазами Мину, я спустился на поляну, незаметно подкрался к ней сзади и обнял.
– Самая чудесная свадьба, лучше я не видывала, – прошептала она, прижимаясь ко мне.
Музыканты заиграли веселую мелодию, и гости вышли на середину поляны. Одни неуклюже и грузно топтались, другие выписывали забавные кренделя; некоторые, давно мне знакомые сельчане проявляли неожиданную ловкость и удаль.
Другие раскачивались не сходя с места, в ожидании, когда волна общего веселья накроет их и придаст смелости пуститься в пляс. Музыканты играли без передышки, чтобы веселье не угасало.
Мина умоляюще на меня взглянула и попросила потанцевать с ней. Я с тревогой указал ей на живот:
– Тебе не вредно?
– Очень хочется.
Мы присоединились к толпе. Непривычный к таким занятиям, я старался приноровить свои движения к звукам барабанов, но все невпопад: ритм никак не овладевал мной, я ни кожей не чувствовал его, ни сердцем, он оставался снаружи. А Мина вся отдалась музыке. Удивительное дело! Несмотря на свой округлившийся животик, она двигалась легко и радостно. Заметив мое искреннее восхищение, она удвоила свой пыл.
Утомившись, она схватила меня за руку:
– Вернемся домой.
Я помог ей выбраться из толпы, взял под руку, и мы пошли к дому. Она вздохнула:
– Я сделала глупость.
– Что такое?
– Я растрясла нашего малыша.
– Ему это понравилось. Наш малыш узнал, что его мама прекрасно танцует.
Мина покраснела и успокоилась. Едва мы вошли в дом, она в изнеможении рухнула на циновку:
– Мм… засыпаю.
– Я с тобой.
– Нет, ты возвращайся туда, а потом мне все расскажешь.
Я кивнул, двинулся к поляне, но, едва выйдя из поля зрения Мины, свернул в другую сторону.
Мама была у себя – она лежала в одиночестве изрядно пьяная. Смеркалось, и я почти не различал очертаний ее тела. Она молча предложила мне улечься рядом с ней и протянула чашку вина. Я залпом ее осушил.
От далеких звуков музыки остался лишь тонкий лихорадочный пульс, он больше не задевал нас.
Пристроившись рядом с Мамой, я шепнул:
– Спокойной ночи.
В ответ она что-то промямлила, дыхание ее, смешиваясь с приглушенными напевами и раскатами смеха, становилось все спокойней, и наконец вся комната наполнилась ровным посапыванием.
Ночью я проснулся. Во рту было гадко, язык присох к нёбу. Мама погрузилась в оцепенение, ограждавшее ее от тоскливой действительности.
Я кое-как выбрался наружу; ноги затекли и еле двигались, и я с трудом доплелся до дому. Мина в полусне услышала мои шаги.
– Ты танцевал?
– Совсем немного. Все тело ломит.
– Ты гордишься?
– Чем?
– Этим праздником, ведь это ты его устроил.
Я болезненно поморщился, и она решила, что из скромности. Она приподнялась и схватила меня за руку:
– Прошу тебя, давай пройдемся.
Ночь была ясной и свежей, дул легкий ветерок. Темные холмы напоминали больших псов, задремавших на берегу Озера. Мы сошли с тропинки и укрылись от праздничного гула под сенью деревьев, бродя меж сумрачных колонн их замшелых стволов. Мы ощущали шелковый шелест трав под ногами и живой запах растоптанной мяты. Потом нас потянуло на праздничный шум, и мы вышли на вершину горушки над поляной. Под ногами у нас кипело веселье: музыка, огни, взрывы смеха, пение и танцы являли другую ночь, оживленную, бурливую и разношерстную. Тут безраздельно царило упоение жизнью: потрескивало пламя жаровен, на которых готовилось мясо, парни устраивали поединки, другие глазели; кто-то суетливо топтался, а парочки начинали разбредаться.
Я пытался отыскать глазами Панноама и Нуру; интересно, они все еще возглавляют праздник? Расстояние не позволяло это выяснить. Меня больно резанула мысль, что они уединились и совокупляются.
Мина взяла мою руку, потянула ее к своему пупку:
– Чувствуешь? Он шевелится.
Я ощутил под ее теплой кожей упругие толчки.
Она блаженно улыбнулась. Я ответил ей такой же улыбкой. Вообще-то, мы с ней должны радоваться жизни. Плевать на эту свадьбу… Меня позабавила мысль, что там, внизу, пожилой жених, мой отец, распускает хвост перед новоиспеченной супругой, Нурой, которая старше моей жены, и в то же время мы с Миной – бывалая, опытная чета, преодолевшая испытания, и смотрим на всю эту шумиху с высоты своей зрелости.
Мина крикнула:
– Смотри!
И указала на ветку, где сидела сова. Совиная маска уставилась прямо на нас, мерцая двойным огнем радужки, бледные перья сияли лунным светом.
– Нам нечего бояться, Мина, совы не нападают на людей.
Мина вздрогнула от страха:
– Но почему она так смотрит на нас?
– Не знаю…
Совиные глаза, окаймленные кругами перьев, занимали всю плоскую птичью физиономию. Верхушки сложенных крыльев напоминали женские плечи, рыжевато-молочная грудь была усеяна темно-коричневыми крапинами, а весь облик был сама непререкаемость. Я узнал сипуху, бесшумно летящую охотницу, грозу мышей полевых и лесных, землероек, горностаев и кроликов.
Мина прошептала:
– Я боюсь животных, у которых нет тени.
Она выпрямилась, сделала шаг вперед, отступила назад, шагнула влево, вправо. Совиная голова вращалась вслед за Миной, тело оставалось неподвижным.
Мина с ужасом воскликнула:
– Она выслеживает меня! Охотится на меня!
Я передвинулся с места на место и вынужден был признать, что Мина права. Сова завороженно наблюдала за ее движениями. Мину упорно буравил пристальный, бесстрастный и непостижимый взгляд птичьих глаз в обрамлении перьев.
Прячась от совы, Мина прижалась ко мне.
– Что это значит? – прошептала она.
– Сова предчувствует перемены. Она их предсказывает.
– Мне страшно.
Птица громко щелкнула клювом.
Мина задрожала. Я рассмеялся и ободряюще похлопал ее по спине:
– Мина, подумай! Мы скоро станем родителями, у нас будет ребенок. Вот какие перемены она предвещает нам.
– Я в этом не уверена!
Несмотря на свой простодушный оптимизм, Мина была подвержена детским страхам.
– С чего бы сове на тебя сердиться?
– Боги и Духи меня не любят.
– Мина!
– Да! Они каждый раз отнимают у меня ребенка. Они меня проклинают.
– Мина! Все дело в том, что с приближением родов ты начинаешь волноваться. Теперь все будет хорошо.
Я целовал ее лицо и шею, нежно гладил волосы, и она успокоилась – или мне так показалось.
Когда мы вернулись домой и улеглись на циновку, она свернулась калачиком и прижалась ко мне. Я ее обнял. Два встревоженных одиночества пытались забыться в животном тепле – вот что такое была наша нежность…
* * *
Поутру, чтобы не столкнуться с Нурой и Панноамом, не видеть их блаженных лиц, кругов под глазами, припухлых век и искусанных губ, этой непременной истомы после брачной ночи, я сказал Мине, что отправляюсь на охоту, и вышел, не оставляя ей возможности возразить или вздохнуть.
Легкий полупрозрачный туман застилал округу и скрадывал дали. Озеро и горы исчезли. Белесая пелена обращала солнце в луну и приглушала звуки. Тишину прорезал лишь сиплый крик сойки.
Удача улыбнулась мне: очень скоро я подбил из пращи трех зайцев. Весь остаток дня был в моем распоряжении.
Пока туман рассеивался, я решил сходить к волшебному дереву.
Здесь мне следует признаться, что за тысячи лет я не раз встречал деревья, с которыми у меня завязывались особые отношения – расскажу об этом в свое время, – но ничего бы не случилось, если бы я не спознался с Буком.
Я набрел на него в детстве: однажды утром меня привела к нему белка. Я вспоминаю каждую подробность того дня – мы всегда помним отправную точку, открывающую новый жизненный цикл, этот момент посвящения, закрепленный последующими мгновениями нашей жизни.
Загоняя с товарищами кабана, я отстал от ватаги – наверно, мне захотелось побыть одному – и забрел в лесную чащу; в ней не было ни тропинок, ни ориентиров. На поросшем желтыми грибами пне сидела под сенью своего пышного хвоста белка и грызла орех, придерживая его передними лапками. Почуяв постороннего, она вскинула мордочку, успокоилась и легким кивком предложила мне следовать за ней. Быстрая рыжая шкурка замелькала зигзагами, я еле за ней поспевал. Она живо перелетала с кочки на кочку, едва касаясь земли, замирала, поджидала меня, ловила мой взгляд и удовлетворенно продолжала путь. Она не убегала от меня, а следила за тем, чтобы я шел за ней по пятам.
Мы выскочили из чащи, и белка подвела меня к одиноко стоящему Буку, обернулась ко мне и взлетела по стволу наверх. Замерла на полпути, оглянулась, выразительно посмотрела мне в глаза и пригласила следом. С неловкостью существа, лишенного цепких когтей, я стал медленно и осторожно карабкаться вверх. Моя неуклюжесть забавляла белку. Едва я, отдуваясь, крепко уцепился за сук, белка исчезла.
Тогда дерево стало со мной общаться. Внушая мне состояние блаженства, щекоча мои ноздри пленительными солнечными ароматами, Бук шепнул мне: «Усни». Я вытянулся, свесив руки и ноги, животом приникнув к толстой ветви – гладкая кора ее казалась мне нежной, как человеческая кожа. Бук увещевал меня закрыть глаза. Я покорно уснул и видел дивные сны, посланные мне деревом: я витал в воздушных потоках, обращаясь то в птицу, то в пыльцу, то в облако, то в ветер – во всевозможных Духов, дружественных Буку.
Со своего насеста я спустился умиротворенный, обогащенный, исполненный откровений всего сущего; я прильнул к великой душе, объединявшей людей, животных, растения, воды и камни, – она сочла меня достойным своих излияний.
Счастливый, я вернулся к товарищам, но умолчал о том, что со мной произошло. Как я мог своими косными словами поведать о случившемся?
Я нередко навещал Бук. Его листья приветственно шелестели, ветви дружелюбно раздвигались. Я проводил с ним долгие часы, приникнув к коре.
Когда мне было лет одиннадцать, Бук приобщил меня к тайне. В этой книге я поведаю о самом сокровенном из моих секретов.
Ошеломленный порослью на подбородке и гордый пушком на щеках, я наполнился новой силой и энергией, которая велела мне бегать, прыгать, плавать, колоть поленья, подымать камни и мериться силой со сверстниками. Во мне бродили неведомые соки, и приходилось их расходовать. Но утолить и утомить себя движением мне никак не удавалось.
Однажды ранним весенним вечером я пришел к Буку в таком взвинченном состоянии. Он пригласил меня к себе наверх, и, карабкаясь с ветки на ветку, я получил его дар: меня настигла волна смутного наслаждения, поползла меж бедер, по животу; вал нарастал, распространялся, захлестывал тело, учащал дыхание, торопил сердце. Стоило мне подумать, что наслаждение вот-вот утихнет, оно лишь нарастало. Насыщенность этой эйфории пугала меня, но сопротивляться ей я не мог. Моя шея вздулась и раскалилась, как печь. Рот пылал. Уши горели. Я влез на самую толстую ветку; раскачиваясь, от содрогания к содроганию, от сотрясения к легкому касанию, я пролагал путь в неизведанное, теряя самоконтроль и недоумевая, когда же наслаждение достигнет высшей точки. Внезапно дыхание перехватило, что-то прорвалось. Брызнула теплая жидкость, залила низ живота. Я вскрикнул и потерял сознание.
Открыв глаза, я очнулся в другом мире; моя новая вселенная была шире, пленительней и беспокойней, в ней тела могли расточаться в этом головокружительном наслаждении. Я гладил кору Бука, обнимал его ствол. Это было рождение взрослого Ноама. То тут, то там, по икрам ног, по бедрам, по животу, проскальзывали никак не желавшие уняться легкие змейки дрожи, как последние веселые весточки упоения. Сохранился приклеенный к пупку след удовольствия, подсохшее меловое пятно, и, когда я поднес к нему палец, оно рассыпалось в порошок. Я благодарно обвился вокруг Бука, ведь прежде я не испытывал подобного восторга.
Долго еще я пребывал в недвижном блаженстве, но вот все затихло, навалилась усталость; я в изнеможении сполз на землю.
Потом я не раз приходил полюбиться с Буком. Влекли меня и запахи: листьев, мокрой коры и древесной гнили. Поначалу я причащался этой тайны, не понимая ее, иногда не достигал наслаждения, чувственные содрогания медлили, замирали и ускользали. Тогда я донимал Бука вопросами: чем я провинился? Потом я понял – вернее, Бук объяснил мне, – что́ между нами происходит, как моя кожа вскипает от прикосновения к его коре, как вибрации, которые я ему сообщал, должны оставаться чуткими, как ласка коры наполняет мой член, как он вулканически взрывается семенем.
То, что мужчины называют самоудовлетворением, для меня таковым не было: это была любовная связь с деревом. Бук преподал мне науку сладострастья.
Я должен уточнить: женившись, я не вкушал этого блаженства во время объятий с Миной. Никогда. Наши соития носили вынужденный, утомительный и практический характер, настолько, что содрогание в финале знаменовало исполненный долг. Чтобы достичь чувственного наслаждения, мне следовало потерпеть до… Но не будем спешить.
В тот день, после свадьбы Панноама и Нуры, когда я прятался от них и улизнул от собственной супруги, я нашел прибежище в лиственных объятиях Бука. И лишь на закате я отправился в деревню.
Бук омыл меня, растворил мои заботы: в его тиши, в его свете все, что проявилось во мне человеческого, единственно и исключительно человеческого, – досада, зависть, сыновнее недовольство, уныние несчастного влюбленного – растаяло. День, проведенный на дереве, освободил меня от удушливых отношений с людьми; я стал просто живым существом, природной частицей в лоне щедрой Природы. Я сбросил балласт своей значимости, стал легким и снова мог вкусить радость бытия.
На краю деревни меня подстерегал мальчишка. Он бросился ко мне с воплем:
– Ноам! Мина рожает!
Я обескураженно остановился. Конечно, животик Мины округлился, но, по мне, не настолько, чтобы рожать.
– Она зовет тебя. Твоя мать тоже. Все женщины там собрались.
Эта подробность меня насторожила. Я понимал, почему рядом с Миной очутилась Мама – она должна была помочь в родах, – но меня обеспокоило, что при событии, которое обычно проходит в тиши и без лишних свидетелей, присутствуют другие женщины.
Я побежал к дому, увидел толпу, рассек ее… Мина лежала на спине в перепачканных простынях, ноги ее были раздвинуты. Что с ней?
Наши женщины рожали сидя на корточках. Подавая таз вперед, они принимали положение, которое помогало быстрее исторгнуть плод, и младенец сам находил путь наружу; они отдавались набегавшим волнам схваток. Чтобы сберечь силы, они держались за низкую балку или же вверялись мужу, который, усевшись позади, поддерживал роженицу под мышки. А ведь Мина упражнялась последние месяцы, она каждый день садилась на корточки, а затем плавно вставала.
И лишь когда роды проходили тяжело, женщину укладывали на спину и раздвигали ей ноги. Начинались охи, ахи, вопли и стоны, бывалые женщины заставляли несчастную тужиться – душераздирающее зрелище.
Мина – бледная, с закрытыми глазами, почти без сознания – всхлипывала среди безмолвных женщин.
7
Бесспорно, медведь казался нам царем зверей. Ни стая голодных волков, ни стадо свирепых кабанов не могли с ним сравниться. Ни один хищник не мог пошатнуть превосходство этого непобедимого великана, его смелость покоряла нас, его одиночество нас восхищало. Он царил в уединении, в стороне от своих подданных.
Мы очень гордились теми немногими свойствами, которые нас с ним роднили. Подобно ему, мы умели сидеть, ходить на задних конечностях, лазать по деревьям, танцевать, плавать; подобно ему, при ходьбе мы опирались на землю всей ступней; подобно ему, мы питались и мясом, и растительной пищей. Если б мы обросли шерстью, нас и вовсе было бы не отличить! Говорили, что наше семя схоже с его семенем, наша плоть вкусом напоминает его мясо, – хотя я не знал тех, кто убедился в этом сам.
Медведя тогда не считали стопоходящим обжорой, глупым, тупым и ленивым. В этом злословии повинна Христианская церковь. Она методично подавляла огромное, тысячелетиями крепившееся уважение, почтение к медведю, в некоторых племенах доходившее до культа. Она стала охотиться на языческого медведя не только в лесах, но и в людских головах. Никто не имел права конкурировать с Богом единым.
Как Церковь взялась за это? Для начала она водрузила на трон другого хищника. С Ближнего Востока христианство привело своего царя зверей – льва. Южный царь вытеснил царя северного. Льву можно было приписать любые достоинства, ведь это был зверь литературный, а не взятый из жизни: его не встречали ни в латинской Европе, ни в кельтской, ни в германской, ни в славянской, ни в скандинавской – разве что на Балканах. Чтобы оправдать эту подмену, духовенство твердило лишь о дурных свойствах медведя, о его слепой силе, медлительности, неповоротливости телесной и умственной, о его обжорстве, о его лености. Его даже трусом называли!
Потом его низвели в ранг крупной дичи и усиленно истребляли.
Потом его приручили и сделали посмешищем. Одинокий властитель унизился до балаганного шута. Он стал пленником презираемых Церковью бродячих артистов; посаженный на цепь, в наморднике, он развлекал ярмарочную публику между выступлениями акробатов, фокусников и чревовещателей. Бедняга зарабатывал свой скудный хлеб, делая нехитрые трюки и косолапо пританцовывая под хозяйской плеткой.
Для Озерного жителя видеть такое унижение было невыносимо. Я чувствовал себя почти так же униженным, как и он. Попирая его достоинство, оскорбляли и мои верования. Во всяком случае, не уважающий живое существо не уважает и меня.
8
У каждой эпохи свой цвет. Моя – красная. Этим цветом омыты все мои воспоминания. Мы научились добывать из почвы охру и готовить ее к использованию. Даже если оттенки варьировали от желтого до фиолетового, главным был красный. Иногда Природа сама дарила нам красную охру, иногда мы получали ее, нагревая желтую. Мы, люди, ценили красный цвет, столь редкий и в животном, и в растительном мире; он означал наше превосходство. Мы мазали красным наше оружие, утварь, одежду, стены, а иногда и тела, то целиком, то частично.
В XVIII веке возобновился интерес к древности; Библия утрачивала свой безусловный авторитет, и ученые заинтересовались древней историей. Не располагая текстами, они стали рыться в земле. Они занимаются этим до сих пор. Они находят следы нашего древнего мира и по ним его воссоздают. Не останавливаясь здесь на их успехах и ошибках, сообщаю об одном непременном выводе: они считают, что цвет неолита – красновато-коричневый. В фильмах, в книжных иллюстрациях, на музейных витринах преобладает коричневый. Почему? Они находят ископаемые следы в земле и, видимо, наделяют древнюю историю цветом земли.