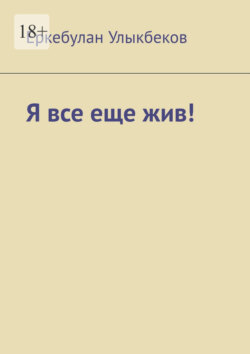Читать книгу Я все еще жив! - Еркебулан Улыкбеков - Страница 2
Я ВСЕ ЕЩЕ ЖИВ!
Предисловие
ОглавлениеМного воды утекло с тех пор, как я впервые помечтал о писательской судьбе. Утекло, потому что я пишу в стол, не считая соцсетей, и моя заветная мечта всё реже мелькает передо мной. Но вот незадача… один мудрец сказал, что, писать нужно, когда невозможно не писать – так и получается. Пишу разное: и стихи, даже, чаще всего стихи, и прозу порой, что выразилось в этом сборнике (вся проза была написана в 2020 году, когда карантин позволил закрыться в своей квартире, не стесняясь, что кто-нибудь ненароком упрекнет тебя в лени), и всё это благополучно публикуется в социальных сетях, где, честно говоря, мало кого интересуют мои творческие конвульсии, а временами и что-нибудь годное.
Почему «Я все еще жив»? Да, конечно я нужен близким, Богу, себе, но вот совсем не покидает чувство отчужденности, что порой так и хочется закричать согласно названию этого сборника. Вы, как и я, смею надеяться, заметили, что мы привыкли много улыбаться и жать друг другу руки, и очень мало говорить по душам. Смею заверить, человечество утратило эту способность… по крайнее мере, большая часть нас говорить по душам не умеет, или не хочет потому что боится. Что может обнаружить наша душа нашим глазам? Приятное, безусловно, будет, но, в большей степени, мы столкнемся с огромным заброшенным садом, где сорняки не пололи, потому что хозяин этого сада давно ушел в шумный город страстей, хлебов и красок. Ушел, но обещал вернуться. Мы так и бродим в городе этом, а сад наш цветет, не цветет – черт его знает. И вот представьте такую ситуацию: кто-то вдруг останавливает нас посреди грандиозного города и говорит: «А покажи мне, что ты есть?». Хамство, не так ли? Или же то самое – разговор по душам, о котором мы благополучно забыли? Что надо этому юродивому? Я? Я? Ну, я банкир… торговец… тамада… копирайтер… а еще недавно стал работать учителем, мне двадцать восемь исполнилось… что? Счастлив ли я?..
Наверно, я буду счастлив, когда вернусь домой, отчищу свой сад от скверны и приведу в порядок драгоценные цветочные клумбы, и чтобы малина цвела, яблоки, посажу клубнику, овощей каких-нибудь, и наконец-то пойму, что я бежал из дома, но нигде, кроме как в этом доме, в моей душе мне не будет покойно. Я могу свой дом построить, я же могу свой дом разрушить. Главный вопрос – на чем основан мой дом?
Я все еще жив
Вереница звёзд проплывала мимо. Спал я? Спал ли?.. сигнал. «Приди» точка. «Приди» точка. «Ты нужен нам» точка.
Именно в тот момент, когда я смотрел на землю с пятого этажа, пытаясь понять, больно ли, вереница светил шепнула мне это. «А ещё кому-нибудь я нужен?» точка. «Ты нужен нам» точка.
Я отошёл от окна. Дома никого. «Откуда вы? И давайте без точек!».
– Мы – Превосходные.
– От чего?
– В отличии от вас.
– Мы настолько плохи?
– Если бы не были настолько, то ты бы не услышал нас.
– А Фрейд на этот счёт имеет свою точку зрения… – смеюсь.
– И какую же? – смеются.
– Это психика защищается от пагубного давления одиночества.
– То есть Мы нереальны?
– Ну… а где Вы?
– В звёздах, что вереницей мчаться по свету и светом являются сами.
– С каких это Вы, б…, планет? Быть может это Сусанин?
– Кто, кто?
– Я говорю, не желаете ли Вы завести меня в белую горячку?
– Тяпни… – послышалось.
– Что?!
– Мы сказали, вряд ли, ты сломаешься от нашего контакта. Мы желаем тебе мира.
– Обоснуй!
– Не умирай.
– Спасибо…
– Ты спишь.
– Я был только что у окна и видел вереницу звёзд, глашатаями которых Вы являетесь.
– Открой глаза!
Открыл. Слюна бежит. Подушка пахнет ею. Иду на кухню пить купеческий. Звезды плывут. Говорят, это Маск запустил спутники. Интересно, есть ли жизнь на Марсе?
*
Я пью чай, который заварил себе сам. Раньше такой заваривала жена. Но после того, как я заболел раком простаты, она не примирилась с удручающим прогнозом врачей и ушла от меня. Поэтому я сам завариваю себе чай. Сижу, курю и думаю, почему это я вдруг решил поразмыслить о суициде? Ведь путь на тот свет заказан, не так ли? Наверняка, эти вспышки космических сигналов, голоса звездных посланцев, ни что иное, как побочный эффект от химиотерапий. Благо, что мне позволяют дорабатывать свой век, торгуя кредитами… Пастор наверняка не одобрил бы мое ремесло. Если капнуть глубже, то банковское дело может существовать лишь на прибыли, получаемой от нуждающихся потребителей, но, когда человеку хочется есть, он готов накинуть ярмо неудобоносимое на плечи кого угодно, хоть старушки с орденами. Была одна такая… Интересно, что с ней? Зачем ей кредит? Мало пенсии, чтобы есть или платить за коммуналку? Если так, то я благодетель, дарующий деньги других просящих… Вот увидите, пришлецы, наступит день и меня турнут, а платить за химию станет нечем, и я просто запрусь дома и буду ждать, пока Вы не материализуетесь из параллельной вселенной и не спасёте меня. А что там на счёт метемпсихоза? Может я переселюсь в тело новорожденного пса или мухи? В первом случае я буду получать тумаки от вредного хозяина или же есть дорогой корм от богача (и посему он добр), а во втором – сяду на кусок дерьма и… фу! К черту! Давайте лучше к Вам! Только не инженером, и не банкиром. Я хочу быть писателем… хочу писать Ваши легенды о любви. Описывать альтернативы наших роз, филигранно выписывать наименование морского бриза – сэрнар, рондегар, плезэниум – какие-нибудь мелодичные звуки побудят тысячи Превосходных к стихам, к страсти, но особенной страсти, которую мы не ведаем… И вообще, знаете ли Вы, что такое секс? Или это что-нибудь из области духовного слияния, когда ничто физиологическое не омрачает Ваш разум, а? Я мог бы считать себя и ламой, когда бы не мучительная тяга к женщинам… А вот и будильник… Глажу рубашку, галстук. Только бы не блевануть на людях… на часах ещё шесть. Есть время выпить ещё пару чашек. Подумать. Подумать, какого это там – откуда никто не возвращался и куда все мы так боимся уйти.
*
«Да, пускай! Пускай будет так! Пусть будете Вы, Превосходные! Никогда никого не разочаровывающие! Никого не предающие! Верующие в нас, в меня без остатка! И пусть даже по Фрейду! К чертовой матери страх галлюцинаций! Я желаю всем сердцем своим видеть эту реальность и никакой другой! Я выбираю знать, что есть Превосходные, есть лучшая жизнь!», – так я кубатурил за чашкой купеческого, сознавая, что и я не из этой, по всей видимости, планеты. Нибиру, быть может… О ней ведь писал Друнвало Мельхиседек? Откуда я знаю его? Откуда столько сведений про какие-то там исчезнувшие цивилизации? Тяга к ним… Крестный говорит, что это попытка укрыться от действительности. Что ж… это мое право.
И я лёг обратно в кроватку. До начала рабочего дня ещё три с половиной часа. Три с половиной, Карл! Это вечность, данная моей безграничной фантазии! И я буду создавать грандиозные миры с растениями целебными, водой слаще мёда, миры, где лев дружит с антилопой, а человек сыт и без хлеба, где араб обнимает еврея, а русский украинца, где не разводятся, где дети не умирают от голода, миры без священников и религий, без шовинизма и преступной злобы ко всему чуждому! Вот такие миры я буду создавать, в которых нет необходимости оправдывать жестокость и катаклизмы, поскольку их нет. Есть только безграничная, безусловная любовь, никто не умирает и не плачет…
Только я проспал… Блевота растекалась по подушке, и мама будила меня. Видимо, боялась, что я скончался.
– Мам, я не хочу умирать! Мам! – так я простонал и зарыдал как девчонка.
Она обняла меня крепко, как только могла, но не соврала как обычно делают в таком случае сказкой о том, что я обязательно поправлюсь. Не знаю… пожалуй, она чувствовала правду.
– Мама, ты веришь, что я поправлюсь?
– Я не знаю, сынок.
– Может это наказание за вероотступничество? – спросил я, лёжа в ванне, обессиленный, обезжизненный… почти.
– Так бы, наверное, сказал твой пастор! Но знаешь, что? Ну их всех нахуй! – выругалась мать и вышла из ванной. Она не хотела, чтобы я видел ее слабой.
– Мам, принеси мне сотку.
– Зачем она тебе? – кричала мама, и торопливо набирала скорую.
– Предупрежу в банке, что не смогу выйти. – ответил я, прекрасно понимая, что больше никогда в банке меня не будет. «Если ты, Всемогущий и Милосердный, все-таки соизволишь исцелить меня, клянусь, что я стану писателем! Клянусь, что я больше никогда никого не обману и не буду совсем торговать, ни кредитами, ничем бы то ни было! Только, пожалуйста, Иисусе, дай мне исцеление», – так вырвалось, что я опешил. Не зря видимо, говорят, что к молитве побуждает Святой Дух. Может Превосходные и есть Святой Дух, только более модифицированный что ли?
– Пора-пора-порадуемся на своём веку
Красавице и кубку, счастливому клинку!
Пока-пока-покачивая перьями на шляпах,
Судьбе не раз шепнём мерсибоку! – распелся и три раза шлепнул по воде. Затем попел Магомаева, Группу Крови, Мой Рок-Ролл. «Черт возьми! А я оказывается хорошо пою. Нет, не только писателем, я бы стал писать песни и исполнял бы их… слышишь Иисусе? Превосходные?». Молчание. И даже мамы не слышно. А нет, вру, в вентиляции слышно, как воробушек чирикает. Мы живем на пятом этаже, последнем. Видимо воробушек решил свить себе гнездо на чердаке. Только бы грубые электромонтёры не раздавили яйца… да, сейчас бы глазунью из трёх яиц, с бекончиком, белой фасолью в томатном соусе, хлебный квас… м-м-м… мурлычет, и даже мысль о еде выворачивает. Б…! Просто поесть! Познакомиться со студенткой магистратуры, снова махнуть в Паттайю! Но не эта дрянь, Господи! За какие дела?
– С нами тебе будет намного лучше, Макс! – шепнули Они.
– Где Вы?
– Мы везде. Мы наблюдали за тобой всегда, и ты назначен для очень важного дела.
– Так возьмите меня сейчас!
– Слышишь?
– Что?
– Макс, ты что, не слышишь? Открой дверь! – кричала испуганная мать, – скорая приехала. Все, хватит! Никакой работы! Ты будешь лежать в больнице!
– Мама, дай позвонить в банк.
– Я позвонила. Больше ты там не работаешь.
«Иисусе, ты услышал мои молитвы!».
*
Медсестра была довольно симпатичной. Но ей наверняка было неприятно ухаживать за нами… подгузники эти, слюнявчики, капельницы, ведерки на всякий случай…
А имя какое! София…
– Вы знаете как переводится ваше имя? – спросил я на одной из процедур. Она посмотрела на меня бездонными чёрными глазами и не ответила, – знаете… теперь ведь всё равно, так что скажу. Если бы я не умирал, то приударил бы за вами, София!
Она улыбнулась и на щечках ее показались дивные ямочки.
– София – это мудрость в переводе с древнегреческого.
– Оу, так вы у нас знаток древних языков? Может и латинский знаете?
– In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, – сказал я благоговейно и тихо.
– Amen. – шепнула она.
– Знаете, если бы я не умирал, то сделал бы вам предложение.
– Вы думаете, что смерть – это конец, но при этом сказали то, что сказали. Как так?
– А Вы не допускаете, что всё это лишь попытка утешить себя?
– Наступит час, Макс, и вы сами потребуете исповедания и причастия. Просто так на латинском не говорят… мне пора. О нашей беседе ни слова – главврач убьёт.
– Договорились, мудрейшая!
И она ушла. Одно из немногих обстоятельств, утешающих меня здесь, в пропитанном медикаментами учреждении, где и тело твоё, и одежда и самый дух через неделю пребывания станут вонять больницей.
– Пора сдаваться, Макс. Тебя никто не осудит.
– Слышал бы Вас мой босс. Может быть Вы не в курсе, но мы – земляне помешаны на мотивационных книгах, но, впрочем, для меня все они – аферисты.
– Макс, пора сдаваться…
– А что если я не хочу?
– Смерть – это только начало…
– А что дальше? Дальше легче? Дальше лучше? Дальше тише? Спокойней? Радостней? Мне нужны гарантии, что я иду в лучший мир! Гарантии!!! – вскрикнул я неимоверно. Сбежались медсестры.
– София где?
– Она занята. Что-нибудь передать?
– Скажите ей одно – credo…
– Что это значит?
– Просто так и передайте. Она поймёт.
«Credo… In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti… Amen», – так я шепнул себе и глаза мои дрогнули. Так тихо стало и я услышал шелест листвы за окном, переливающейся золотистой краской вечернего мая, щебетание птиц окутало мой слух – вот они мои гарантии, – это бесконечное небо над просторами родного города, эти монументальные краски всего и вся, огромные груди земли, альпинисты на них, ледники грудей, горные реки, нектары цветочные, пчёлки трудящиеся, мирные люди…
*
Всех пациентов собрали в «холле развлечений». Сперва мы посмотрели «Пролетая над гнездом кукушки», и остроумный старик Дэн сравнил меня с Макмерфи. «Убью», – ответил я. «Да брось, чего ты ломаешься, как целка. Зато сумасшедшие живут!», – констатировал Дэн и засмеялся своим фирменным ослиным гоготанием. Признаться, я не обижался на его шуточки. Напротив. Даже завидовал. Ему ни по чем. Иной раз мне казалось, что Дэн в больнице стал по-настоящему счастливым человеком, знающим точно, что скоро наступит его час. А это значит, что вне стен нашего братского смертного одра он был глубоко одинок и жизнь его тяготила… Так мне иногда казалось. Пусть смеётся сколько захочет – со смертника все взятки гладки.
Затем промелькнул какой-то посредственный боевик. Кто-то попросил выключить его, но большинству он оказался по вкусу. Да и мне не охота было заморачиваться.
Вдруг, свет погас… «Ну нет. Ради Бога! Только не это!».
– С днём рождения тебя!
С днём рождения тебя!
С днём рождения, Макс! – закричали все.
Пришлось притвориться, что мне очень приятно. Но когда праздничный торт внесла лучезарная София, действительно стало очень приятно.
Мы с ней заметно сблизились. Кто знает, как бы у нас сложилось при иных обстоятельствах… Кто-то врубил «Sunshine reggie»… София подошла ко мне и протянула руку.
– Белый танец, мистер всезнайка, – сказала она едва слышно, а затем наклонилась к моему уху, – я понимаю, что это в тягость, но не откажешь ведь леди?
– Ну что ж, пеняй на себя. Что я могу под регги? А кто будет держать капельницу?
– Вместе подержим.
– Давай Макс! Не будь целочкой! – кричал Дэн своё любимое слово.
Мы танцевали медленный танец. Целую песню я чувствовал женское тепло и аромат недорогих, но вкусных, да что там, божественных духов… я чувствовал Софию. Интересно, чувствовала ли она меня. Я заглянул в ее глаза. Блестели, как сапфиры под луной и ничего в них разгадать было нельзя… Рано или поздно регги должен был закончиться. София поддержала меня, и я сел. Я сел и уставился на неё. Красота спасёт мир от рака. Хотя бы поможет забыть эту дрянь. Я смотрел в ее глаза и пытался понять, что она чувствует. «Чувствовала ли ты меня, София?» – спрашивал я мысленно, «Да… я чувствовала, и я не хочу, чтобы ты страдал из-за болезни… или же из-за меня», – ответили ее глаза и они пристально задержались на мне и увидели, как я не выдержал ее красоты и прошептал – «я не хочу умирать, Софи», и они прочли каждое слово по губам, а затем увидели мои слёзы. Она подошла ко мне и дала свой платочек.
– Что ж, рыцарь заслужил, надо полагать? – спросил я риторически и взял его. Я прижал его ко рту, крепко поцеловал и держал так, пока она не отняла мою руку от влажных и соленых губ.
– Ты мне нравишься, Макс. Правда. Мне жалко тебя по-человечески. Но ты мне нравишься, как мужчина.
– Credo, Софи… верю и верую…
София больше не беспокоила меня в тот вечер.
*
День рождения перестал быть для меня праздником не потому что я оказался в больнице, но я и вправду потерял смысл праздновать его ещё когда был здоров. Не сразу, конечно. Сперва, осознав незначительность этого дня, я старался звать как можно меньше людей. Затем, ограничивался всего одним человеком – той или иной девушкой за которой пытался ухаживать (чаще всего безуспешно). Девушки… женщины… чего они от меня хотели? Многие твердили, что мужчину должны украшать поступки, но что они подразумевают под этим? Я задавал этот вопрос; кто-то честно говорил, что не знает, что именно нужно, но однозначно, не слова, и тогда я спрашивал, считают ли они стихотворения поступками… смотрели на меня, как правило, как на дурака.
Правда была одна… как же ее звали… Не суть. Она ответила, что для неё было бы счастьем получить стихотворение и я прочёл ей «Чудное мгновение» маэстро Александра. Щечки ее вспыхнули розовым цветом, глазки заблестели… На следующий день мы переспали. А ещё через день я расстался с ней. Прошло уже три года, как это случилось, но мне до сих пор стыдно перед ней. О, если бы она пришла сюда или заглянула бы случайно – я бы многое отдал для того, чтобы извиниться за причинённое разочарование. Вот как бывает. И знать ведь не дано, что с ней произошло после этого…
Но сказать по правде – обходиться так с женщинами – это ещё полбеды. Сколько же лицемерия необходимо проявлять в кругу коллег: отвечать на гнусные пошлости, притворяться таким же бравым самцом, каким и должен быть «свой пацан»… и все ради чего? Только ради того, чтобы тебя не осудили. Такова зависимость, пожалуй, самая величайшая – «а что подумают люди». Алё! Я не хочу трахаться без любви! Я не желаю морочить голову женщинам! – так кричит всё человеческое внутри, но улыбка необходимого притворства не сходит с лица, когда рядом льётся что-то наподобие душевного семяизвержения, этакая дрочка фантазии. Отрубить бы вам…
Глупо наверно, но как же меня утешает, что в больнице всем похрен до моих чувств. Лежи себе, плюйся, исповедуйся в потолок, в общем, делай что хочешь, но самое главное без лицемерия. Наедине со смертью и периодическими посещениями Софии. О, моя благодатная роза, как хорошо, что ты не встретилась мне тогда, когда моим компасом был х…! Но, впрочем, я слишком самонадеян. С чего бы мудрой, чистой, бесподобно прелестной Софии поддаваться на мои фрейдовские ухищрения? То-то и оно – Sophia! Она проплыла бы мимо как невозмутимый караван и я – тушканчик остался бы с носом, в то время, как величественные корабли пустыни с несметными богатствами востока и запада, шли бы к своему оазису.
Но сейчас… зачем ей эти мучения? Приговор вынесен. К чему это? Зачем она начала эту историю, финал которой безнадежен и близок? Софушка, ангел мой! Отрекись, пока не поздно и будь счастлива со здоровым, полным жизненной силы и надежды мужчиной!
*
Утром меня разбудил знакомый аромат.
– Как называются твои духи? – спросил я, едва проснувшись.
– Я не знаю. Мне их подарила мама. Я не заморачиваюсь. Пахнет вкусно – вот и славно. – ответила София и бережно разместила меня в кровати в полулежащее состояние.
– Как зовут твою маму?
– Виктория.
– Я бы хотел с ней познакомиться… – сказал я и нахмурился. София уловила мой ход мыслей и ответила: – Никогда не теряй надежды, Макс. Быть может вы ещё подружитесь.
– Быть может… – ответил я – пожалуйста, позволь мне покурить.
– Это вряд ли. Ты уже забыл, как тебя рвало от предыдущей сигареты?
– Нет, не забыл. Но я привык. А, папа? Как зовут твоего отца?
– Его звали Эрнест. – ответила она без колебаний.
– Прости…
– Ничего. Это было совсем давно.
– Как ушёл твой отец? – я понимал, что задавать подобные вопросы нехорошо, но эта тема, учитывая мое положение, сильно меня волновала. София долго не отвечала. Поставила мне капельницу, настроила ее и только, когда я окликнул ее, она произнесла:
– Мой папа умер от рака, когда мне было девять. С тех пор я решила посвятить себя борьбе с этой болезнью.
– Мне очень жаль, Софи.
– Вот ты при первом нашем общении сказал кое-что на латинском… но как, если твой бог существует, он допустил такие беды? Ни в чем не повинные люди тяжко страдают, страдают их родные… и я знаю, что ты ответишь – мы расплачиваемся за грехи своих отцов. Но разве это не жестоко?
– Я не отвечу так Софи.
– Но в этого бога ты веришь, так ведь?
– Я много размышлял об этом и уже совсем запутался.
– Макс, я скажу, как есть, я не верю, чтобы один народ располагал непреложной истиной. На моих руках гибли всякие: и мусульмане, и иудеи, и христиане, и атеисты… а теперь…
– Говори.
– Разве вера определяет дальнейший путь человека? А если папуас не слышал об Иисусе? Возьми младенца умершего, к примеру. Что он успел натворить и во что не успел поверить? Все так неоднозначно… – промолвила София и вынула пачку сигарет, достала две и одну протянула мне.
– С каких это пор ты куришь?
– Я всегда курила, но стеснялась тебя.
– Софи, ты не думаешь, что я причиню тебе много страданий?
– Любовь, как и родителей, не выбирают.
Она вышла на балкон покурить. Я винил себя за то, что задел ее старую рану. Мне было досадно. Досадно, поскольку ко мне закралось сомнение – быть может это не любовь, а потребность спасти кого-либо? Но я не стал развивать эту мысль.
София вошла. Я смотрел на неё очень внимательно, и она смотрела на меня. Вероятно, каждый мускул моего лица выказывал душевное напряжение. Каким-то чудом София раскусила мое сомнение.
– Даже не смей так думать! – сказала она убежденно и твёрдо. Подошла ко мне, поцеловала в лоб и ушла, пообещав вернуться после обеда.
Зазвонил мобильник.
– Привет, мам. Да, все в порядке. Мне ничего не нужно, мам. Здесь вкусно кормят. – отвечал я. Мама ничего не знала о Софии и не знала, что она каждый день приносит мне еду, – Что говоришь? Я спокоен потому что здесь мне стало легче. Нет, дело не в химии, тут кое-что другое… потом расскажу. Операция послезавтра, как я и говорил. Хорошо. Ничего страшного – придёшь послезавтра. Я понимаю. Целую. Пока…
– Макс, – шепнули Они.
– Давненько вас не было.
– Все будет хорошо.
– Все будет ещё лучше, потому что уже хорошо!
*
На следующий день София отдыхала. Она жила со своей мамой в одноэтажном, довольно милом доме, в пригороде. Добираться до работы было не так-то просто, но не для самоотверженной Софии. Она много читала в свободное время, в основном медицинскую литературу, но порой и классику. Больше всего она любила «Собор Парижской Богоматери» Гюго. Эта была ее первая художественная книга, с которой она увлеклась регулярным чтением. Когда-то, когда Софии было семнадцать, ее мама посоветовала ей прочесть эту книгу. Прочитав, София спросила: «Неужели я такая же опасная, как Эсмеральда?», на что Виктория – интеллигентная женщина, преподаватель французского, ответила: «Ты кроткая и красивая, Эсмеральда же… вернее ее красота – это хладнокровный убийца. У тебя гораздо больше шансов стать счастливой женщиной»…
– Наконец-то у тебя выходной, милая. – констатировала Виктория за обедом, – как тебе спагетти?
– Очень вкусно мама. Спасибо. – ответила София довольно сухо.
– Ты словно не рада провести со мной один выходной. – улыбнулась Виктория, – это конечно не мое дело, но ты и вправду веришь, что твой молодой человек имеет шансы пойти на поправку?
– Почему ты спрашиваешь?
– Так ты веришь? – переспросила Виктория, глядя на уставшее и печальное лицо своей дочери.
– Я надеюсь… Операция пройдёт завтра. Я и не думала, что со мной может произойти нечто подобное…
– Это называется любовь, София. Ты счастливый человек, потому что ты умеешь любить и жертвовать собой ради любви. Знала бы ты сколько мучений испытывает человек, теряя любимого. – сказала Виктория и глаза ее увлажнились. Ей было жалко и себя, и своего покойного мужа, и дочь, которой, вероятно, предстоит тяжёлая утрата, – ох, милая моя, если бы мы могли выбирать, выбрали бы мы страдание? Или всякий выбор предрекает сердечные муки?.. Бедная моя, доченька! Разве судьба не жестока?
– Мама, я ещё никого не похоронила и прошу, сделай так же. Не спеши с выводами.
– Я лишь хочу, чтобы ты была счастлива!
– А я хочу, чтобы ты не тревожилась понапрасну. Мне не следовало тебе рассказывать о нем.
– Но ведь я твой лучший друг, Софи. – сказала мать и засияла. София поглядела на свою мать и увидела в ней, как это часто бывает в моменты душевных порывов Виктории, ее тень былой яркой, сбивающей с ног красоты. В моменты, когда Виктория обнажала душу, лицо ее словно бы освещалось и ее украшали и морщины, и седина, и широкие зелёные глаза. Дочь пошла в отца. Но и дочь и мать были красивы, по-разному.
– Мне очень повезло с тобой, мама. – сказала София и прикоснулась к тёплой и тонкой материнской кисти, – спагетти великолепны!
– Ну иди! Поговори с ним.
Уединившись в комнате, София позвонила мне.
– Привет малыш. Как самочувствие?
– Все в порядке. Немного волнуюсь. Но в общем, все хорошо.
– Потерпи. Завтра я зайду к тебе сразу. Меня подменят, так что мы проведём много часов вместе. Да, и я принесу мамины спагетти.
– Большое спасибо.
– Знаешь, Макс, я давно хотела тебе сказать… мама знает о тебе.
– Она не против?
– Совсем нет. Мое отношение к любви, видимо, передалось мне от мамы.
– И как же ты относишься к любви?
– Купидон разит кого пожелает, не спрашивая нашего позволения. Чаще всего он разит одного, а второй ни о чем не догадывается или же не хочет принять чувства первого… Но, если Купидон видит два чистых и добрых сердца, он скрепляет их своей волшебной стрелой навеки.
– Но, если так окажется, что первый безвременно уходит, второму нужно продолжать жить и…
– Стоп! Я не желаю это слышать. – отрезала София. Я слышал ее частое дыхание. Она гневалась на мой пессимизм. Пришлось притвориться.
– Да, ты права, Софи. Так помолимся же Зевсу о моем спасении.
– Не смейся. Верь, Макс! Ты поправишься! – настаивал на своём мой ангел. Разумеется, она знала, что свой пессимистичный прогноз я не изменю. Но она верила слишком сильно, чтобы мне хотя бы временами заражаться ее убежденностью и ликовать от счастья, которое, по всей видимости я познал лишь к концу жизни.
*
Она пришла ко мне ещё когда я спал. Смотрела на меня, держа за руку. Интересно, как же я не почувствовал ее прикосновения.
Когда я открыл глаза, первое что увидел, это коленопреклоненную Софию перед моей кроватью. Она молилась. Я не стал прерывать.
– Боже, пожалуйста, сохрани его для меня! Пусть у нас будет семья, и дети, и внуки, и старость, и споры, все-все, что должно быть в нормальной семье! Прошу тебя, милосердный! – шептала София.
– Аминь. – ответил я на ее молитву, когда она завершила.
– Макс, возвращайся сегодня. Я не шучу.
– Ну, Софушка, если что-нибудь будет зависеть от меня, то я приложу максимум усилий.
– Если бы тебе не было больно, то я бы набросилась на тебя и плевать на посторонних! – воскликнула София и крепко поцеловала меня. Кто-то постучал, – занято! Кто там?
– Это Дэн. Смотрю, вы там делом занялись. поздравляю, Макс! – старик как всегда нашёл новый повод для шутки, но все-таки ему хватило такта уйти.
– Он не так уж плох, когда привыкнешь. Часто подбадривал меня. Видимо и сейчас захотел развлечь.
– Нет уж. Предстоящие часы только наши! Я обо всем договорилась. – сказала София, взглядывая на часы. – я надушилась твоим любимым парфюмом. Чувствуешь?
– Мой любимый парфюм – это ты.
– Кто бы сомневался. И все же, веселье – хорошо, но соблюдать процедуры необходимо. Поворачивайся. Я поставлю тебе укол.
– Слушаюсь, сэр! – боли я не почувствовал.
– Хочешь поспать?
– Помилуй! Я рискую заснуть навеки и посему в столь приятном обществе сон считаю недопустимой роскошью.
– Вот и славно. Но ты подвинься, я хочу лечь рядом.
И мы пролежали так часа два. Болтали о всякой всячине, интуитивно понимая, что отпущенные часы – не время для серьезных разговоров. Затем, София накормила меня бесподобным спагетти. Признаться, я уже забыл вкус насыщенной, жирной пищи.
– И как тебе, после наших-то баланд?
– Отменно! Но и ваши каши мне по вкусу, особенно овсяная.
– В следующий раз принесу домашнюю овсянку.
– И сколько же мне ещё торчать тут?
– А как ты хотел?
– Ну… скажем, очнулся – секс, наркотики и рок-н-рол.
– Будет кое-что получше. Потерпи.
– И что же это будет?
– Ну, сперва я не слезу с тебя ближайшие пять лет. Потом мы нарожаем кучу детей, ты все-таки станешь писать книги, а я буду умелой домохозяйкой. Идёт?
– Звучит заманчиво.
Она принесла ноутбук, и мы посмотрели две мелодрамы. Я конечно их не люблю, но в обнимку с любимой можно смотреть все, что угодно. Периодически я смотрел в окно и размышлял о возможной смерти, которая мне предстоит. София и думать об этом не желала. Я поймал себя на мысли, что мне стыдно перед ней, словно я не имел права любить ее. Имеет ли право любить мёртвый? Что толку от его любви? Что толку от моей любви? Пожалуй, София привязалась ко мне слишком… и я буду виноват, если меня не станет, виноват в ее томительных годах одиночества, виноват в том, что возможно даже сейчас она может встретить кого-то с перспективой будущего, которое в моем случае держится только на одной вере нескольких неравнодушных ко мне людей. Достаточно ли веры для того, чтобы знать, что завтра мир не лишится ещё одного малозначительного в масштабах этого мира человека?..
Я заметил интересную тенденцию… Они перестали выходить со мной на связь. Сперва реже. А по мере нашего сближения с Софи и вовсе исчезли. Теперь только воспоминание. Может быть любовь с примесью больничных запахов не так уж вредна?
Зазвенел будильник. Фильм ещё не окончился. Это был «Титаник». Джек учил Роуз плеваться.
– Досмотрим после. – сказала плачущая Софи.
– Досмотрим…
Она встала, навела порядок и поставила мне укол. Вошла ее коллега с предупреждением о шедшей к нам бригаде анестезиологов.
– Макс, я буду ждать тебя сегодня здесь, сколько бы времени не заняла операция, потому что я знаю, что ты вернёшься ко мне.
Вошла бригада.
– Как вы себя чувствуете, молодой человек? – спросил видимо главный.
– К бою готов.
– Правильный настрой. – ответил он, измеряя мой пульс, – София, вы уже здесь не понадобитесь. – обратился он к Софии, которая стояла у двери.
– Да, конечно. Желаю вам удачи, Макс. – таковы были последние слова Софии.
– У вас есть ещё полчаса. По-моему, ваша мама дожидается вас. – сказал главный.
– Жду.
Наедине с мамой я скис. Не выдержал напора страха и жалости к себе. И мама не выдержала. Она обняла меня и все время твердила, что я поправлюсь, женюсь и ещё порадую ее внуками. Конечно, мам, я бы этого хотел. Самое простое становится необыкновенным, банальность оборачивается душевной потребностью. Знал ли я что буду когда-нибудь скучать по времени своего безденежья, по трудовым будням, по университету и по старым тревогам? А теперь всё это, как сон, который уже никогда не повторится. Даже если я выкарабкаюсь, я не буду таким как прежде. Если это урок, Боже, то чему я должен научиться? Ценить жизнь, вероятно. Да, некоторым людям требуется многое, чтобы понять, насколько же наша жизнь ценна.
Меня катят в операционную. Мама и София провожают меня. Софии уже плевать, узнает ли о наших отношениях ее начальство. Она плачет и следует за мной. Перед тем, как дверь операционной закрылась, я видел, как мама о чем-то говорила с ней, затем они обнялись… затем дверь закрылась.
– Итак, Макс, сосчитайте медленно до десяти. Наркоз мы уже ввели.
– Начинать?
– Да, уже можно.
– Хорошо… один, два, три, четыре, пять, шесть, сем… вос…
Тишина окутала меня. Бесконечное небо развернулось надо мной, и я оказался посреди макового поля. Солнце заходило и золотило все вокруг. Не было слышно ни ветра, ни птиц, ни шелеста травы. Словно поле это и солнце, и небо, и горизонт были одной бесконечной комнатой. Я почувствовал чьё-то присутствие со спины и обернулся. Это были Они… высокие, сребролицые, в синем с головы до пят…
*
О чем же мне рассказать вам? Очнулся ли я после операции? Смотря, что вы имеете в виду… Ученые говорят, что после биологической смерти человека, его мозг функционирует около часа. За это время было много чего интересного…
Как оказалось, мой дом теперь находится в горах, но до него можно добраться на автобусе. Я был совершенно здоров и сидел в уютной маленькой кофейне, дожидаясь с работы Софии. Когда она вышла, я крепко ее поцеловал и мы, бесконечно счастливые, отправились домой.
У нас хороший двухэтажный особняк, верный пёс – немецкая овчарка, камин, автомобиль, хотя я не любитель пользоваться им. Мама живет с нами. Вернувшись домой в этот бесподобный день, мы обнаружили, что мама приготовила нам чудесный пирог с курицей и грибами. Мы ели, смеялись, в общем, наслаждались жизнью…
– Ты хочешь, чтобы так было?
– Куда всё подевалось? Где мама? София? – недоуменно спрашивал я Незнакомца в синем. Вокруг не было ничего, лишь белый цвет. Пустота. Мы.
– Этого и не было. В настоящую минуту тебя пытаются вернуть к жизни. – ответил Незнакомец очень спокойно и вкрадчиво.
– Значит Вы существуете?
– Ещё бы.
– И что дальше?
Незнакомец помолчал и через минуту сказал:
– Почему же ты так и не начал писать?
– Я не знаю. Это очень сложно.
– Ты хочешь, чтобы твоя жизнь продолжилась? Говори правду.
Почему-то я задумался. Не знаю, что навело меня на сомнение – действительно ли я хочу продолжить жить, но что-то определённо заставляло меня не спешить с ответом.
– А где мы сейчас находимся?
– Это вакуум. Абсолютное ничто.
– Я рискую остаться здесь?
– Макс… ты не ответил на вопрос.
– Да, я хочу жить. – ответил я наконец. Незнакомец будто обрадовался моему ответу.
– В таком случае мы заключим сделку, полезную прежде всего для тебя. – объявил Он, – ты будешь писателем, но сперва ты научишься слышать и слушать свою душу, ценить жизнь, себя и время, что тебе отпущено. Задумайся, Макс, что же ты сможешь написать, если всё это время тебе была безразлична собственная судьба?
– Как же так? Безразлична… Как вы так говорите? – возмутился я.
– А разве это не так? Разве тебе не было всё равно как пройдёт каждый день, дарованный тебе? Разве ты не заставлял себя жить? Давай так. Лучше не спорь. Мы желаем тебе только блага. – заключил Незнакомец, – так ты готов заключить сделку?
– Да.
– В таком случае ровно через пять минут тебя приведут обратно. А пока спроси всё, что тебя интересует.
– Ты мой ангел-хранитель? – спросил я. Незнакомец улыбнулся, но не ответил.
– Упс. Я ошибся в расчетах. Тебе пора, Макс. – вымолвил Незнакомец, в то время как пространство вокруг начало сужаться. Я не мог понять и увидеть происходящий процесс, но я чувствовал каждой клеткой, что этот невообразимый белый мир, это Ничто сокращается с каждой секундой и вероятно скоро исчезнет.
– Как я стану писателем? – торопился я.
– Слушай свою душу и никогда не предавай ее! Всё получится… – слышал я наставление испаряющегося в белом пространстве Незнакомца.
***
Я в горах. Наш дом великолепен. Мы едим пирог с курицей и грибами. Никуда не нужно спешить. Все, чем мне необходимо заниматься – это писать, писать, писать…
София рядом. Мама рядом. Настоящие ли мы? Мне всё равно. Главное – это счастье, которое мы испытываем… и, если Они скажут мне, что это Рай – я поверю. Да. Меня вернули к жизни. То, что было, теперь не имеет никакого значения. Мы едим пирог с курицей и грибами. Мы счастливы. Наш дом великолепен. Горы… речушка шумит… вечность…
Репетитор
Он давно не слушает классику, не ходит в кино, не читает хороших книг. Все, что нужно он уже услышал, увидел и прочёл. Ему говорили, что классика в различных проявлениях полезна в развитии чувств, мол, человек от этого богаче. Но со временем он убедился, что это богатство необходимо для того, кто им обладает, а, что до остальных, то их это богатство (души наверно), в лучшем случае, не интересует.
Он редко выходил из дома – только за продуктами. Работа была им выучена до автоматизма. Он принимал учеников у себя дома и преподавал английский. На скромную, неброскую жизнь сорокалетнего холостяка ему хватало.
Но, если быть предельно честным, то, не всё высокочувственное его покинуло. Книги? Да, они были. Но больше всего он боялся заглянуть в свою очень старую тетрадь со стихотворениями и ценными мыслями.
Что же так пугало в этой тетради? Всякий раз, ловя себя на мысли, что было бы интересно взглянуть на свои записи, он морщился и поспешно отходил от книжной полки, где пылилась эта тетрадь, между малым сборником сочинений Довлатова и «Персидскими письмами». Ну, казалось бы, возьми и выбрось. Но что-то его удерживало… Неужели я был таким когда-то, думал он, и вновь погружался в избранную амнезию от всех попыток сознания пробудить в нем былые чувства.
Человек должен быть жестким, говорил он себе, говорил так до тех пор, пока к нему не записалась одна очень милая ученица, только что окончившая ВУЗ и желавшая подтянуть знание английского.
Она была очень красивой, очень. И если бы не его привычка не рассматривать учеников, он бы с порога углядел в ней то прекрасное, что хранит в себе женская молодость.
– Вы действительно окончили Ин. Яз? – спросил он на первом занятии.
– Да. Действительно.
– Но вы ведь совсем не знаете языка? Как же вам выдали диплом?
– А я училась на международные отношения, – ответила она без стеснения.
– Хотите сказать, что в вашей профессии можно обойтись без английского?
– Почему же? А зачем я тогда записалась к вам?
«И зачем она со мной кокетничает?», – подумал он.
– Ну что ж, преступим?
– Я вся – внимание!
Когда урок был окончен, он все же взглянул на неё. Вдруг, что-то екнуло в груди и ее глубокие карие озёра расплескались внутри. Но по старой привычке, он отмахнулся от возникшей вспышки, как от старых воспоминаний и поспешно проводил ее до выхода.
***
На втором занятии, он все же оглядел ее у порога. В этот раз его поразила белизна ее кожи и чрезвычайная красота пальцев рук. «Ну, старый извращенец! Прекрати», – приказал он себе и лицо его отразило напряжение.
– С вами все в порядке?
– Да, все хорошо. Это гипертония, не тревожьтесь.
– Может мы перенесём наш урок?
– Ни в коем случае!
Спустя полчаса второго занятия, он успокаивал ее, поскольку она не выдержала напора требовательности к ее воле изучить язык.
– Ну, не тревожьтесь вы так, ради бога! Да я… я ведь… из лучших побуждений только.
– Я не привыкла к такому.
– Да как же вас учили?
– Как ни странно в университете были лояльны.
– Вы очень красивы. – стоило ему это сказать, как дрожь охватила все его тело, казалось сердце должно было выпрыгнуть с места.
– Спасибо. – ответила она, никак не смутившись.
«Что за чудо. Что за ангел!», – подумал он и ненароком задержал взор на своей старой тетради со стихотворениями.
– К следующему уроку я хочу кое-что подарить вам.
– Да? Спасибо! И что же это?
– Как вам сказать… на первый взгляд безделушка, но для меня она ценна.
– Вы что? Я оценю! Правда, правда! Подарите сейчас, если это у вас.
Он с минуту думал об этом и решил, что так, пожалуй, будет даже лучше.
– Подарю сейчас. Только позвольте кое-что добавить?
– Да, конечно.
Он попросил ее закрыть глаза. Взял тетрадь и прошёл с ней в спальню. И там, о, боги, он написал… стихотворение. Когда он вошёл бесшумно в гостиную, она все ещё не открывала глаз. Он стоял и смотрел на неё, и вдыхал запах ее прекрасного тела.
– Откройте глаза. – она открыла их, – то, что я подарю – это я. Это моя душа, жизнь, если угодно.
Она очень смутилась, но поблагодарила.
Он проводил ее, счастливый, наконец-то счастливый за долгое-долгое время. Его бледное лицо дрожало словно беспокойная морская гладь. Больше он ее не увидит. И забудет раз и навсегда о своей тетради.
Она
День первый
Новости пестрили пугающими прогнозами. Кто-то из эзотериков, а может, и пророков, выдал следующее: «Грядет апокалипсис. Антихрист грядет». Правда, Яков не обратил на это внимания. Не то чтобы он был нерелигиозен, но он делал то, что предписано церковью, по старой привычке – быть трепетным к Богу и послушным наставлениям отца, который, однако, не гнушался ремня и пощечины, дабы наставить сына на путь истинный. Отец Якова нередко говорил, что лично читал в Библии о правильности своих методов воспитания, что и цветных полагается наказывать, ибо черное – есть зло.