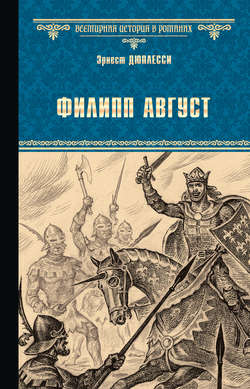Читать книгу Филипп Август - Эрнест Дюплесси - Страница 6
Глава IV
ОглавлениеС глубоким беспокойством и с невыразимой тоской наблюдал Филипп Август, как на горизонте поднимались две грозовые тучи и приближались мало-помалу, все увеличиваясь – то были опасности, о которых говорил ему Герен: возмущение вассалов и борьба с папой.
Но если он был одарен быстрым и проницательным взглядом, то обладал также находчивым умом и неукротимым мужеством. Чувствуя, что борьба неизбежна, король давно к ней приготовился, но не обнаруживал своих приготовлений и, напротив, скрывал их под беззаботным видом, который обманул самых хитрых людей.
Празднества, турниры, развлечения всякого рода сменялись при дворе, и Филипп, по наружности занятый только своей молодой супругой, по-видимому, хотел отметить свой новый союз длинным рядом беспрерывно возобновляемых удовольствий. Он вернулся в Париж, где условия позволяли с большей простотой совмещать удовольствия и дела. Через три недели после визита Герена, прекрасным весенним вечером он сидел у окна в своем старом дворце и дышал свежим воздухом реки, серьезно рассуждая со своей милой Агнессой о приготовлениях к пиру. Он записывал имена приглашенных. Агнесса стояла, облокотившись о спинку его кресла.
Филипп славился вкусом в устройствах празднеств.
В это время вошел Герен. Он стал рядом с королем и стал ждать.
– Еще пир, государь, – сказал епископ, оставшись наедине с королем и Агнессой тем серьезным тоном, который превращает замечание в упрек.
– Да, мой добрый Герен, – отвечал Филипп, улыбаясь, – еще пир в большой зале дворца, на котором, я надеюсь, и вы будете присутствовать, а через два дня турнир в Шампо. Посмотрите на него, милая Агнесса, точно я ему говорю не о празднестве, а об общественном бедствии и приглашаю его на похороны?
– На похороны вашей казны, государь, и о бедствии ваших финансов, – отвечал Герен тем же серьезным и печальным тоном.
– Хорошо, хорошо, я знаю, что вы хотите сказать, – продолжал король с веселым видом. – Но у меня есть средства, о которых вы не знаете, секретная казна, откуда золота хватит мне надолго.
– В самом деле, государь? Тогда эти средства явились очень кстати, потому что затруднения наши велики. Могу я спросить вас, где находится эта казна?
– Где она находится? В сундуках моих возмутившихся вассалов. И вот ключ, который отворит мне все эти сундуки! – прибавил он, положив руку на эфес.
– Если вы употребите эту казну на благо вашего королевства и на облегчение вашего народа, она может быть чрезвычайно полезна для вас, государь, но если вы ее расточите…
– На празднества и увеселения, хочешь ты сказать, – перебил Филипп, – то заставлю моих подданных роптать, и мои друзья покинут меня. Полноте, Герен, бросьте эти меланхолические мысли и поговорим о пире, который будет великолепен. Вы будете присутствовать на нем и так будете веселиться, что мои гости, которые и так уважают вас как самого мудрого министра, станут смотреть на вас как на самого любезного советника, которого когда-либо имел король.
Герен покачал головою с видом сомнения.
– Вам будет весело, говорю я вам, потому что вы увидите меня сидящим между Филиппом де Шампанем, когда-то моим заклятым врагом, а теперь моим вторым вассалом, и молодым Тибо, его племянником и питомцем. Вы увидите там также Пьера де Куртне, брат которого затеял открытый мятеж, и графа дю Перта, двух добровольных заложников, одно присутствие которых стоит в десять раза дороже пира. Вы сделаете мне честь, Герен, думать, что мои поступки имеют более серьезные причины, чем я выказываю? А насчет турнира, думаете ли вы, что я имею намерение испытать сердца рыцарей еще более, чем их доспехи? Ничто не может, добрый епископ, так раскрыть сердца мужчин, как увеселения. Опьянение и откровенности на пиршестве часто позволяют узнать мне больше, чем десять официальных приемов.
– Я не сомневаюсь в этом, государь, – отвечал епископ. – Но сегодня утром мне представили печальный отчет о состоянии вашей казны, и когда я слышу о празднествах и турнирах, то не могу не думать о подробностях, которые огорчили бы вас самих, если бы вы их знали.
– Как! – воскликнул Филипп, – дела дошли до такой степени? Я хочу видеть этот отчет, Герен, и знать, в чем дело. Вы ведь его принесли?
– Нет, государь, но я вам пришлю его с клерком, который его составлял и который даст вам все объяснения, каких вы можете пожелать.
– Хорошо, но поскорее, – сказал король.
Когда Герен вышел, Филипп заходил по комнате большими шагами и с тревожным, почти раздраженным, видом.
– Это невозможно, – говорил он вполголоса. – В последний раз, как я рассматривал отчеты, оставалось более ста тысяч ливров. Конечно, это немного, но все-таки что-нибудь, а я давно уже не видел полными мои сундуки. А вот и вы, господин клерк. Ну, прочтите мне этот отчет, да поскорее, потому что мне некогда.
Клерк начал чтение тем гнусливым и однообразным тоном, который имеет свойство раздражать характеры живые и нетерпеливые.
– Смерть моей жизни! – закричал король, – какая мне нужда до всех этих подробностей! Итог, господин клерк! Итог! Сколько остается в моих сундуках?
– Двести ливров, три су, шесть денариев, государь.
– Ты лжешь, негодяй! – рявкнул Филипп, вырвав бумагу из рук испуганного клерка и оттолкнув его. – Стало быть, я, по-твоему, нищий? Ты лжешь, говорю я тебе. Это невозможно! Однако, – прибавил он через минуту, когда пробежал бумагу, – это справедливо. Пришли ко мне Герена! Мне жаль, что я тебя ударил, забудь об этом и скажи Герену, чтобы пришел тотчас же.
Во время этой сцены Агнесса подошла к окну и, обернувшись лицом к реке, казалась безразличной к происходившему. Она не проронила ни одного слова, однако, когда увидела, к какому серьезному рассуждению повели приготовления к празднеству, ей очень захотелось потихоньку удалиться. Но король, разговаривая с министром и слушая клерка, преграждал ей дорогу к двери, и она принуждена была остаться.
Филипп, совершенно забывший о присутствии Агнессы, приметил ее, как только ушел клерк, и этого было достаточно, чтобы заставить его покраснеть своей вспыльчивости.
Каждый страстно влюбленный мужчина хотел бы казаться ангелом в глазах той, которую он любит. Король, стыдясь, что забылся до такой степени, тихо подошел к окну и, взяв королеву за руку, сказал:
– Агнесса, я вышел сейчас из себя, но этот отчет сильно меня раздосадовал, и я уже не в состоянии заняться празднеством… Ступайте наблюдать сами за приготовлениями. Пошлите ваших фрейлин в сад и, хотя бы им пришлось сорвать последний цветок, не жалейте ничего, чтобы стол и пиршественный зал были великолепно украшены.
– Я позабочусь, однако, – отвечала Агнесса, – чтобы они оставили несколько цветков, и самых красивых, потому что я сама хочу приколоть их к шлему моего Филиппа в день турнира.
Она вышла с улыбкой на губах, точно никакое беспокойство не нарушило ясность ее мыслей.
Герен не заставил себя ждать. Но он нашел короля совсем не в таком расположении духа, в каком оставил его клерк.
– Герен, – сказал Филипп с видом озабоченным, но спокойным. – Напиток, присланный вами, был горек, но спасителен, и я выпил его до дна. Благодарю, что вы меня не пощадили.
– Я всегда с сожалением, государь, отнимаю у вас одну из тех минут радости и спокойствия, которые вы так редко можете выкроить у дел, но…
– Знаю, Герен, мне известна ваша благородная и бескорыстная душа. Вы иногда бываете строгим другом, но я предпочитаю вашу строгость лести честолюбивых советников и питаю к вам полное доверие. Выслушайте же меня: этот пир должен состояться, и турнир также, а может быть, и новые празднества. Не потому, что я хотел бы усладить свой взор зрелищем моего величия – я слишком хорошо знаю его тщету. Но я хочу быть настоящим королем. Знаете, чего недостает Франции для того, чтобы она шла во главе христианских народов? Короля. Да, Герен, короля, который вернул бы трон на ту высоту, на которую вознес его Карл Великий. Не бледнейте, господин епископ. Я не задумал сам сделаться этим монархом; это было бы безумием. Но я хочу, если когда-нибудь он произойдет от моего рода, по крайней мере, проложить ему путь. Нет, я не думаю играть роль Карла Великого, имея это перед глазами, – прибавил он с горечью, указывая на отчет, который еще держал в руке. – Однако я могу сделать многое и уже сделал много.
Филипп остановился на минуту, как бы для того, чтобы собраться с мыслями. Потом, подняв голову с благородной гордостью, продолжил:
– Когда скипетр перешел в мои руки, в нем было не более могущества, чем в палке шута, но я возвратил ему его достоинство. Властелин моих вассалов, но властелин по имени… Это я был у них в подданстве, а не они у меня, и я разбил эту цепь, объявив, что король не может быть вассалом своих подданных. Это был мой первый шаг, но оттого не менее серьезный.
– Поверьте, государь, мои советы не станут совращать вас с этого пути.
– Я дал почувствовать мою власть моим вассалам, – продолжал Филипп, одушевляясь, – когда приказал, чтобы каждая ссора, которая возникнет между ними, будет рассмотрена нашим парижским судом. В этом я последовал моей воле, а не их. Я освободил общины, я возвысил духовенство, и хотя оно готово отплатить мне неблагодарностью, я об этом не сожалею, потому что захочет оно или нет, но будет служить орудием моим планам. Мои крупные ленники, это правда, испытывают опасения и недовольство. Но я уже урезал их власть, и за меня стоят низшие бароны и богатые горожане. Однако этого мало. Мне надо привлечь на свою сторону часть могущественных вассалов, и тогда пусть другие бунтуют, если рискнут. Клянусь Богом, если они осмелятся, то мой меч проредит их владения, и я оставлю сыну в десять раз больше, чем получил от своего отца. Но некоторые из этих бунтовщиков мне нужны, чтобы укротить других. Филипп де Шампань, который остался бы нечувствителен к истинным благодеяниям, не способен устоять перед почестями и комплиментами. Его надо хвалить и сажать по правую мою руку. Филипп де Куртне мечтает только о подвигах рыцарства – его надо задобрить турнирами. Многие другие находятся в таком же положении, Герен, и если я хочу раздавить их моим железным нарукавником, я должен налить в него меду, чтобы привлечь их туда.
Таким образом говорил Филипп Август, оживленный, без сомнения, тем великим эгоизмом, который называется честолюбием, но также и той силой души, которая возвысила его над веком и которой следует восхищаться, потому что она спасла Францию.
Герен, человек скорее рассудительный, чем дальновидный, был, однако, способен понять эти великие планы и отказался от всякого возражения.
– Я не принадлежу к числу тех безумцев, – сказал он, – которые думают, что обширные планы могут быть исполнены посредством таких слабых средств. Но скудность вашей казны такова, что я, право, не знаю, где найти средства. Я обращусь к преданности парижской буржуазии.
– Повидайтесь с ними, Герен. А я попрошу совета, а может быть, и помощи у Венсенского отшельника. Это один из тех редких людей, чей взор умеет возвышаться, не теряя верности и ясности. Но прежде я пойду взглянуть на приготовления к моему празднеству. Ни за что на свете не хочу, чтобы Тибо де Шампань мог что-нибудь порицать, Герен! Прикажите, чтобы был готов мой конвой.
Герен ушел, Филипп отправился к Агнессе. Через несколько часов он выезжал из Парижа со свитой, достойной короля. Но, остановившись в Венсене, он оставил там свою свиту; потом, набросив на плечи коричневый плащ, прошел через парк пешком в сопровождении одного пажа, которого оставил у ворот леса Сен-Манде с приказанием отворить ему ворота, когда он воротится, и зашагал по тропинке, которая, извиваясь в густой чаще, вела в самую глубину леса.
В половине лье от Венсенской башни находилась тогда старая гробница, которая, судя по еще украшавшей ее скульптуре, должна быть была воздвигнута в память какой-нибудь важной особы, но совершенно неизвестной в то время. Изгладившаяся надпись и разбитый мрамор казались трофеями, посвященными забвению.
В этом-то месте отшельник Бернар выстроил себе хижину, и когда Филипп пришел, то нашел старика сидящим на гробнице и погруженным в глубокую задумчивость. Отшельник был подвержен припадкам экстаза, во время которых он на многие часы терял связь с окружающим миром, и не любил, чтобы ему мешали в это время. Отчасти для того, чтобы избегнуть беспрестанных посещений, которым его подвергало соседство с Парижем, оставил он лес Сен-Манде ради Овернских гор, откуда воротился только по приказанию короля.
Филипп, часто посещавший старика и знавший его привычки, сел рядом с ним, не говоря ни слова, и стал ждать момента, чтобы начать разговор. Долго ждать не пришлось. Через минуту отшельник поднял голову и, узнав короля и не выказав никакого удивления, сказал:
– Вот вы и здесь, сын мой. Я думал о вас, смотря на эту гробницу. Знаете ли вы имя человека, покоящегося под этим камнем?
– Нет, не знаю, добрый отец, – ответил король.
– А между тем это был человек, знаменитый в свое время. Об этом говорит драгоценный мрамор. В свое время этот человек, должно быть, славился своими подвигами и имя его гремело по всей стране. То же самое будет и с вами, сын мой. Вы волнуетесь, чтобы оставить славное воспоминание в памяти людей, а ваша мелочность в сравнении с мелочностью ваших подданных, может быть, кажется вам величием. Пройдет несколько веков, и прохожий, ступая ногой по вашей могиле, не будет знать даже о вашем существовании.
– Увы, добрый отец, – сказал Филипп Август с горькой улыбкой, – никто лучше меня не познавал ничтожества славы, и не будущее тревожит меня, а настоящее. Оно слишком уныло, чтобы думать о чем-то еще.
– Что такое настоящее, которое мучит вас, таким образом? – воскликнул отшельник. – Точка в вечности, капля воды для человека жаждущего, который пьет ее с восторгом, а потом забвение. Что такое сама жизнь?
– Печальный переход, особенно для королей, – отвечал Филипп. – Я начинаю иногда желать, чтобы моя жизнь была избавлена от тяжелой ноши царствования.
– Если бы ваше желание исполнилось, вы через час уже стали бы сожалеть, – сказал отшельник с иронической улыбкой. – Притом оно нечестиво.
– Нечестиво! – вскричал с удивлением король.
– Да, сын мой, и я хотел вам сказать, что никогда не следует бросать свои обязанности, какими тягостными они бы ни были. Не следует забывать, что земные стремления не главные в жизни, и что на небе находится другая цель, которую никогда не следует выпускать из вида. Король Филипп, вам предстоит выполнить важную обязанность, и если бы ваша жизнь вся ушла на то, чтобы обратить к долгу ваших вассалов и освободить ваших подданных от ига этих тиранов, то один этот подвиг может прельстить самые высокие сердца. Люди, может быть, его забудут, но Господь вспомнит о нем; а какое дело тому, кто живет в духе Божием, до неблагодарности людей?
– Да, это прекрасная обязанность, – сказал Филипп, который из слов старика выхватил только те, которые относились к его планам. – Но она так же трудна и пугает меня, когда я думаю о слабости ресурсов и об истощении моих финансов. Еще несколько дней, добрый отец, и я буду нищим.
– И поэтому-то вы навестили меня, государь? Я это знал и ждал вашего посещения. Но скажите мне, ваши нужды относятся к настоящему или к будущему?
– К настоящему, Бернар, к настоящему. Я уже вам сказал, что беднее нищего. Что более может сказать король?
– Зло это поправить можно, – отвечал отшельник. – Войдите в мою келью, сын мой, и мы, может быть, найдем там то, что вы напрасно искали в вашем дворце.
Филипп пошел за отшельником в хижину. Эта была настоящая келья анахорета, обнаженная и холодная, где вместо мебели лежала солома, служившая постелью старику. Стены были глиняные, а соломенная кровля, почерневшая и сгнившая от дождя, едва защищала отшельника от непогоды.
Король обвел глазами унылое убранство хижины и с удивлением взглянул потом на бледные и исхудалые щеки старика, спрашивая себя, возможно ли человеку терпеть подобные лишения. Отшельник уловил этот взгляд и понял немой вопрос, в нем заключавшийся.
– Вот моя награда! – заявил он, указывая на эбеновое распятие, висевшее на стене. – Вот что платит мне сторицей за суровости и лишения всякого рода, которые так изменили мои черты, что даже люди, любившие меня, не узнают меня более. Да, вот моя награда, и эта не ускользнет, как блага мира сего, из рук человека, овладевшего ею!
Бросившись на колена перед распятием, он начал молиться с таким усердием, что король, удивленный и почти испуганный, подумал, не расстроили ли лишения рассудок старика. Но отшельник вскоре поднялся, и весь его энтузиазм, без сомнения, излился в этом порыве набожности, потому что, воротившись к своей первой мысли еще прежде, чем Филипп успел напомнить о ней, он приподнял со стороны стены солому, служившую постелью, и вынул два больших кожаных мешка, округлостью которых удивленный и очарованный взгляд короля не мог не залюбоваться.
– В каждом из этих мешков по тысяче серебряных марок, – сказал отшельник. – Один из них ваш, сын мой, но я сохраняю второй для другого назначения.
Может быть, Филипп, который минуту тому назад считал бы один из этих мешков даром небесным, почувствовал легкое разочарование, когда узнал, что второй мешок ему не достанется. Но у него была слишком благородная душа для того, чтобы обнаружить свое разочарование, и он с жаром поблагодарил отшельника.
– Суета! Суета! – перебил старик. – Я дал обет никогда ничего не покупать и не продавать. В моих глазах золото ценится ниже растений, которые меня питают, или соломы, которая служит мне постелью. Оно ваше, сын мой, и я отдам его сегодня служителю, которого вы пришлете за ним. Теперь поговорим о будущем. Правда ли, как я слышал, что граф де Танкарвиль умер и герцог Бургундский изъявляет притязание на его владения?
– Вас обманули, добрый отец. Граф в Палестине, и, хотя уже несколько лет не было от него известий, ничто не доказывает, что он умер. А свое имение перед отъездом он завещал, с нашего согласия, Ги де Куси, племяннику своей жены. Хартия, подписанная и запечатанная графом, лежит в нашем казначействе.
– А все-таки граф слывет умершим. Последуйте моему совету, сын мой, употребите доходы с его имения на ваши потребности. Деньги верного подданного не могут быть лучше использованы, как на возвращение к долгу возмутившихся вассалов.
– Но, добрый отец, – вскричал Филипп, – это значило бы сделаться виновным относительно графа или, по крайней мере, относительно его наследника, в несправедливости.
– Государь, – с гордостью сказал старик, – разве вы принадлежите к числу тех людей, которые спрашивают советов с твердым намерением следовать собственному совету? Отшельник Бернар умеет измерять значение своих слов, и если он предлагает вам этот ресурс, это потому, что он знает, что граф де Танкарвиль и этот сумасбродный Куси не будут осуждать вашего поступка, как только узнают его причины. Располагайте без угрызений этими деньгами, государь, и дай Бог, чтобы вам не пришлось никогда упрекать себя в большей несправедливости!
Предложение было очень заманчиво само по себе, а кроме того, пришлось слишком кстати, чтобы король стал выказывать излишнюю деликатность. Он послушался совета отшельника и даже обязался, в случае если Куси приедет ко двору, держать завещание втайне, пока не удостоверятся в смерти графа. Притом он дал себе зарок вознаградить молодого рыцаря, отдав в случае войны ему начальство над отрядом, который будет набран из вассалов де Танкарвиля.
Государь собирался уходить, когда в лесу послышался звук охотничьего рога. Филипп покраснел от гнева при мысли, что есть смельчаки, которые позволяют себе охотиться в королевском лесу, находящемся у самых ворот Парижа. Отшельник заметил гнев короля и угадал причину.
– Ах, боже мой! – произнес он. – Какие мы странные создания! Вот справедливый и мудрый король, душа которого выказала сейчас твердое презрение к суетным почестям, коими он облечен, а между тем он не может слышать без гнева звук рога в своем лесу и считает одним из главных преимуществ своей короны право убивать беззащитных животных!
Филипп оставил без внимания этот сарказм и простился со стариком, твердо решив дать своим солдатам команду обыскать лес. Случай избавил его от этого труда. По мере его пути в город, звук рога мало-помалу приближался.
Скоро он раздался в нескольких шагах от Филиппа, и король вздрогнул, заметив вдруг в прогалине довольно странное явление. Большая серая лошадь, пущенная в галоп, подъехала прямо к нему. От всадника ее виднелись только две длинные ноги в красных шелковых панталонах, похожие на два гигантских рога. Удивленный, а может быть испуганный, потому что он только через минуту разглядел наездника, лежащего на спине лошади и время от времени подносящего к губам дрянной охотничий рог, Филипп положил руку на эфес. Лошадь остановилась, и в то же мгновение Галлон-шут очутился на седле перед королем.
– Кто вы? – спросил король. – И зачем трубите в рог в этом лесу?
– Для собственного моего удовольствия, прекрасный господин.
– Но кто вы?
– Никто.
– Никто? – с удивлением переспросил король.
– Конечно. Я часто слышал, как мудрый Тибо д’Овернь говорил моему господину храброму Ги де Куси, что разум делает человека. А я разума не имею. Итак, я никто, или мудрый Тибо солгал, но я не советую вам, прекрасный господин, говорить ему этого прямо в лицо, ха-ха-ха!
– Ты шут?
– Шут шута, иначе сказать: фигляр сира Ги де Куси.
– А где теперь сир Ги де Куси и граф Тибо д’Овернь, о которых ты говорил сейчас? Я думал, что они оба в Палестине?
– Как бы не так! Они давным-давно воротились.
– Где же они?
– Где? Не знаю. Могу только вам сказать, что граф д’Овернь оставил нас три дня тому назад, чтобы ухаживать в Париже за женой короля, у которой, говорят, прехорошенькая ножка, ха-ха-ха!
– Негодяй! – вскричал Филипп. – Тебе сильно повезло, что твой король тебя не слышит, потому что он велел бы окорнать тебе уши.
– Этого только и недостает мне, чтобы сделаться совершенным красавцем, ха-ха-ха! Я, впрочем, позабочусь не подставлять ему моих ушей. Но меня ждет мой господин.
– Где ты его оставил?
– За добрую милю отсюда, под дубом, где он поет томные песни о старике и его дочери: сире Жюльене де Моне и прелестной Алисе, не знаете?
– Я ничего не знаю. Что ты хочешь сказать?
– Как? Вы не знаете, как мой господин, который стоит чего-нибудь, и я, который стоит гораздо больше, и пять пажей и оруженосцев провожали старого графа Жюльена и его дочь от Вик-ле-Конта до Санли; как мы заблудились в этом проклятом лесу, думая о прелестной Алисе, и как мой господин послал меня вперед отыскивать дорогу. Прекрасная история, ха-ха-ха! Я переложу ее на стихи и все будут плакать, узнав, что сир де Куси поклялся в измене королю из любви к своей любовнице, ха-ха-ха!
Потом, приложив руку к щеке, Галлон вдруг разразился странными и оглушительными звуками, в которых преобладал звук пилы, которую точат.
Король хотел заставить его замолчать и объясниться, но крики, угрозы, просьбы все было бесполезно. Галлон хохотал и вдруг, опрокинувшись на спину своей лошади, ускакал в галоп, громко трубя в рог, чтобы перекрыть крики короля.
Филипп продолжал свой путь, и, странное дело, хотя он видел, что имеет дело с сумасшедшим, и вдобавок еще злым, слова Галлона, обвинявшие королеву в неверности, а Куси в измене, взволновали его гораздо более, чем следовало бы.
«Это негодяй! – говорил он себе несколько раз… – На его словах останавливаться не стоит. Было бы безумством думать о них…»
Однако человеческая натура так создана, что Филипп о них думал.