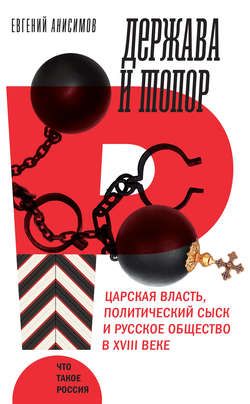Читать книгу Держава и топор - Евгений Викторович Анисимов, Евгений Анисимов - Страница 4
Глава 1. Государственные преступления в XVIII веке
ОглавлениеПоявление в русском праве понятия государственных (политических) преступлений относится к так называемой эпохе судебников конца XV–XVI веков, когда в целом сложился свод законов Московского государства. В научной литературе нет единого толкования статей и терминов законодательных памятников, в которых идет речь о государственных преступлениях. Однако бесспорно, что в статье 9-й Судебника 1497 года, как и в статье 61‐й Судебника 1550 года, восходящих в своем происхождении к статье 7-й Псковской судной грамоты, перечислены наиболее тяжкие виды преступлений, которые потом стали относить к государственным. Люди, совершавшие их, называются «государский убойца», «коромольник», «церковный тать», «головной тать», «подымщик», «зажигалник», «градской здавец» и «подметчик». Всех их казнили.
Общепризнано, что Соборное уложение 1649 года впервые отделило преступления против государя и государства (как его владения) от прочих тяжких преступлений. Государственным преступлениям посвящена целиком 2-я глава Уложения, хотя они упоминаются и в других главах этого кодекса. Во 2-й главе говорится, во-первых, о преступлениях против здоровья и жизни государя, во-вторых, об измене – преступлении против власти государя, которое заключалось в смене подданства, бегстве за рубеж, а также в связях с неприятелем в военное время или сдаче крепости врагу, а также в намерении это совершить («умысел»). В-третьих, как отдельный вид преступления выделен в Уложении «скоп и заговор». Историк права Г. Г. Тельберг не без оснований считал, что весь корпус государственных преступлений по Уложению сводится, в сущности, к двум их важнейшим видам, а именно к посягательству на здоровье (жизнь) государя и к посягательству на его власть. При этом к последнему виду преступлений относились самые разные деяния – от претензий на престол и помощи вторгшейся на территорию России армии иностранного государства до описки в документе с титулом государя.
Государственные преступления понимались прежде всего как преступления против государя, а потом уже против государства. Лишь к середине XVIII века стало более или менее отчетливо оформляться разделение понятий «государь» и «государство», на которое уже не смотрели как на вотчину государя. Трактовка государственных преступлений как наказуемых деяний, направленных преимущественно против государя, его власти и его владений, в сочетании с исключительными полномочиями самодержца в решении дел о таких преступлениях и породили то явление, которое принято называть «политическим сыском».
Законодательство о политических преступлениях Петровской эпохи было органичным продолжением права времен царя Алексея Михайловича. При этом нормы Уложения 1649 года были существенно дополнены рядом новых законов. Важнейшим из них является Устав воинский 1716 года, включавший в себя Артикул воинский и «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб» 1715 года. В этих документах уточнен корпус государственных преступлений и закреплены основы нового процессуального права, которые широко использовались в политическом сыске.
В число государственных преступлений вошли те деяния, которые ранее таковыми и не считались. В праве и публицистике появляются понятия «интересы государственные», «интересы государственные и всего народа» и, соответственно этому, обнаруживаются нарушители этих интересов – «преступники и повредители интересов государственных с вымысла». Собственно, тогда и образовалось это понятие – «государственное преступление», которое юристы того времени трактовали весьма широко как нарушение «интересов государственных и всего народа». В указе 24 декабря 1714 года о таких преступлениях сказано обобщенно – это «все то, что вред и убыток государству приключить может». Конкретно к государственным преступлениям стали относить различные проступки по службе, умышленное неправосудие, финансовые и иные преступления. Естественно, что многие из этих деяний прямо не были связаны с преступлениями против государя и его власти.
25 августа и 23 октября 1713 года были изданы именные указы, принципиально важные для истории политического сыска. Авторы указа 25 августа попытались отделить государственные преступления от частных («партикулярных прегрешений») чиновников. О последних уточнено: «…то есть в челобитчиковых делах взятки, и великие в народе обиды, и иные подобные тем дела, которые не касаются интересов государственных и всего народа». Таким образом, государственное преступление состояло в нанесении ущерба не конкретному человеку, давшему чиновнику взятки, а всему государству, всему обществу. После указов 1713 года к государственным преступникам относили не только нарушителей 2-й главы Уложения, но и всех корыстных чиновников – «грабителей народа», совершавших «похищения лукавые государственной казны», а также казнокрадов, которые обирают народ, чинят ему «неправедные, бедственные, всенародные тягости».
Столь широкая трактовка понятия «государственное преступление» как подлежащего исключительной прерогативе государя вошла в противоречие с повседневной практикой. Государь оказался физически не в состоянии справиться с тем потоком дел о преступлениях, многие из которых стали теперь называться государственными и, следовательно, подлежали его исключительной компетенции. Поэтому уже в 1710‐х годах проявилась тенденция хоть как-то выделить из чрезвычайно разросшейся массы государственных преступлений те, которые должны относиться к сфере ведения самодержца. В указе Сенату от 23 декабря 1713 года Петр потребовал «объявить всенародно: ежели кто напишет или скажет за собою „государево слово или дело“ и те б люди писали и сказывали в таких делех, которые касаютца о их государском здоровье и к высокомонаршеской чести, или уведав какой бунт и измену». Так подчеркивалось намерение сохранить старый корпус государственных преступлений по Уложению. В указе 25 января 1715 года корпус дел по преступлениям, которыми занимался государь, существенно сузили. Отныне прямо царю подавали изветы по трем «пунктам»: «1. О каком злом умысле против персоны его величества или измене. 2. О возмущении или бунте. 3. О похищении казны».
С 1715 года появились и маркирующие важнейшие государственные преступления термины. Если человек сказал «слово и дело по первому пункту», то речь шла о покушении на государя или об измене ему. По «второму пункту» надлежало хватать всех бунтовщиков и заговорщиков. Когда же в документах сыска встречается оборот «показал… о похищении интереса» или говорилось «о краже государственного интереса», то это означает, что изветчик обвиняет кого-то в казнокрадстве или иных нарушениях «по третьему пункту». Такие дела стали называться «интересными». Позже доношения «по третьему пункту» из‐за несметного их числа и бесцеремонности толп доносчиков, рвавшихся на прием к царю, запретили. Их передали фискалам, а также в особые розыскные «маэорские» канцелярии.
Так оформилась самая общая классификация государственных преступлений. Петр уточнял ее в 1723 году, во время работы над указом «О форме суда», в котором к прежнему «набору» государственных преступлений прибавлены «слова противные на государя», то есть столь печально знаменитые оскорбляющие государя и его власть «непристойные слова». Конечно, в практике политического сыска такие «непристойные», «злые», «непотребные» слова задолго до 1723 года рассматривались де-факто как преступление, но теперь они были включены в общей индекс главнейших преступлений де-юре.
Окончательно же классификация государственных преступлений уточнена в указе Анны Ивановны от 2 февраля 1730 года. В нем так сказано о преступлениях по «первым двум пунктам»: «1-й пункт. Ежели кто, каким умышлением учнет мыслить на наше императорское здоровье злое дело или персону и честь нашего величества, злыми и вредительными словами поносить. 2-й. О бунте или измене, сие разумеется: буде кто за кем подлинно уведает бунт или измену против нас или государства». А преступления против «казенного интереса» окончательно выведены из корпуса важнейших государственных преступлений. В таком виде определение важнейших государственных преступлений и сохранилось на весь XVIII век.
Рассмотрим виды государственных преступлений. Самыми важными преступлениями считались покушения на жизнь и здоровье государя в форме физических, а также магических действий или умысла к этим действиям. Речь идет о разных способах нанесения ущерба здоровью государя – от убийства его до «порчи» с тем, чтобы лишить его дееспособности, подчинить волю государя себе с помощью чар, магических действий, предметов и снадобий. Так как угроза убийства монарха существовала потенциально всегда, а определить, насколько она реальна, можно было только при расследовании, то власти при малейшем намеке на подобный умысел хватали каждого подозрительного. Неопределенное «желательство смерти государевой» уже рассматривалось как выражение преступного намерения. Еще более страшным преступлением являлись разговоры о гипотетических покушениях на царственных особ. Достаточно было – в шутку, спьяну, в виде ругательства – сказать о своем желании нанести физический вред государю, как это высказывание сразу же подпадало под действие законов о покушении на жизнь монарха. В 1703 году посадский Дмитрова Михаил Большаков тщетно пытался доказать в Преображенском приказе, что неблагожелательные слова, сказанные своему портному о «новоманирном» платье («кто это платье завел, того бы я повесил»), к царю Петру I никакого отношения не имеют: «Слово „повесить“ он молвил не к государеву лицу, а спроста, к немцам, потому что то-де платье завелось от немцев, к тому то он слово „повесить“ и молвил». Но эти объяснения не были приняты, и Большакова сурово наказали.
Убеждение, что с помощью магии (порчи, приворота, сглаза) можно «испортить» государя, устойчиво жило в сознании людей XVIII века. Они искренне верили, что Екатерина I с А. Д. Меншиковым Петра I «кореньем обвели», что сам Меншиков «мог узнавать мысли человека» и что мать Алексея Разумовского – старуха Разумиха – «ведьма кривая, обворожила» (в другом следственном деле – «приворотила») Елизавету Петровну к своему сыну Алексею Разумовскому.
Борьба с магией как видом государственного преступления опиралась на нормы Соборного уложения и Артикула воинского. Эти законы выделяли три разновидности таких преступлений. Во-первых, преследовалось всякое колдовство (чародейство, ведовство, чернокнижие), а также заговоры своего оружия, намерение и попытки с помощью «чародейства» нанести кому-либо вред. Во-вторых, наказаниям подлежали богохульники, говорившие «непристойные слова», надругавшиеся над христианскими святынями или совершавшие хулиганские действия в церкви. В-третьих, политический сыск пресекал совращение православных в язычество, раскол и вероотступничество.
Рассмотрев группу преступлений о покушениях на здоровье и жизнь государя, перейдем к покушениям на власть самодержца, которые назывались «изменой». Петровская эпоха сделала русское общество более открытым, но не отказалась от старого понятия «измены». Во-первых, сохранился военно-государственный смысл измены как побега к врагу или содействия противнику на войне, равно как и намерения совершить эти преступления. В Артикуле воинском говорится не только о преступной переписке и переговорах с врагами, выдаче им военных секретов, но и об умысле «измену или сему подобное учинить». Умысел этот рассматривался также как прямой акт измены – «яко бы за произведенное самое действо». Во-вторых, при Петре государственная измена рассматривалась как «преступление против подданства». Иначе говоря, изменой считалось намерение выйти из подданства русского царя.
В источниках есть два толкования термина «измена». Согласно одному из них, переход в иное подданство связан с изъятием из подданства русского государя части его территории. Эта измена, ведшая к потере земель, называлась «большой изменой» или «великим государственным делом». Поступок гетмана Мазепы, перешедшего на сторону шведов в 1708 году, являлся с точки зрения русского права актом «большой измены». Состав его преступления – в том, что он умыслил лишить русского государя права владения частью государевых земель (на Украине).
Под «изменой партикулярной» подразумевалось намерение конкретного подданного российского государя просить о подданстве или принять подданство другого государства, а также побег русского подданного за границу или его нежелание вернуться в Россию. При Петре I Россия оказалась открыта только «внутрь», исключительно для иностранцев. В отношении же свободного выезда русских за границу, а тем более эмиграции никаких изменений (в сравнении с XVII веком) не произошло. Безусловно, царь всячески поощрял поездки своих подданных на учебу, по торговым делам, но при этом русский человек, как и раньше, мог оказаться за границей только по воле государя. Иной, то есть не санкционированный верховной властью выезд за границу по-прежнему рассматривался как измена. Пожалуй, исключение делалось только для приграничной торговли, но и в этом случае временный отъезд купца за границу России по делам коммерции без разрешения власти карался кнутом. Прочим же нарушителям границы грозила смертная казнь. Оставаться за границей без особого указа государя также запрещалось.
К измене вел не только самовольный переход границы, но и вполне невинная деловая или родственная переписка с корреспондентами за границей. В 1736 году расследовали дело о ярославских подьячих братьях Иконниковых, которые, «умысля воровски и не хотя доброхотствовать их и. в. и всему государству, изменнически отпустили отца своего Михаила з женою ево и их матерью, и з детьми их в другое государство за рубеж, в Польшу, и с ним списыватца, ис чего может приключитца государству вред и всенародное возмущение».
С петровских времен государственной изменой стал считаться и отказ следовать завещанию правящего государя или пренебрегать его правом назначать себе наследника. Как известно, это связано с обострившимися к концу 1710‐х годов династическими проблемами Романовых, с желанием Петра I посадить на престол детей от своего второго брака с Екатериной Алексеевной. В манифесте 1718 года об отрешении от наследования царевича Алексея Петровича сказано, что тех, кто будет «сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут и дерзнут, изменниками нам и отечеству объявляем».
Государственную измену при Петре трактовали предельно широко в духе полицейского государства как преступление против власти государя вообще. Военные порядки Петр рассматривал как образцовые для организации гражданской жизни, поэтому измена противопоставлялась службе, верному служению подданного своему государю. В 1732 году кнутом и пожизненной ссылкой был наказан прапорщик Алексей Уланов, обвиненный в том, что своего товарища, поручика Федора Елемцова, безосновательно назвал «е. и. в.[1] изменником, а не слугою». Когда в 1733 году солдат Бронников, наказанный за пьянство и драку, «всех ундер-афицеров и салдат бранил матерно и называл бунтовщиками, и изменниками, и стрельцами… слабой командой», то возмущенный прапорщик Кузнецов ответил следующее: «…мы – люди регулярные, ежели нам не слушатца своих камандиров, то нехорошо, и ежели с вами поступать и каманду содержать слабо, то слыхал он, что слабая каманда подобна измене». Эта сентенция отражает отношение «регулярного государства» и людей к такому преступлению, как измена. Слово «изменник» в XVIII веке являлось табуированным, запретным и допускалось только в отношении лиц, совершивших такое преступление. После Стрелецкого розыска конца XVII века такое же значение приобрело слово «стрелец». Обозвать верноподданного «стрельцом» означало оскорбить его и заподозрить в измене.
Бунт – тяжкое государственное преступление – был тесно связан с изменой. Бунт всегда являлся изменой, а измена включала в себя и бунт. Конкретно же «бунт» понимался как «возмущение», восстание, вооруженное выступление, мятеж с целью свержения существующей власти государя, сопротивление и неподчинение верховной власти. Само слово «бунт» было таким же запретным в XVIII веке, как и слово «измена». Сказавшего это слово обязательно арестовывали и допрашивали. Самодержавие настолько опасалось бунта, что строго предписывало, чтобы военные в случае ссоры, брани, драки никогда не звали на помощь своих товарищей, «чтоб чрез то (крик, призыв. – Е. А.) збор, возмущение, или иной какой непристойный случай произойти мог».
«Бунтовщиками» считались восставшие в 1705 году астраханцы, Кондратий Булавин и его сообщники – в 1707–1708 годах, Мазепа с казаками – в 1708 году. Наказания за бунт следовали самые суровые. В 1698 году казнили около двух тысяч стрельцов по единственному определению Петра I: «А смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали и бились против большого полка».
Власти преследовали всякие письменные призывы к бунту, которые содержались в так называемых «прелестных», «возмутительных», «воровских» письмах и воззваниях. Держать у себя, а также распространять их приравнивалось к участию в бунте. Как «бунт» расценили в Преображенском приказе в 1700 году поступки известного проповедника Григория Талицкого: он раздавал и продавал свои рукописные сочинения с «бунтовыми словами», «будто настало ныне последнее время и антихрист в мир пришел, а антихристом в том своем письме, ругаясь, писал великого государя».
Бунтовщиком назвали и полусумасшеднего монаха Левина. 19 марта 1719 года, взобравшись на крышу мясной лавки пензенского базара, он объявил Петра I антихристом: «…весь народ мужеска и женска пола будет он печатать, а у помещиков всякой хлеб описывать… а из остальнаго отписнаго хлеба будут давать только тем людям, которые будут запечатаны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут… Бойтесь этих печатей, православные!.. бегите, скройтесь куда-нибудь… Последнее время… антихрист пришел… антихрист!» Таким образом, «бунтовными» считались призывы бежать от власти якобы пришедшего в лице Петра I антихриста. Логика в таком обвинении есть. Формально всякие слова, произнесенные Левиным, есть непризнание власти монарха, неподчинение ему, следовательно, согласно праву того времени, бунт.
Очень часто в приговорах понятие «бунт» соседствовало с понятиями скопа и заговора, обозначавшими преступное объединение («скоп») с целью совершения неких антигосударевых деяний («заговора»), типа «измены», «бунта» и т. д. Если Уложение 1649 года различает преступное «прихаживанье для воровства» от законного «прихаживанья для челобитья», то петровское законодательство категорически запретило любые попытки организовывать и подавать властям коллективные челобитные. Артикул воинский запрещает «все непристойные подозрительные сходбища и собрания воинских людей, хотя для советов каких-нибудь (хотя и не для зла) или для челобитья, чтоб общую челобитную писать, чрез что возмущение или бунт может сочинитца». Эта норма 17‐й главы «о возмущении, бунте и драке» написана самим Петром I. В Артикуле прямо сказано, что зачинщиков коллективных челобитных следует вешать без пощады, независимо от причины их жалобы и содержания челобитной, «а ежели какая кому нужда бить челом, то позволяется каждому о себе и о своих обидах бить челом, а не обще». Такие ограничения действовали в отношении не только разговоров в солдатских «бекетах» и караулках, но и общественной жизни всех других подданных, будь то старообрядческие моления при Петре I, мужские вечеринки «конфидентов» в доме А. П. Волынского при Анне Ивановне, светская болтовня в салоне Лопухиных при Елизавете Петровне или ритуальные собрания масонских лож при Екатерине II.
Из реальных, но неудавшихся попыток «скопа и заговора» привлекают внимание четыре: история Александра Турчанинова (1742), Иоасафа Батурина (1753), Петра Хрущова и братьев Гурьевых (1762) и Василия Мировича (1764). Камер-лакей Турчанинов обсуждал с гвардейцами план свержения и убийства императрицы Елизаветы, чтобы «принца Ивана возвратить и взвести на престол по-прежнему». Подпоручик Бутырского пехотного полка Батурин составил план переворота, который предусматривал такие вполне достижимые в той обстановке цели, как изоляция придворных и арест императрицы Елизаветы, убийство А. Г. Разумовского и провозглашение великого князя Петра Федоровича императором Петром III. Заговорщик также имел сообщников в гвардии и даже в лейб-компании. Имевшие широкую поддержку гвардейцы Петр Хрущов и братья Гурьевы в 1762 году готовили переворот в пользу экс-императора Ивана Антоновича. Не прошло и двух лет, как их план попытался осуществить подпоручик В. А. Мирович.
Список преступлений по рубрике «скоп и заговор» с целью захвата власти нужно пополнить и перечнем успешно осуществленных переворотов. Речь идет о заговоре цесаревны Елизаветы Петровны и гвардейцев, вылившемся в переворот 25 ноября 1741 года и свержение Ивана Антоновича, а также о заговоре императрицы Екатерины Алексеевны и Орловых, который привел в июне 1762 года к свержению Петра III. Эти заговоры, естественно, не расследовались – вспомним слова С. Я. Маршака:
Мятеж не может кончиться удачей,
В противном случае его зовут иначе.
Тяжким государственным преступлением было самозванство – «самозванчество». Социально-психологическая подоплека самозванства довольно сложна. Изучая ее, нужно учитывать черты массовой психологии, веру человека в чудесные спасения государей, бежавших из-под ножа убийцы, подмененных и тем спасенных багрянородных детей. Примечательна и мистическая вера в особые символы и меты – «царские знаки». К началу XVIII века казалось, что время самозванцев навсегда миновало, однако этот век принес гораздо больше самозванцев, чем предыдущий. Причины столь резкого и опасного для самодержавной власти возрождения самозванства коренились в династических «нестроениях» XVIII века. Бегство, следствие, суд, а потом и таинственная смерть царевича Алексея в 1718 году внесли смятение в сознание народа – не случайно первыми самозванцами стали как раз «царевичи Алексеи Петровичи». Ореолом мученичества было окружено имя заточенного в узилище бывшего императора Ивана Антоновича. И все же к концу правления императрицы Елизаветы самозванство явно пошло на убыль. Но вскоре самым сильным потрясением для народного сознания и толчком к новому всплеску самозванства стала трагическая история Петра III, якобы скрывшегося среди народа. В длинной череде лже-Петров III были и психически больные люди, и авантюристы разного калибра. Один из них не устраивал смятений и мятежей, а тихо, благодаря слуху, пущенному о его «царском происхождении», паразитировал среди крестьян, которые передавали «государя» друг другу, кормили и поили его, на что самозванец, собственно, и рассчитывал. Другой объявил себя «Петром III», чтобы… добыть денег на свадьбу, третий в 1773 году говорил приятелю о намерении сделаться «Петром III»: «А может иной дурак и поверит! Ведь-де простые люди многие прежде о ево смерти сомневались и говорили, что будто он не умер». И расчет этот был не так уж и глуп: огромные массы людей верили в «чудесные спасения», «царские знаки» и, недовольные своей жизнью, шли за самозванцем.
Власть весьма нервно относилась к малейшему намеку на самозванство. Все подобные факты тщательно расследовались, и выловленных самозванцев жестоко наказывали. В приговорах о самозванцах 1720–1760‐х годов фигурирует произнесение ими «вымышленных великих непристойных слов», «вымышленной продерзости» или «злодейственных непристойных слов». Иначе говоря, присвоение царственного имени расценивалось как дерзкое и «непристойное слово». Оно каралось по тогдашним нормам права как тягчайшее преступление, в котором усматривали прямой умысел захватить власть.
Слова «царь», «государь», «император», поставленные рядом с именем любого подданного, сразу же вызывали подозрение в самозванстве. В 1737 году монах Исаак дерзнул написать цесаревне Елизавете Петровне письмо, в котором так «извещал» ее о своем решении: «Наияснейшая цесаревна, я буду по сей императрицы (то есть по смерти Анны Ивановны. – Е. А.) император в Москве, а ты, государыня цесаревна мне женою». Тотчас по этому письму в Тайной канцелярии начали следственное дело. Преследовали во времена императрицы Елизаветы и смелые сравнения, которыми поделилась с мужем жена: «Я перед тобою барыня и великая княгиня! И что касается и до императрицы, что царствует, так она такая же наша сестра – набитая баба, а потому мы и держим теперь правую руку и над вами, дураками, всякую власть имеем».
Нельзя было даже в шутку, иносказательно провести аналогию своего положения, статуса с царским. За «название своего житья царством» пострадал в 1740 году поручик Лукьян Нестеров, который сказал о своем поместье: «Мы вольны в своем царстве». Преступлением считалось шутливое причисление себя или кого-либо из простых смертных к царскому роду, а также упоминание о близких, интимных, товарищеских отношениях с государем: «государев брат», «товарищ его величества», «он – царского поколения».
Отказ присягать государю и нарушение присяги – преступления, появившиеся в XVIII веке, хотя присяга на кресте и Евангелии существовала и раньше. Преступлением считалось также пренебрежительное отношение к присяге, уничижительные комментарии («Вы-де присягаете говну!»), препятствие к ее совершению со стороны чиновников и духовенства, неумышленное неучастие подданного в процедуре присяги.
При Петре I были разработаны обязательные типовые письменные присяги для военных и гражданских служащих, которые они подписывали после клятвы и целования креста и Евангелия. За нарушение присяги (как и за дачу ложных показаний) полагалось отсечение двух пальцев, которое в 1720 году Петр I заменил на вырывание ноздрей. Одновременно царь ввел и всеобщую присягу на верность назначенному государем наследнику престола, а после смерти царевича Петра Петровича весной 1719 года предписал присягать изданному им «Уставу о престолонаследии», согласно которому император мог назначить себе в преемники любого из своих подданных.
В 1722 году жители Тары отказались присягать в верности Уставу, за что подверглись пыткам и казням. Массовый отказ подданных от присяги был связан с распространенным в среде старообрядцев представлением о том, что процедура клятвы – дьявольская ловушка антихриста Петра I, который с помощью священной клятвы хочет «привязать» к себе невинные христианские души накануне конца света, ожидавшегося, по расчетам старообрядцев, в 1725 году.
Действительно, в некотором смысле присяга оказывалась если не эсхатологической, то правовой ловушкой как для служилого человека, так и для подданного вообще. В присяге, которую подписывал каждый служащий, говорилось о верности служения государю и назначенным им преемникам, о точном исполнении «присяжной подданнической должности», то есть своих обязанностей по службе, а также о предотвращении ущерба «его величества интереса». А поскольку этот интерес понимался весьма широко, то фактически всякое преступление служащего автоматически означало нарушение присяги и могло трактоваться как клятвопреступление. О преступлении А. П. Волынского в одном из документов следствия было сказано, что он, кроме прочих преступлений, «явно уже в важнейшем и предерзком клятвопреступлении явился». Так, собственно, смотрели власти на участие служилого человека в «непристойных разговорах».
Как непризнание власти самодержца рассматривали в политическом сыске и различные «анархические» высказывания людей о своей якобы полной независимости от божественной, царской, вообще земной власти. В 1729 году к следствию привлекли купца Трофима Мелетчина, который ругал власть и утверждал: «Никого не боюсь и государя мало боюсь». Ишимский поп Михаил попал в Тайную канцелярию в 1739 году за слова: «А я-де, философ и никого не боюсь, кроме Бога!» Все эти выкрики в сыскном ведомстве рассматривали как политические преступления, как выражение дерзкого неподчинения власти самодержца и оскорбление его чести. Преступлением считалось и разное иное «самовольство», например, отказ съехать с дороги, по которой шествовал государь.
В документах XVIII века встречается упоминание о таком преступлении, которое собственно и преступлением назвать трудно, хотя обвиненных в нем ждал если не эшафот, то удаление от дел или ссылка. Речь идет о так называемом «подозрении». Что это такое? В русских документах XVIII века встречается несколько значений этого слова. Если в деле допрошенного мы встречаем запись: «А по осмотру явился он подозрителен», то это означает, что на спине у этого человека обнаружены следы кнута – верный признак пытки или старого наказания за какое-то серьезное преступление. Доверять ему считалось невозможным.
«Подозрением» называли также дополнительные, вскрывавшиеся в ходе следствия обстоятельства преступления. В 1724 году Петр I писал о должностных преступлениях: «Ежели какое дело явитца по порядку правильному чисто, но та персона по окрестностям подозрительна…», то требуется расследование. Основанием для «подозрения» становились служебные и родственные связи с преступником. Андриса Фалька отправили в Оренбург только «за подозрением», что он, будучи слугой у лифляндца Стакельберга, «который за вины его сослан в Сибирь», мог слышать «непристойные речи» своего господина.
Кроме того, в источниках встречается особый термин: «впасть в подозрение», нередко с уточнением: «впасть в подозрение по первым двум пунктам, а именно в оскорблении величества и в возмущении противу общего покоя». Это означало, что человек не совершал государственного преступления, но его (без расследования, представления улик и доказательств) подозревают в намерении совершить такое преступление и уже на этом основании наказывают. Капитана фон Массау в 1742 году сослали в Охотск только по подозрению в том, что он, может быть, говорил «непристойные слова», хотя расследования об этом не проводили. В приговоре по делу Массау сказано: «За оным подозрением ни к каким делам не определять и из Охотска никуда, ни для чего отпускать его не велено».
«Подозрение» – юридическая категория почти неуловимая, ее нельзя понимать только как подозрение в совершении или причастности человека к какому-то преступлению или преступнику. «Подозрение» – обобщенное определение неназванного государственного преступления. В черновик манифеста 5 марта 1718 года о преступлениях бывшей царицы Евдокии Петр I исправил то место, где было сказано о причинах ссылки его первой жены в монастырь (выделенное прибавлено рукой Петра): «Бывшая царица Евдокия в Суздале, в Покровском девичьем монастыре, для некоторых своих противностей и подозрения, постриглась и наречено имя ей Елена».
«Подозрение» как преступление, во-первых, являлось ярким выражением средневекового права, ибо в делах о ведьмах подозрение вообще заменяло доказательства виновности, и, во-вторых, говорило о неограниченном праве государя казнить и миловать подданных без всякого объяснения причин своего гнева. Наказание «по подозрению» – чистейшая форма опалы, «голое» проявление державной воли самодержца как источника права. В манифесте 1758 года об опале А. П. Бестужева сказано, что он лишен чинов и сослан уже только по той причине, что императрица Елизавета никому, кроме Бога, не обязана давать отчет о своих действиях, и если она положила опалу на бывшего канцлера, то из этого с неопровержимостью следует, что преступления его велики и наказания достойны, но еще важнее, что императрица не могла «уже с давнего времени ему доверять».
Пожалуй, самым распространенным видом государственных преступлений, о которых сохранилось много дел в архивах, были так называемые «непристойные слова». Их также называли «воровскими», «зазорными», «злыми», «зловредными», «вредительными», «дурными», «невежливыми», «неистовыми», «непригожими», «неприличными», «непотребными». Они были связаны с преступным оскорблением государевой чести. Во многих случаях их так и называли: «непристойные слова, касающиеся чести государя».
Защита чести государя считалась не менее важной обязанностью подданных, чем защита личности и власти царя от изменника, самозванца или колдуна. В указе Анны Ивановны от 2 февраля 1730 года сказано, что доносить нужно не только на потенциальных заговорщиков, мятежников, но и на тех, кто будет «персону и честь нашего величества злыми и вредительными словами поносить». К этому виду преступлений относились не только сказанные или написанные слова, оскорбляющие личность, действия и намерения государя, но также и символические непристойные движения, жесты, гримасы, поступки и даже мысли, в которых можно усмотреть или угадать тот же оскорбительный для чести государя смысл.
«Непристойным словам» придавался магический смысл. По представлению того времени, слово могло вредить, приносить ущерб подобно физическому действию. Примечательно, что когда людям приходилось писать в служебных бумагах о возможных катастрофах, то после написанного сакрального слова «мор», «пожар» следовала ритуальная фраза: «от чего, Боже, сохрани». В восприятии сказанного слова как магического действия и состояла в немалой степени причина столь суровой оценки законом произнесения или написания «непристойных слов», оценки этих действий как государственного преступления.
Соответствующая норма вошла в Артикул воинский: «Кто против его величества особы хулительными словами погрешит, его действо и намерение презирать и непристойным образом о том рассуждать будет, оный имеет живота лишен быть и отсечением главы казнен». Право петровской поры считает преступлением все слова подданных, которыми они ставят под сомнение любые намерения и действия верховной власти. Важно, что именно в виде толкования артикула 20-го о каре за «непристойные слова» дается знаменитое определение самодержавия: «Ибо Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять». Только в условиях безграничного самовластия всякое слово, сказанное подданным об этой власти, могло быть интерпретировано как «непристойное», «хулительное».
Наконец, связь всяких «непристойных слов» с родовым для них преступлением – оскорблением чести государя – усиливалась тем, что наказания за оскорбления чести государя распространили и на оскорбления его родственников. В XVIII веке эта норма была включена в законы. Присягали, как отмечено выше, не только самодержцу, но и его жене и детям, а указ «О форме суда» 1723 года в числе государственных преступлений упоминает «слова, противные на и. в. и его величества фамилию». Позже эта норма закона фактически распространилась и на фаворитов самодержиц, что породило пословицу: «Такой фаворит, что нельзя и говорить». Сфера запретного, сакрального включала и двор, придворных, служителей вплоть до гайдуков. В 1754 году в Тайной канцелярии «исследовали» дело Осипа Никитина, сказавшего товарищам, что на святках императрица Елизавета была в комедии, и «тогда-де попойки много было и халуи-де все перепились, и он, Осип (доносчик. – Е. А.) говорил: „Какие-де тут были холуи? Тут были честные люди, генералы“, – и тот Иван Никитин неведомо для чего говорил: „Хоть черта поставь, так едет у государыни на запятках“».
«Непристойные слова» оказались очень емким юридическим понятием, которое могло применяться к любому суждению о власти, государе, политике, даже если в нем не было ничего оскорбительного для чести монарха. Рассказать сказку или легенду о царях-государях и их подвигах, любовных похождениях значило для подданного рисковать головой. В 1744 году бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан в Сибирь сержант Михаил Первов за сказку о Петре I и воре, который спас царя, причем оба героя, царь и вор, в пересказе сержанта отличались симпатичными, даже геройскими чертами.
Обращение людей к истории было в те времена занятием небезопасным. Прошлое династии, монархии, как и личность самодержца, входили в зону запретного. Одни исторические события и деятели прошлого чтились публично и официально, другие события и люди (даже живущие) как будто бы никогда и не существовали. Только одно упоминание в разговоре имен Отрепьева, Шуйского, Разина, Мазепы и некоторых других «черных героев» русской истории с неизбежностью вело к розыску. В царствование Елизаветы Петровны исчезло из истории целое царствование императора Ивана Антоновича (октябрь 1740 – ноябрь 1741 года). С 25 ноября 1741 года хранение предметов и документов, содержащих титул или изображение Ивана Антоновича, стало считаться преступлением. В 1747 году подмастерье Каспер Шраде был сослан в Оренбург на вечное житье за хранение пяти монет Ивана Антоновича.
Знание отечественной истории могло принести человеку большие неприятности. Самым ярким примером, как любовь к прошлому могла привести на плаху, служит дело А. П. Волынского. В предисловии к своему проекту о государственных делах он дал исторический очерк от князя Владимира до петровских времен. Из вопросов следствия видно, что попытка Волынского провести параллели с прошлым была расценена как опасное, антигосударственное деяние. Особо обеспокоило власть то, что он упорно интересовался своими предками. На родовом древе Волынских, известных в русской истории с XIV века, кабинет-министр приказал изобразить двуглавого орла, что в Тайной канцелярии восприняли как попытку кабинет-министра выразить свои претензии на престол. Кроме того, из материалов следствия видно, что особое раздражение следователей вызвало то, что Волынский много читал исторической литературы, пускался в «дерзновенные» исторические аналогии, сравнивал «суетное и опасное» время императрицы Анны Ивановны с правлением Бориса Годунова, цесаревну Елизавету Петровну – с царицей Марией Нагой, герцога Карла Петера Ульриха – с Лжедмитрием I, а князя А. М. Черкасского – с царем Василием Шуйским. Эти исторические экскурсы привели к тому, что бывшего кабинет-министра обвинили в оскорблении не только чести императрицы, но и «высочайшего самодержавия, и славы, и чести империи».
Как «непристойное слово» воспринимали в политическом сыске различные воспоминания людей о правящем или уже покойных монархах, даже если воспоминания эти были вполне нейтральны и имели своим источником не просто слухи, а официальные документы. Григорий Чечигин в 1728 году, узнав, что бывшая царица Евдокия возвращается в Москву из ссылки, сказал: «Эта-де та царица идет в Москву, которую Глебов блудил». На допросе он показал, что «те слова говорил он, видя о том в печатном манифесте». Это была правда – в опубликованном манифесте от 5 марта 1718 года сказано, что Степан Глебов «винился, что ходил к ней, бывшей царице, безвременно для того, что жил с нею блудно два года». Памятливого Чечигина тем не менее били кнутом и сослали в Сибирь. Общее отношение власти к истории состояло в том, чтобы заставить людей жить только сегодняшним днем, мыслить в соответствии с официальной идеологией и меньше вспоминать прошлое.
Без риска оказаться без языка или в Сибири нельзя было рассказывать о происхождении российских монархов. Бесчисленное множество раз передавались легенды о том, как немецкого (в другом варианте – шведского) мальчика из Кокуя подменили на девочку, которая родилась у царицы Натальи Кирилловны, и из него вырос Петр I. Естественно, толпе не нравилось, что императрица Екатерина I вышла в люди из портомой, что «не прямая царица – наложница», и он «живет с нею, сукою, императрицею, несколько лет не по закону». Незаконнорожденными называли также Петра II, Анну Ивановну, Елизавету Петровну, Павла.
Земной облик и жизнь монарха – тема безусловно запретная. В официальной идеологии у государя, как у Бога, нет возраста и очень слабо обозначается пол. Человеческие болезни государя, его физические недостатки, возраст, старость, частная, а тем более интимная жизнь и вообще всякие сведения о человеческой природе земного небожителя были для подданных под строжайшим запретом. Непременно наказывали людей, которые рассуждали, сколько еще лет проживет государь, или касались темы неизбежной в будущем кончины самодержца. В этом видели намек на покушение. В 1729 году расследовали дело посадского Петра Петрова, сказавшего про Петра II «в разговорах»: «Бог знает долго ли пожить будет, ныне времена шаткие».
Проблема пола монарха оказалась очень острой в XVIII веке, когда более 70 лет на престоле сидели преимущественно женщины. Общественному сознанию того времени присуще противоречие: общество (в равной степени как мужчины, так и женщины), с одной стороны, весьма низко ставило женщину как существо неполноценное и недееспособное, но, с другой стороны, должно было официально поклоняться самодержице. В 1731 году крестьянин Тимофей Корнеев сказал по поводу восшествия на престол Анны Ивановны: «Какая-де это радость, хорошо бы-де у нас быть какому-нибудь царишку, где-де ей, императрице столько знать, как мужской пол, ее-де бабье дело, она-де будет такая ж ябедница, как наша прикащица, все-де будет воровать бояром, а сама-де что знает?» Ему урезали язык и сослали на Аргунь.
Поддерживаемая ритуалами и запретами сакральность носительницы высшей власти приходила в явное противоречие с ее реальным, подчас далеким от божественного, темным происхождением и порой сомнительным поведением. В 1748 году колодник Фома Соловьев донес на своего охранника гвардейца Степанова, который рассказал ему, что накануне он, Степанов, стоял на часах на крыльце перед опочивальней Елизаветы Петровны и видел, как в палату вошли императрица и граф Алексей Разумовский, а потом ему через лакея передали приказ сойти с крыльца. Спускаясь вниз, Степанов «помыслил, что всемилостивейшая государыня с Разумовским блуд творят, я-де слышал, как в той палате доски застучали и меня-де в то время взяла дрожь, и хотел-де я, примкнувши штык, того Разумовского заколоть, а означенного лакея хотел же прикладом ударить, только-де я испужался».
На допросе Степанов не отрицал сказанного и уточнил, что он «незнаемо чего испужался» и не смог убить Разумовского, так как «вскоре мимо ево прошел дозор и потом вскоре ж он с того караула [был] сменен». Интересно дальнейшие объяснение солдата: «А заколовши-де оного Разумовского, хотел он, Степанов, е. и. в. донести, что он того Разумовского заколол за то, что он с е. и. в. блуд творит и уповал он, Степанов, что е. и. в. за то ему, Степанову, ничего учинить не прикажет, и ежели бы-де означенной дозор и смена ему, Степанову, не помешали, то б он того Разумовского подлинно заколоть был намерен».
Степанов «испужался» не «незнаемо чего», а страшного для человека того времени противоречия между священным статусом самодержицы и кощунственностью заурядного полового акта с нею кого-то из ее подданных. Намерения Степанова ясно говорят, что соитие государыни с подданным он расценил как нападение, насилие, от которого хотел защитить государыню, действуя при этом согласно нормам уставов и присяги, для чего, как он понимал, его и поставили на посту у царской опочивальни.
Сколь разрушительно подобные размножаемые слухами (как тогда говорили, «эхом») скабрезные истории действовали на священный облик государыни в сознании людей, не приходится много говорить. Дворцовые перевороты силами гвардии и стали возможны благодаря тому, что гвардейцы на своих постах видели «оборотную», закулисную сторону полубожественной, на взгляд простецов с улицы, жизни монархов.
Данные политического сыска XVIII века убеждают, что для народа не существовало ни одного порядочного, доброго, мудрого, справедливого к людям монарха. А уж о моральном облике почти всех государей в общественном сознании имелось устойчивое отрицательное суждение. Люди, сами далекие от праведной, высокоморальной жизни, были необыкновенно требовательны к нравственности своего повелителя или повелительницы. Только просидевший всю свою жизнь в тюрьме Иван Антонович и убитый император Петр III вызывали народные симпатии, да и то скорее всего потому, что они не успели поцарствовать Россией и нагрешить. Впрочем, воцарившегося всего на полгода Петра III с самого начала окрестили «чертом» и «шпиеном».
Словом, в XVIII веке от официальной доктрины о царе как земном Боге, кроме шлейфа непристойностей на эту тему, ничего не осталось. Подданные, особенно в своем узком кругу, да порой и публично, без всякого почтения высказывались о своих прежних и нынешних правителях как о земных, грешных людях, порой безапелляционно, цинично и грубо судили их поступки. Соликамская жонка (так в делах сыска называли замужнюю женщину) Матрена Денисьева говорила своему любовнику: «Вот-де мы с тобою забавляемся, то есть чиним блудодеяние (пояснение следствия. – Е. А.), так-де и Всемилостивейшая государыня с Алексеем Григорьевичем Разумовским забавляются ж». Еще резче провела эту же параллель солдатская жонка Ульяна: «Мы, грешницы, блядуем, но и всемилостивейшая государыня с… Разумовским живет блудно».
К этой разновидности преступлений относились и «непристойные песни». Они не содержали в себе непристойностей, их даже нельзя назвать песнями политическими, так сказать, песнями протеста. Они были посвящены в основном жизни царственных особ. Это лирические песни о любви и вообще о судьбе цариц и царевен. Эта «самодеятельность» приносила крупные неприятности певцам, так как приравнивалась к произнесению «непристойных слов».
В 1752 году сидевший под арестом дьячок Делифовский донес на своего пристава Спиридонова, что тот спел песню:
Зверочек, мой зверочек,
Полуношный мой зверочек,
Повадился зверочек во садочек
К Катюше ходить…
При этом Спиридонов пояснил дьячку, что «за эту-де песню наперед сего кнутом бивали, что-де государь [Петр I] с государынею Екатериною Алексеевною жил, когда она еще в девицах имелась и для того-де ту песню и сложили». Были и другие песни, за которые люди оказывались в застенке: «Постригись моя немилая» (о принуждении Петром I к пострижению царицы Евдокии); «Кто слышал слезы царицы Марфы Матвеевны», «Не давай меня, дядюшка, царь-государь» (о выдаче замуж царевны Анны Ивановны) и другие.
Нельзя было оскорблять и различные государственные учреждения – ведь они воспринимались как проводники государевой воли. Известно, что оскорбление учреждений (в том числе просто ругань в их помещении) расценивалось как нанесение ущерба чести государя. Подканцелярист Фатей Крылов в 1732 году «прославился» дерзостью, когда «Новоладожскую воеводскую канцелярию бранил матерно: мать-де, как боду забить-де в нее такой уд я хочу, тое канцелярию блудно делать». Запрещено было всуе поминать само сыскное ведомство, а тем более шантажировать им людей.
К названным преступлениям относится брань, по-преимуществу нецензурная, грязная («поносные слова», «матерные слова», «слова по-соромски») по адресу персоны государя, его власти, государевых указов и т. д. Записи о таких преступлениях – самые многочисленные, хотя и довольно однообразные. Приведу несколько типичных примеров. Иеродиакон Иван Черкин, сидевший в 1727 году на цепи в колодничей палате Вышнего суда, требовал своего освобождения и «избранил е. и. в. матерны». Подьячий Степан Дятлов сказал: «Мать твою прободу и с ымператором». Дворцовый крестьянин Тарасий Истомин в 1728 году так выразился о Петре II: «Я-де насерю на государя». В немалом числе дел утверждалось, что нецензурные слова являлись не оскорблением государя, но необходимым членом предложения. Общество к этому относилось вполне терпимо до тех пор, пока в потоке выразительной русской речи экспрессивное, бранное слово не оказывалось в опасной близости от имени и титула государя или государыни.
Титул императора, то есть перечень всех подвластных ему царств и владений, как и его личное имя, считались священными. Оскорблением титула считались различные физические действия, жесты, движения и слова (устные и письменные), которые каким-то образом принижали или оскорбляли значение титула, а также упоминание самого имени монарха без официально принятого титула. В 1740 году писарь Вершинин приказал копиисту Федорову исправить именной указ, присланный почему-то в замаранном виде. Федоров начал дописывать и подчищать расплывшиеся и неясные слова, пока он не дошел до титула Анны Ивановны. Тут он остановился и сказал начальнику: «Титула е. и. в. вычищать неможно», за что Вершинин «избранил ево, Федорова матерно прямо и с титулом (то есть вместе. – Е. А.)». За это оскорбление титула Вершинина били плетями и записали в солдаты. В 1735 году было начато дело о псалме В. К. Тредиаковского на восшествие императрицы Анны Ивановны. Поэту пришлось составить трактат, чтобы доказать, что в словах «Да здравствует днесь императрикс Анна!» «никаковаго нет урона в высочайшем титле е. и. в.». Объяснение было принято, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Существовали два основных вида оскорбления царского указа. К оскорблению словом относится пренебрежительное называние государева указа «воровским», «блядским», «лживым», «указишкой», «женским удом», различное сквернословие и брань при чтении указа: «Мать их гребу (выговорил то слово прямо), мне такия пустыя указы надокучили»; «Указ тот учинен воровски и на тот-де указ я плюю!»; «Да я на него [указ] плюю!»; «Тот указ гроша не стоит и плюнуть в указ»; «А к черту его государев указ!»; «Указ у тебя воровской и писан у бабушки в заходе и тем указом жопу подтирать». Кстати, этот совет: «Ты оным указом три жопу» – был довольно популярен в среде русского народа и за него исправно пороли кнутом и ссылали в Сибирь.
Ко второму виду оскорблений государева указа относились порча и «изодрание» его, небрежное с ним обращение и использование не по назначению. Шуйский староста Постничка Кирилов, который, по извету доносчиков, «лаял матерно мирских людей», обвинялся в том, что «тое их челобитню бросил по столу, а в той-де челобитной нас, Великого государя, имя написано…». В 1732 году батогами пороли ямщика «за бросанье на землю подорожной», в которой было написано «титло государево». На казака Артемия Жареного донесли, что он «письменными явками трет (в нужнике. – Е. А.), а в явках-де написано государское имя». Казак оправдывался, что «трет словесными явками, а не письменными», то есть записями черновыми, без титулов и имени государя.
Весьма распространенными были преступления «в дороге», когда проезжий человек отказывался слушать чтение царского указа на яме, оправдываясь тем, что сделает это дома, «в своей команде». Наказанию подвергался и тот проезжий, который «от неразуменья» не снимал при чтении государева указа шапку. Ведь обнажать голову было обязательным условием при оглашении государева указа. Не сделавший этого хотя вместе с шапкой головы не терял, но плети получал обязательно.
1
Далее в тексте используются следующие сокращения: е. и. в. – его/ее императорское величество; е. ц. в. – его/ее царское величество; ц. в. – царское величество.