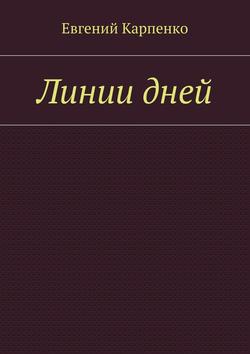Читать книгу Линии дней - Евгений Борисович Карпенко - Страница 11
Этоко
Рассказ
10
Оглавление…Спустя полгода я снова ненадолго приехал в Этоко. Был май, праздник, и после шума большого города удивляли покой и тишина сельской улицы.
Родные встречали у ворот: тепло и радостно целовала мать, крепко обнимали отец и братья.
У забора, среди молодой травы бугрились остатки гниющего штакетника для ящиков, во дворе изломанные россыпи.
– Что, ящики так недоделали? – спросил я отца.
– Такую большую кучу нам и вовсе бы не переработать, – усмехнулся он, – да соседи выручали: всё таскали для розжига своих печек.
– Пойдём в дом, – заговорщицки улыбался Ваня. – Покажем тебе кое-что…
– Да-да, – тепло улыбнулся отец, – пойдём, посмотришь свою комнату.
В доме я изумился сделанным работам, – в комнатах батареи, паркет, все стены оштукатурены.
Родные торжественно ввели меня в одну из спален: крашенные в персиковый цвет стены, заботливо заправленная новая кровать, тумбочка, стопка книг.
– Это твоя комната, старшего сына,… – трогательно сказал отец, и мне захотелось плакать. Я знал, что «моего» ничего нет не только в этой комнате, но и регионе. Относительно «своими», причём с большой натяжкой, можно бы назвать лишь продавленную кровать в ростовском общежитии, да свёрнутую на балконе раскладушку в маленькой квартире бабушки.
– Пойдём, ещё тебе кое-что покажем, – позвал отец, и мы пошли в ванную комнату: новенький титан, ванна, плитка пола.
– Всего охапка дров, и горячей воды хватит на всю семью…
– Штакетник от ящиков?
– Ага, – усмехнулся отец, и на лицо его набежала тень.
Я заметил, что с мамой они уже почти не разговаривают, общаясь через детей.
В демонстрации домашних достижений мама участия почти не принимала: накрывала стол, разогревала приготовленные к моему приезду вкусности. За обедом, когда отец куда-то отлучился, она со слезами в голосе сказала мне:
– Всё. Я больше не могу жить с вашим отцом! Его раздражение от неудачи поселения здесь невыносимо. Только теперь он, наконец, осознал, что жить в этом доме никто из нас не будет. Неприятие тут просто биологическое, и с этим ничего не поделать. А сколько работы сделано, сколько труда! У меня же больше не осталось духовных сил, чтобы терпеть его постоянную нервозность, истеричные крики…
Оставшись со мной наедине, Андрей рассказал, что после моего отъезда со стороны местных произошла странная перемена: его и младших больше никто не обижал. Заговорили о братьях Шаваевых.
– Да, их забота… – согласился брат. – Эти Шаваевы видимо и впрямь сделаны из железа. Их слово в селе – закон. Хотя, слышал я, что скоро уезжают они отсюда…
Порывшись в шкафу, Андрей достал измятый конверт и передал мне:
– Вот, письмо для тебя. В начале весны нашёл у ворот, когда снег стаял.
Я разорвал размытый снегом конверт,… письмо было любовное.
…Подлинного текста письма, конечно, не сохранилось, а придумывать что-либо здесь станет сомнительным ходом в игре с собственной памятью. Отмечу лишь, что написано было аккуратным округлым почерком, чисто и грамотно. Писавшая его девушка не представилась, и я мог лишь догадываться, от кого оно. При строчке «…когда ты рыл какую-то яму…» вспомнились чудные ямочки на щеках Заремы, и на душе стало отчего-то грустно, тоскливо. Заканчивалось письмо приглашением для встречи в полночь на выгоне за дворами…
– На «выгон» опять приглашали… – сказал я брату.
– Не верю я им, подстава, – отвечал Андрей. – Кто-нибудь из наших недругов поручил сестре написать это письмо.
– Что-то ты совсем скис, никому не веришь.
– Да, – проговорил Андрей. – Не верю я здесь уже никому. Сгорела вера…
– А Айана, как же?
– Айана, славная девушка… много хороших слов знает.
– Что, и ей не веришь? – спросил я его.
– Верю, не верю ей… не столь это важно. Я больше верю её брату Тимуру. Как-то ещё осенью он перехватил меня на улице и предупредил: если у меня случится что-нибудь такое с Айаной, – голову отрубит!
В те дни мы с братом часто уходили далеко в лес, гуляли вдоль дивной глади горного озера. Вдохновенно строили жизненные планы, где здешним холмистым ландшафтам места уже не было. Я рассказывал брату о своей городской жизни, – радостях, переживаниях, что, будучи неприемлемыми здесь мы и для города диковаты, провинциальны.