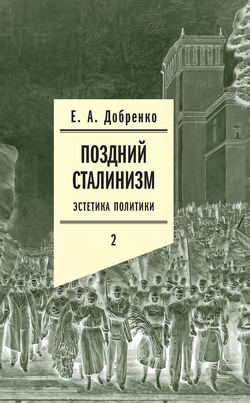Читать книгу Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2 - Евгений Добренко - Страница 4
Глава седьмая
Лингвистический реализм: Власть грамматики и грамматика власти
Наследие и наследники: Морфология взрыва
ОглавлениеСитуация, сложившаяся в советской лингвистике в 1948–1950 годах, абсолютно ничем не отличалась от ситуации, сложившейся в биологии после августовской сессии 1948 года ВАСХНИЛ или в литературе после январской 1949 года статьи в «Правде», в которой разоблачалась «антипатриотическая группа театральных критиков» и которая давала старт борьбе с космополитами. Те же многодневные собрания, разоблачения, шельмование, кликушество, тот же тип актантов (в биологии – Лысенко и Презент, в литературе – Софронов, Суров, Бубеннов, в языкознании – Сердюченко и Филин). Кампании пересекались, лозунги менялись, атмосфера погрома сохранялась.
Ситуации эти в разных областях науки и культуры описывались неоднократно. Изредка предпринимались и попытки их сопоставления. В первом случае обычно подчеркивалась их уникальность (поскольку они каждый раз рассматривались историками соответствующих дисциплин). Так, Владимир Алпатов подробно описал все перипетии лингвистической кампании, но, замкнув свое рассмотрение внутри дисциплины, не вышел к анализу особой идеологической культуры эпохи позднего сталинизма[114].
Во втором случае, напротив, подчеркивалась схожесть кампаний, но без должного учета их специфики в каждой области. Если Алпатов (как и большинство историков) исходил из того, что действия Филина и Сердюченко оркестровались сверху, то А. Кожевников, исследовавший дискуссии в советской науке в 1940‐е годы в комплексе, напротив, утверждает, что все акции шли снизу и исход кампаний каждый раз был непредсказуем[115]. Если ситуация в лингвистике и подтверждает подобный ревизионистский подход, то в том только смысле, что поведение инициаторов (вполне, кстати, предсказуемое) действительно привело к непредсказуемым как для них самих, так и для их противников последствиям (Филин и Сердюченко, конечно, не предполагали, какой идеологический обвал вызовут их действия). Но эту «непредсказуемость» не стоит преувеличивать, как это делает Кожевников: как только лингвистика оказалась в поле зрения Сталина (в результате действий самих марристов!), исход кампании был предсказуем и для него самого предрешен, а значит ничего «стихийного» произойти здесь уже не могло.
Итак, каждый раз кампании имели свою идеологическую задачу, свой эпицентр и свою динамику. Лингвистическая ситуация была уникальна как по содержанию, так и структурно.
В концептуальном плане лингвистическая кампания в целом (до лета 1950 года – погромные проработочные акции, затем дискуссия и выступление Сталина в «Правде», а после того – «разгром марризма») двигалась как бы в противоположном известному направлении. Вместо разгрома продуктивного художественного или научного течения (как было в музыке или биологии) и победы персонажей типа Захарова и Коваля (в музыке), Лысенко и Презента (в биологии), Софронова и Грибачева (в литературе), в языкознании, наоборот, утверждается победа традиционной лингвистики и с позором изгоняются Сердюченко и Филин. Машина продемонстрировала способность действовать в прямо противоположных направлениях (что позволило позже даже говорить о том, что в лингвистике оттепель началась еще при жизни Сталина и была инициирована им самим; лингвистическая дискуссия может рассматриваться как своего рода ложка меда в бочке дегтя).
Уникальность лингвистической кампании состояла в том, что импульс к подобным акциям всегда подавался сверху (и исходил лично от Сталина) и, имея отклик в «низах», кампания опиралась на одну из групп в данном искусстве или научной дисциплине, способную возглавить эту дисциплину и обеспечить победу «партийной линии». В этом случае все произошло иначе: групповая борьба привела к непредвиденным последствиям – от неосторожного обращения с идеологическим огнем произошел взрыв, который смел всю предшествовавшую научную парадигму и разрушил институциональный каркас целой дисциплины, просуществовавший два десятка лет.
Эту уникальность мы и попытаемся понять.
Идеологические постановления ЦК 1946 года привели к резкой активизации в среде литераторов. Уже в 1947 году началась последовательная критика лингвистического аполитизма в «Литературной газете» – вначале в связи с тем, что в диалектические карты не были включены новые советские слова, типа МТС и трактор (в статье публициста Александра Марьямова[116]), а спустя всего месяц в разгромной статье Бориса Агапова и Корнелия Зелинского «Нет, это не русский язык!», направленной против книги Виктора Виноградова «Русский язык»[117]. Обвинения звучали теперь уже определенно политические: «раболепие перед иностранщиной», «лженаучная объективность», «аполитичность и безыдейность». Книга была названа «пустопорожней, вредной чепухой», ей отказано было в праве считаться «русской книгой о русском языке». Трудно представить себе, чтобы очеркист Марьямов, который писал о зажиточной колхозной жизни, сам вдруг занялся чтением «Известий Академии наук», чтобы бывшие конструктивисты Агапов, специализировавшийся на очерках о новаторах производства, и Зелинский, писавший о многонациональной советской поэзии, вдруг засели за чтение специальной лингвистической книги объемом почти в 800 страниц.
Несомненно, кампания была нацелена на центр антимарризма – филологический факультет МГУ, деканом которого был академик Виноградов, самый высокопоставленный антимаррист. И хотя ученый совет факультета выступил в поддержку коллеги, «Литературная газета» обвинила факультет в «застое, рутине и косности»[118]. Там же было опубликовано письмо русистов во главе с Виноградовым в защиту Рубена Аванесова и В. Н. Сидорова, которые критиковались в статье Марьямова.
В качестве «модератора» выступил Г. Сердюченко, который высказался примирительно о книге Виноградова (хотя и обвинил ее в «объективизме, отсутствии марксистской методологии и излишне заботливом отношении к трудам различных буржуазных ученых»), но расширил круг критикуемых (теперь под огнем оказались авторы языковедческих учебников видные лингвисты Александр Реформатский, Розалия Шор и Николай Чемоданов). На этом кампания в Литгазете затихла (весь следующий год литературоведы были заняты борьбой с компаративистикой и «веселовщиной»[119]). Можно сказать, что первые атаки на антимарристов со стороны «Литературной газеты» были лишь пробой сил марровской группы. Виноградов угрожал статусу Мещанинова как новый академик-лингвист и возможный лидер антимарровской оппозиции, поэтому тот не мог не поддержать рвавшихся в бой опричников Сердюченко и Филина. То обстоятельство, что полем брани стала «Литературная газета», лишь подчеркивает групповой характер кампании. Дело в том, что еще в начале 1930‐х годов Филин был тесно связан с РАППом, а главным редактором «Литературной газеты» стал в 1946 году один из главных функционеров РАППа Владимир Ермилов. Это явное свидетельство того, что кампания на этом этапе была сугубо групповой, а не оркестровалась из ЦК, была инициирована «снизу» и лишь имела поддержку наверху, поскольку вписывалась в общий ход кампаний такого рода.
1948 год проходит под знаком нарастания чисток в лингвистике. Причем, действуя по логике превентивной защиты, именно марровская группа инициирует атаки. В июне Сердюченко обрушивается на редакцию «Известий Академии наук» за отсутствие борьбы с преклонением перед западной лингвистикой, безыдейность и публикацию «формалистических материалов»[120]. В тот же день в другом докладе он громит за «аполитичность» и «низкопоклонство» Реформатского, Виноградова, Жирмунского, Шишмарева[121]. В том же месяце в ходе диалектологического совещания Филин заявил о том, что советская диалектология принципиально отлична от западной[122]. И все же пока эти выступления носят характер своеобразных «загибов». Они не поддерживаются аудиторией, а Сердюченко и Филин похожи лишь на новых «неистовых ревнителей», агрессивно наскакивающих на своих научных оппонентов. Пока что не хватало идущей сверху энергии.
И только после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года в марристские паруса подул, наконец, попутный ветер идеологической кампании. Ее курировали заведующий Отделом науки ЦК Юрий Жданов и ученый секретарь АН СССР Александр Топчиев. Кампания эта шла по накатанной колее – как в философии и истории, в правоведении и лингвистике. Она строилась (как и предшествующие кампании – в литературе и философии, театре и музыке) на трех главных принципах: 1) экстраполяция общих положений на конкретную область науки/искусства; 2) создание напряжения между полюсами (формализм/народность, аполитичность/идейность, агробиология/генетика, марризм/индоевропеистика и т. д.) с обязательной персонализацией; 3) очищение от идеологической (западной) скверны.
Именно по этому сценарию развивались и события на «лингвистическом фронте» в течение последующих двух лет. Полагаясь на поддержку сверху, Сердюченко и Филин резко активизировали атаки на антиммарристский лагерь (попутно формируя его, подобно тому как за год до того формировалось «формалистическое направление в музыке»). Очевидно, что давление на Мещанинова стало непомерным и он сдался, о чем свидетельствовало прошедшее 22 октября 1948 года совместное открытое заседание ученого совета Института языка и мышления имени Н. Я. Марра и Ленинградского отделения Института русского языка АН СССР, специально посвященное результатам дискуссии в биологии.
Здесь выступили Мещанинов и Филин. В самих названиях основного доклада Мещанинова «О положении в лингвистической науке» и 40-летнего Филина «О двух направлениях в языкознании» был прямой параллелизм с названиями основных документов августовской сессии ВАСХНИЛ. Мещанинов занялся прямым переводом доклада Лысенко на биологической сессии на язык лингвистики: «Теоретические изыскания, непосредственно связанные у нас с интересами практики, выдвигают такие же вопросы в исследованиях ученых разных специальностей, а не только одних биологов». К числу таких общих тем Мещанинов отнес «такие затронутые на сессии биологов темы, как проблемы наследственности, как учение о качественных изменениях в историческом ходе развития явлений общественного порядка и вытекающие отсюда положения о стадийном или стадиальном движении с выяснением решающей в нем роли социального фактора».
В качестве примера Мещанинов привел учение о наследственности,
об изначальном и неизменчивом наследственном веществе. Такое же «наследственное вещество» выступает в учении Гумбольдта о «духе народа» ‹…› Они ложатся в основу расовой теории в языкознании, еще окончательно не изжитой в работах зарубежного языковедения и получившей в фашистской Германии широкое применение. Утверждение Вейсмана о невозможности управлять наследственностью организмов путем соответствующего изменения условий жизни этих организмов находит себе отклики даже в основных положениях господствующей по сей день зарубежной лингвистической школы, наименовавшей себя «социологической» ‹…› В этом отношении даже не нападки на Н. Я. Марра, а одно лишь игнорирование его работ дает вредные последствия, оставляя исследователя в плену чуждых советскому языкознанию концепций[123].
Филин пошел по пути персональной критики и поиска виновных: «Среди языковедов нашей страны пока нет методологического единства, среди них, как и у представителей биологии, имеются два направления, несовместимые друг с другом и борющиеся между собою», одно из которых представлено учением «основоположника материалистического языкознания» Марра, а другое – идеалистическая индоевропеистика. Филин обнаружил не простое «игнорирование» Марра, о котором говорил Мещанинов, но настоящий заговор в лингвистике: «На деле многие языковеды в нашей стране вели и ведут тайную или явную борьбу с новым учением Н. Я. Марра». Кляня «самоуспокоенность, притупление критического отношения к своим противникам» и рисуя картину настоящей методологической битвы на лингвистическом фронте с указанием имен Виноградова, Реформатского, Булаховского, Бубриха, Галкиной-Федорук, Поспелова, Аванесова, Якубинского и других, Филин напомнил, что не далее как в 1947 году «благодаря содействию советской общественности (прежде всего выступлениям „Литературной газеты“) представители нового учения о языке впервые после смерти Н. Я. Марра дали организованный отпор наступлению лингвистической реакции»[124], и заявил, что «неразоружившиеся индоевропеисты»[125] выступают не просто против Марра, но по сути против советской власти, ибо «в политическом отношении учение Н. Я. Марра, рожденное советским строем, является ‹…› составной и органической частью идеологии социалистического общества»[126].
Тут же был выявлен злокозненный заговор, «блок». Как утверждал один из выступавших в прениях Валентин Аврорин, «блок „поклонников заграничных талантов“ „свил свое гнездо“ в Московском институте русского языка АН СССР, в Московском университете. Нашей ближайшей и неотложной задачей является идейный разгром этого блока»[127]. В Москве разоблачениями занимался Сердюченко, после чего начались «оргвыводы» (закрытие кафедры сравнительно-исторического языкознания в МГУ, уход с поста декана филологического факультета МГУ Виноградова, изменения вузовских программ Министерством высшего образования – отказ от многих учебников, введение курса «нового учения о языке» по брошюрам Сердюченко и т. д.).
Начало 1949 года ознаменовалось открытием нового фронта – кампании борьбы с космополитами. Теперь Сердюченко сравнивает Марра не с Коперником, но с Павловым и Мичуриным, и доказывает, что Марр был связан с традициями русской науки, был патриотом, выступал против космополитизма и боролся с буржуазной наукой. Список врагов между тем расширяется таким образом, что в него попадают и многие видные марристы вплоть до самого Мещанинова. В дело включается «советская общественность» («Литературная газета» печатает погромные статьи Сердюченко) и «партийная печать» («Правда» обрушивается с резкой критикой на книгу Льва Зиндера, орган Агитпропа ЦК газета «Культура и жизнь» печатает разгромную редакционную статью «За передовое советское языкознание», полную политических обвинений[128]).
Антикосмополитическая кампания дала второе дыхание борцам за чистоту советской лингвистики. Сравнительное изучение языков теперь признается абсолютно вредным. Оно допускается только в исключительных случаях. Обращение к европейским языкам и вовсе вышло из научной моды. Автор грамматики чукотского языка Петр Скорик даже предложил ограничить изучение языков только языками народов СССР, а иностранные языки «должны привлекаться во вторую очередь. Этого требует наш патриотический долг»[129]. Сердюченко между тем продолжал выявлять космополитов, каковых в языкознании было найти нетрудно (достаточно было ссылок на материал западноевропейских языков или «буржуазных ученых»). Поток статей, докладов, брошюр, проработочных сессий, карательных акций в различных институциях по всей стране – от академических до вузовских – приобретает характер цунами[130].
К 1950 году, как ни парадоксально (в свете последующих обвинений в отсутствии критики и самокритики в языкознании), в советской лингвистике практически не осталось зон и лиц, свободных от критики, – включая наследника Марра и главного советского языковеда, лауреата двух Сталинских премий и Героя Социалистического Труда Мещанинова, теории которого обвиняли в антимарризме и который не мог не нести персональной ответственности за положение в советской лингвистике, официально признанное неудовлетворительным. Поэтому Мещанинов в ходе перманентных проработок воздерживался от прямых нападок и обвинений, концентрируясь на общих положениях, тогда как Сердюченко и Филин выполняли черновую работу.
Под вопросом оказывается как раз поведение последних. Мнение о том, что они «выполняли указания сверху», прочно утвердившееся в литературе о Марре[131], не вполне соответствуют характеру сталинской академической культуры. И в развернувшейся в 1948 году кампании в музыке, где в подобных же ролях выступали Коваль и Захаров, и в протекавшей параллельно в литературе антикосмополитической кампании, где подобные функции выполняли Софронов и Бубеннов, в самой подлежащей идеологическому очищению среде существует огромная тяга к сведению давних счетов, на разных полюсах замороженных в 1930‐е годы конфликтов. Тут обычно скрещиваются идеологические, научные и карьерные интересы различных лиц и групп. «Указания сверху» действуют только при условии поддержки «снизу».
Несомненно, что в советском языкознании «блок» действительно существовал, но состоял он как раз из Сердюченко, Филина, Мещанинова и ряда других лиц, рассчитывавших на определенные выгоды от установления монополии в лингвистике и опасавшихся за судьбу «нового учения», которое чем дальше, тем сильнее линяло и теряло свою идеологическую привлекательность «в новых условиях». Насколько самостоятельно действовала эта группа, облеченная к тому же значительной институциональной поддержкой, остается вопросом. Вряд ли те или иные конкретные мероприятия и выступления кем-то «сверху» (будь то Юрий Жданов или Топчиев) оркестровались, вряд ли прямые «указания сверху» вообще имели место. Напротив, инициатива исходила именно «снизу», от самих марристов.
А. Кожевников, апеллируя к новым архивным материалам, пишет по этому поводу:
В сообществе лингвистов быстро устанавливается «порядок» и стремительно вырабатывается консенсус, но окончательно зафиксировать его могло бы проведенное по всем правилам политическое мероприятие. Начиная с июля 1949 г., соответствующие предложения и информация о ведущейся борьбе с идеализмом в языкознании несколько раз направлялась в ЦК от имени Академии наук. Агитпроп был готов поддержать инициативу ученых и провести у себя небольшое совещание языковедов с докладами С. П. Толстова, Ф. П. Филина и Г. П. Сердюченко «с целью завершения работы по рассмотрению положения в советском языковедении и внесения в ЦК ВКП(б) предложений по улучшению научной работы в этой области». Однако в январе 1950 г. секретариат ЦК ответил, что достаточно организовать совещание при Академии наук, иначе говоря, – неполитическое мероприятие[132].
К этому стоит добавить поток жалоб в ЦК от антимарристов с обвинениями Сердюченко и Филина в нетерпимости и некомпетентности. На одной из таких жалоб (из Академии педагогических наук) секретарь ЦК Михаил Суслов написал резолюцию: «нельзя решать научные вопросы в административном порядке», «организовать дискуссию»[133]. Как можно видеть, если попытки манипуляции и имели место, то шли они не сверху, но, наоборот, снизу: сами марристы – организаторы кампании хотели вовлечь высшие инстанции в борьбу на своей стороне.
Итак, в 1948–1950 годах в языкознании шла одна из вполне рутинных кампаний, которые катились по стране с удивительной регулярностью начиная с 1946 года[134]. Конкретные исполнители действовали не за страх, а за совесть – в результате чисток они получали посты, влияние, власть. Но посты, влияние и власть требовали, в свою очередь, определенных номенклатурных качеств; умение вести себя наступательно-агрессивно и беспринципно, склонность к демагогии и политиканству были важными, но не единственными качествами, требуемыми от претендентов на монополию. Нужны были еще качества политиков – чувство меры, чувство (если не чутье!) опасности, умение не «перегибать палку» и постоянная готовность к самым неожиданным поворотам и исходу борьбы. Этих последних у марристов как раз и не было.
Сравнение Сталиным марровцев с рапповцами было настоящей фрейдистской оговоркой, поскольку ситуация 1950 года (выступление Сталина в «Правде») зеркально повторяет ситуацию 1932 года (постановление ЦК о разгоне РАППа). Ничто не предвещало неожиданного конца. Распоясавшиеся рапповцы уже чувствовали себя настоящими хозяевами в литературе, в течение ряда лет прибирая к рукам все литературные группы, а полная поддержка ЦК, «Правды» и лично Сталина совсем лишили их чувства опасности и меры. И когда неожиданно грянуло апрельское постановление ЦК, наступило состояние шока как для палачей, так и для жертв. Игру с РАППом Сталин вел лично, но ведь и роль литературы в ту эпоху несопоставима с ролью лингвистики в 1950 году. Тогда «игра кота с мышью» велась долго, но и ставки были велики – речь шла о завоевании культурных элит в период узурпации власти. Здесь же ставок не было вовсе. В том, между прочим, и состояла разница между 1930‐ми и 1950‐ми годами, что у Сталина не было актуальных политических задач (борьбы за власть или даже удержание власти), поскольку уже не было даже вымышленных (как в 1930‐е годы) вызовов его власти.
Пароксизмы 1930‐х годов остались в прошлом. Наступила эпоха нормализации и стабильности. Если начало 1930‐х годов было эпохой активного идеологического словотворчества, когда из сталинского кабинета выпархивал «меньшевиствующий идеализм» (1930) или «социалистический реализм» (1932), то после войны эпоха неологизмов осталась в прошлом, а высшей похвалой лингвистическим открытиям вождя были ссылки на победы «здравого смысла» над, надо полагать, революционными фантазиями. Академик И. И. Толстой писал о работах Сталина по их выходе, что они – «отрезвляющий голос разума, спокойное научное слово, сила которого лежит в его несокрушимой логике и ясности мысли, сталинской мысли»[135], выступление вождя – это выступление «в защиту здравого смысла»[136]. В этом отношении послевоенная эпоха может быть названа эпохой «чистого» сталинизма. Закончив с внутренней борьбой в 1937‐м и внешней – в 1945‐м, власть занималась демонстрацией власти. Идеальное сталинское государство демонстрировало свое эпическое величие, символом чего был вождь – мыслитель и корифей наук, занявшийся вопросами языкознания.
Здесь мы подходим к истокам лингвистической дискуссии.
Согласно наиболее авторитетному исследователю марризма Алпатову, это была одна из многих дискуссий (он упоминает философскую, биологическую и павловскую дискуссии):
Форма дискуссии имела совсем не дискуссионное содержание. Цель заключалась в подавлении всякой свободы в той или иной области науки, в установлении здесь монополии одного, признаваемого единственным марксистским направления ‹…› Предоставлявшаяся инакомыслящим возможность высказаться только облегчала их травлю, давала основание придираться к тем или иным формулировкам, трактуемым как угодно, заявлять о существовании сплоченной антимарксистской группы. В лингвистике некоторым аналогом такой дискуссии была так называемая поливановская дискуссия 1929 года ‹…›.
Однако ситуация в языкознании в мае 1950 г. была не такой, как в генетике в июле 1948 г. или в физиологии той же весной 1950 г. Там перед дискуссией исход борьбы не был окончательно ясен, каждое из направлений стремилось перетянуть чашу весов на свою сторону, тем более что Т. Д. Лысенко имел среди руководства страны не только сторонников, но и противников ‹…› Для марристов такой способ борьбы был явно излишним. Они уже добились преобладания в языкознании. Победа казалась полной. Противники либо сдавались, либо начали изгоняться из науки[137].
Однако ситуации 1929 и 1950 годов при внешнем сходстве (тут дискуссии и там дискуссии, тут чистки и там чистки, тут кампании и репрессии и там кампании и репрессии) сильно различаются. Дискуссии 1930‐х имели целью не столько монополию тех или иных лиц, сколько уничтожение истинных, а чаще мнимых противников режима или смену идеологического вектора. Послевоенные дискуссии решали совсем иные задачи (да и инакомыслящим здесь слова никто не давал). Чаще всего здесь была политическая подоплека, связанная с борьбой различных групп в Политбюро, и к содержанию споров все это не имело никакого отношения: марксистскими могли быть объявлены генетика и марризм, а оказались – агробиология и индоевропеистика. Просто летом 1948 года Сталину нужно было поддержать Лысенко (как замечает А. Кожевников, «если бы молодой работник ЦК Юрий Жданов не совершил ряд неграмотных действий, у Сталина вряд ли возник бы повод для вмешательства в биологическую дискуссию»[138]), а в 1950‐м – проявить себя в качестве языковеда и попутно решить еще ряд задач.
Языковедческая дискуссия не была похожа на остальные уже тем, что в ней Сталин решил участвовать публично, чего раньше не делал. Поэтому она должна быть понята в контексте ритуала явления вождя массам и партийным элитам, что куда важнее «вопросов языкознания». Что касается упомянутой Алпатовым философской дискуссии, то она вообще не предполагала никакого «исхода», будучи санкционированной Сталиным и проведенной Ждановым с целью ослабления позиций Александрова в ЦК в связи с усилением позиций Жданова и отстранения группы Маленкова – Берии, а также с целью усиления антизападной риторики и «партийности науки».
Биологическую дискуссию также вряд ли можно назвать дискуссией с непредсказуемым исходом. Это был по сути санкционированный Сталиным разгром противников Лысенко – на этот раз в пику Жданову. «Марристы», о которых Алпатов говорит, что они добились полной победы, вообще не представляли собой никакой силы. «Сила» Сердюченко и Филина состояла в слабости Мещанинова и еще большей слабости Виноградова, а также в том, что они следовали в русле кампании до той поры, пока не вмешался Сталин, узревший в ней свой интерес. Но сам факт вмешательства Сталина и говорит о слабости и о фиктивности «победы» марристов. Более того, марристы вели свою кампанию настолько грубо, шумно и политически неуклюже, что в конце концов нажили себе мощных врагов, таких как Арнольд Чикобава, которые и нашли выход на самый верх партийной иерархии. И исход кампании – как всегда – решился вовсе не участниками дискуссий, но Сталиным лично.
Почти два месяца шла дискуссия, и каждый вторник «Правда» помещала статьи, содержащие противоположные точки зрения на Марра, причем при строжайшем балансе – равное количество промарровских, антимарровских и нейтральных. То обстоятельство, что дискуссия в «Правде» развернулась внезапно и что марристы не знали, что вообще происходит (если бы знали, вряд ли Мещанинов, Чемоданов и Филин стали бы защищать Марра и нападать на Чикобаву), говорит о том, что «указания сверху» определенно не работали. Остается предположить, что действовали марристы на свой страх и риск, со все большей самоуверенностью, ведя рискованную игру: достаточно было одного обиженного, сумевшего найти выход в высшие партийные инстанции, чтобы вся кампания оказалась под угрозой (что и произошло). Это и имел в виду Сталин, заявив, что марристы «самовольничали и бесчинствовали». Именно так – само-вольничали и бес-чинствовали (то есть вели себя непристойно, нечинно, не в соответствии с чинами!), зарвались, не поняв главного – победа здесь не за тем, кто прав или неправ, но за тем, кто не самовольничает и знает чины и чинность (несомненно, Сталина возмутило именно самоуправство и то, что поворот в целой науке происходит без его ведома, «за его спиной»). Характерно, что именно здесь гнев Сталина вырывается наружу и впервые в голосе корифея наук начинают звучать знакомые зловещие интонации: «Подобное поведение равносильно вредительству».
Филин и Сердюченко не имели надежной поддержки в ЦК. Иначе говоря, поддержка, оказываемая им на уровне Отдела науки, не была санкционирована Сталиным, тогда как именно сталинское мнение было решающим. Нужно не представлять себе механизма работы аппарата ЦК, чтобы полагать, подобно А. Кожевникову, будто «на практике конечные результаты публичных конфликтов (в науке. – Е. Д.) не были предопределены заранее, а зависели от умений и действий противоборствующих сторон»[139] или «исход разыгрываемого „поединка“ был непредсказуем»[140]. Поскольку Сталин сравнил марристов с рапповцами, здесь будет уместно привести свидетельство одного из ключевых участников событий тех лет. Только что пришедший на работу в аппарат ЦК на должность завсектором художественной литературы Агитпропа ЦК Владимир Кирпотин (апрель 1932) оказался сразу же втянутым в процесс разгона РАППа. Он вспоминал о потоке писем в ЦК от лидеров недавно всемогущей Ассоциации на имя различных секретарей ЦК (так или иначе вовлеченных в процесс принятия идеологических решений) с протестами. Между тем даже всесильные в то время Каганович, Постышев и Стецкий «не посмели обратиться к генсеку». «Позже я убедился, – пишет Кирпотин, – снизу вверх можно было обращаться сколько угодно, но если вопрос не доходил до Сталина, никакого ответа не следовало, каким бы срочным он ни казался»[141].
Ситуация в языкознании развивалась своим чередом, поскольку никто не ожидал сталинского вмешательства в столь экзотическую сферу. Поэтому когда весной 1949 года первый секретарь ЦК компартии Грузии Кандид Чарквиани предложил Арнольду Чикобаве написать доклад о марровской теории стадиального развития языков, а затем смог донести «вопрос» до Сталина, Сталин спустя год вызвал к себе Чикобаву, решив поддержать противников Марра и инициировал дискуссию, результаты которой, хотя и не были известны самим участникам, ему были известны с самого начала.
114
Алпатов В. М. История одного мифа. С. 148–167.
115
См.: Кожевников А. Б. Игры сталинской демократии и идеологические дискуссии в советской науке: 1947–1952 гг. // Вопросы истории естествознания и техники. 1997. № 4.
116
Литературная газета. 1947. 25 октября.
117
Литературная газета. 1947. 29 ноября.
118
Литературная газета. 1947. 10 декабря.
119
См.: Добренко Е. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен, 1993. С. 321–328.
120
Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1948. Т. 5. С. 463–466.
121
Там же. С. 466–468.
122
Там же. С. 468–469.
123
Мещанинов И. И. О положении в лингвистической науке // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1948. Т. VII. № 6. С. 473–485.
124
Филин Ф. П. О двух направлениях в языковедении // Там же. С. 486–496.
125
Там же. С. 496.
126
Там же. С. 488.
127
Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1949. Т. VIII. № 1. С. 90.
128
За передовое советское языкознание // Культура и жизнь. 1949. 11 мая.
129
Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1949. Т. VIII. № 5. С. 491.
130
Отзвуки тех погромных собраний сохранились в отчетах, резолюциях и речах того года. См.: Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1949. Т. VIII. № 1. С. 85–92; Там же. № 4. С. 396–400; Там же. № 5. С. 479–491, 493–495; Там же. № 6. С. 497–508.
131
Алпатов В. М. История одного мифа. С. 163.
132
Кожевников А. Б. Игры сталинской демократии и идеологические дискуссии в советской науке: 1947–1952 гг. С. 50.
133
Там же. С. 50.
134
Как замечает А. Кожевников, «собрания, проходившие в 1946–1949 гг., в основном определялись необходимостью провести обсуждение таких политических событий, как доклад А. А. Жданова о журналах „Звезда“ и „Ленинград“ (1946), итоги Философской дискуссии 1947 г. и Августовской сессии 1948 г. Соответственно сначала лингвисты анализировали работу своих журналов, затем обсуждали качество собственных учебников, и, наконец, всерьез занялись критикой идеализма в своей среде» (Кожевников А. Б. Игры сталинской демократии и идеологические дискуссии в советской науке: 1947–1952 гг. С. 48). Сюда же стоит добавить, что с 1949 года начались активные поиски космополитов в лингвистической среде, а также проявился прямо не упоминавшийся подтекст проблемы: в стадиальной классификации Марра грузинский язык оказался на более низкой стадии, чем еврейский (о чем не преминул сообщить Сталину Чикобава), – мысль, которая вряд ли могла вызвать сочувствие в Сталине как раз в то время, когда в стране шла инициированная им широкая антисемитская кампания.
135
Ясность сталинской мысли и языка даже ставилась в пример ученым-лингвистам: «Товарищ Сталин хорошим примером учит, как следует нам, советским языковедам, советским научным работникам, писать свои научные труды (и читать лекции) на родном языке просто и ясно ‹…› Все убедились теперь, что нет такого сугубо специального научного вопроса, нет такой мысли, как бы глубока и серьезна она ни была, которую нельзя было бы изложить с предельной четкостью на языке, доступном миллионам читателей и слушателей» (Советское языкознание на подъеме [Передовая] // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1951. № 3. С. 216).
136
Толстой И. И. Отрезвляющий голос разума // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1950. № 3. С. 62, 63.
137
Алпатов В. М. История одного мифа. С. 168–169.
138
Кожевников А. Б. Игры сталинской демократии и идеологические дискуссии в советской науке: 1947–1952 гг. С. 53.
139
Там же. С. 29.
140
Там же. С. 30.
141
Кирпотин В. Я. Ровесник железного века: Мемуарная книга. М.: Захаров, 2006. С. 154.