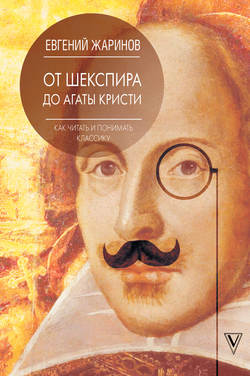Читать книгу От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику - Евгений Жаринов - Страница 3
Часть III
Возрождение
Боккаччо «Декамерон»
ОглавлениеИтак, «Декамерон» начинается знаменитым описанием флорентийской чумы 1348 года. Мрачный трагический колорит этого описания эффектно контрастирует с весёлым жизнерадостным настроением всего сборника. Семь девушек и трое юношей удаляются от зачумлённого города на виллу, находящуюся в окрестностях Флоренции, чтобы приятно провести время в прогулках, играх, танцах, рассказывая друг другу забавные анекдоты, или новеллы. Боккаччо не случайно в мировой литературе будет считаться одним из родоначальников жанра новеллы как малой эпической прозы. Каждый день рассказывается по десяти новелл (по числу участников этой компании), а всего они проводят на вилле десять дней. Отсюда и название сборника «Декамерон» (свободное греческое словообразование, означающее «десятидневник»).
Таким образом, новеллы рассказываются в обстановке своего рода «пира во время чумы». Академик А.Н. Веселовский замечает по этому поводу: «Боккаччо схватил живую, психологически верную черту – страсть к жизни у порога смерти». Вот каким образом Боккаччо описывает флорентийскую чуму, используя текст Фукидида: «Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения сына божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший изо всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам посланная праведным гневом божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до запада. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными, запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми, в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как на востоке, где кровотечение из носа было явным знамением неминуемой смерти, – здесь в начале болезни у мужчин и женщин показывались в паху или подмышками какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца, одни более, другие менее; народ называл их gavoccioli (чумными бубонами); в короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковым были пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила какого бы то ни было лекарства: таково ли было свойство болезни, или невежество врачующих (которых, за вычетом ученых медиков, явилось множество, мужчин и женщин, не имевших никакого понятия о медицине) не открыло ее причин, а потому не находило подобающих средств, – только немногие выздоравливали и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков, одни скорее, другие позже, – большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных, через общение со здоровыми, она переходила на последних, совсем так, как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не только беседа или общение с больными переносило на здоровых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся. Дивным покажется, что я теперь скажу, и если б того не видели многие и я своими глазами, я не решился бы тому поверить, не то что написать, хотя бы и слышал о том от человека, заслуживающего доверия. Скажу, что таково было свойство этой заразы при передаче ее от одного к другому, что она приставала не только от человека к человеку, но часто видали и нечто большее: что вещь, принадлежавшая больному или умершему от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо не человеческой породы, не только заражала его недугом, но и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано выше, я убедился собственными глазами, между прочим, однажды на таком примере: лохмотья бедняка, умершего от такой болезни, были выброшены на улицу; две свиньи, набредя на них, по своему обычаю, долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их со стороны в сторону, и по прошествии короткого времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали мертвые на злополучные тряпки.
Такие происшествия и многие другие, подобные им и более ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой цели; избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, воображали сохранить себе здоровье. Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не дозволяя кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей извне – о смерти или больных, – они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается – вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствие. Делать это было им легко, ибо все предоставили и себя и свое имущество на произвол, точно им больше не жить; оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них, пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. И эти люди, при их скотских стремлениях, всегда, по возможности, избегали больных. При таком удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли отправлять никакой обязанности; почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится».
Но перед нами, скорее, не свидетельские показания, а литературная мистификация, хотя и очень выразительная. Картины же реальной катастрофы, обрушившейся на Европу, были куда драматичнее. Мы знаем о них по сохранившимся хроникам, по монастырским записям. Вот как картину чумы середины XIV века воссоздаёт американский историк Б. Такман: «В сентябре 1347 года в Мессину, порт на Сицилии, пришли генуэзские торговые корабли с уже умершими или умирающими матросами. Генуэзцы приплыли из Кафы (нынешней Феодосии), где у них находился опорный торговый пункт. У умирающих моряков подмышками и в паху были странные опухоли (бубоны) размером с яйцо, из которых сочилась кровь с гноем, а их кожа была покрыта фурункулами и темными пятнами. Вскоре от этой болезни слегли и другие люди». Здесь следует отметить, что данную эпидемию можно рассматривать как факт первой биологической атаки, которую предпринял хан Джанибек против жадных и корыстных генуэзцев, покупавших детей монголов с целью работорговли у голодающих монголов. А голодать монголы начали потому, что татарские кочевья постиг джуд (гололедица). Так об этом пишет историк Л.Н. Гумилёв, следуя своей теории этногенеза и общей концепции Вернадского о ноосфере. Противостояние, – по мнению историка, – вылилось в открытую войну хана Джанибека с генуэзцами после того, как татарские кочевья постиг джуд (гололедица). Скот падал, люди голодали, и, спасаясь от голода, татары продавали сыновей и дочерей генуэзцам. Генуэзцы с удовольствием скупали девочек и мальчиков в чаянии высоких барышей. Узнав об этом, Джанибек страшно возмутился: по татарским понятиям, можно и нужно было стремиться к получению военной добычи, но наживаться на несчастье соседа считалось аморальным. Войска Джанибека осадили сильную генуэзскую крепость Кафу. Поскольку генуэзцы имели флот, а татары – нет, крепость была для них практически неприступна. И тогда Джанибек приказал забросить катапультой в крепость труп умершего от чумы человека. Труп перелетел через стену и разбился. Естественно, в Кафе началась чума. Генуэзцы вынуждены были оставить Кафу, и уцелевшая часть гарнизона отправилась домой.
По дороге покинувшие Кафу остановились в Константинополе – чума пошла гулять по Константинополю и пришла в Европу. В это же время происходила миграция с востока на запад азиатской землеройной крысы-пасюка. Поскольку крысы – это переносчик чумы, «черная смерть» поползла по всей Западной Европе. Тогда вымерла большая часть Южной Италии, три четверти населения Германии, около 60 % населения Англии.
Возбудитель чумы был открыт в 1894 году в начале 3-й пандемии, начавшей свое опустошительное шествие по миру из китайского сектора Taipingshan в Гонконге, заселенного иммигрантской беднотой, где «лицом» городского быта были перенаселенность, голод, грязь, тухлая вода, иными словами – нищета и полная антисанитария. И уже через пять лет после этого открытия Д.К. Заболотный (1899 г.) предположил, что «…различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, на которой сохраняются чумные бактерии». Тем самым еще в конце XIX века стал закладываться фундамент будущей теории природной очаговости чумы во всей палитре ее оттенков, ставшей позднее научной основой для познания этой «контагиозной заразы», жертвами которой с самых древних времен по разным оценкам стали до 200 млн. человек. Особенно велики были жертвы в Средневековье. Католическая молитва-заклинание: «А peste, fame, bello libera nos Domine!» (От чумы, голода, войны избавь нас, Господи!) – перечисляла бедствия, от которых более всего страдала Европа в то время. Роль чумы в молитвенной триаде была главенствующей. Смертность в период пандемии достигала 77–97 %. Испытанным рецептом, которого придерживались в народе, вплоть до XVIII века было – «cito, longe, tarde» – бежать из зараженной местности скорее и дальше и возвращаться как можно позднее.
Возникновение чумы, или микроба Yersinia pestis, разные авторы датируют в очень широких пределах, с конца мела (Домарадский, 1998 г.) до раннего плейстоцена (Петров, 1968 г.), то есть от 70–65 до 2–1 млн. лет назад. Но почему в эпоху цивилизации, начиная с античности и особенно в Средневековье, этот микроб проявил себя настолько разрушительно, что, в буквальном смысле, смог перепрограммировать, перенаправить весь ход истории? Всё дело в грызунах и в появлении таких экосистем, в результате которых микроб-паразит Yersinia pestis через своих носителей грызунов перешёл непосредственно на человека. Так экология вмешалась в историю. Все первичные, возникшие без участия человека природные очаги чумы приурочены к регионам с засушливым климатом: сухим степям, полупустыням, пустыням, горам. Казалось бы, в этих сухих солнечных краях вообще нет места для Y. pseudotuberculosis. Это и есть научное название бактерии, возбудителя чумы. Однако он может найти укрытие в норах грызунов, всегда темных и достаточно влажных и к тому же богатых питательной средой (как известно, норные грызуны отводят специальный отсек норы под туалет). Там же, в этих норах, обитают бесчисленные блохи, которые сами кормятся на хозяевах нор, а их личинки живут в гнездовой подстилке, питаясь сухими органическими остатками (в том числе экскрементами взрослых блох, содержащими немалое количество недопереваренной крови). Это разделение сохраняется и там, где грызуны впадают в зимнюю спячку: взрослые блохи продолжают жить на спящих зверьках, личинки копошатся в подстилке. Но в самом северо-восточном углу сухих степей – в Забайкалье и северной Монголии – грунт зимой промерзает на очень большую глубину. И хотя у обитающих там монгольских сурков-тарбаганов глубина семейных нор доходит до 3,5 метров, во второй половине зимы даже в их спальных каморках стоит настоящий мороз. Единственным местом с температурой выше нуля остается сам сурок, хотя температура его тела большую часть времени спячки не превышает 5 градусов (и лишь несколько раз за зиму ненадолго возрастает до обычных 37), это все же гораздо лучше, чем минус 8 градусов в остальном гнезде. Спасаясь от мороза, личинки блох переходят на спящего сурка. А больше всего их собирается на его морде, откуда исходят слабые и редкие волны чуть теплого воздуха. Там они и остаются до окукливания, питаясь единственным доступным кормом, обгрызая слизистую оболочку ротовой полости зверька и слизывая выступающую на ранках кровь. Фактически половину спячки тарбаганы проводят с постоянно кровоточащим ртом: при температуре тела сурка в 4–5 градусов кровотечение из таких ранок продолжается сутками, хотя у активных зверьков оно прекратилось бы в течение нескольких минут. Надо еще учесть, что тарбаганы имеют привычку спать, свернувшись клубочком, уткнув морду в основание хвоста и прикрыв ее передними лапами. При этом шерсть под хвостом, подушечки лап и даже морда у них испачканы экскрементами: перед залеганием в спячку они лепили из грунта и собственного помета длинную пробку, затыкающую вход в нору, чтобы зимой его не раскопал хищник. И все встает на свои места. Несколько месяцев подряд на периферию кровеносной системы сурков регулярно попадают частицы фекалий вместе с населяющим их микробом Y. pseudotuberculosis. Кровь зверьков большую часть времени охлаждена до идеальной, с точки зрения этого микроба, температуры и иммунно неактивна – заходи и пользуйся. А редкие и короткие подъемы температуры создают идеальный режим для естественного отбора форм, способных стать настоящими кровяными паразитами. Учёные предполагают, что это произошло во время одного из последних оледенений – Сартанского, когда зона глубокого зимнего промерзания грунта перекрылась с зоной сухих степей. Это позволяет датировать рождение чумного микроба вполне конкретным временем: 15–22 тысячи лет назад. Что, кстати, неплохо согласуется с данными «молекулярных часов», согласно которым Y. pestis и Y. pseudotuberculosis отделились друг от друга не раньше 20 и не позже полутора тысяч лет назад. Страшная болезнь, унесшая жизни сотен миллионов людей и неоднократно менявшая историю многих стран, возникла только потому, что где-то в безлюдных степях Забайкалья местные сурки ложатся в зимнюю спячку с немытыми лапками. Микроорганизмы, известные нам как возбудители опасных болезней, на самом деле являются стабильными элементами определенных природных сообществ. За время долгой совместной эволюции они «притерлись» к своим постоянным хозяевам, минимизировав причиняемый им вред, а часто и вовсе сводя его к нулю. Одновременно у них выработались специфические жизненные циклы и эффективные механизмы заражения, обеспечивающие их передачу от одного поколения хозяев к другому. Но когда в эту сбалансированную систему вторгается несвойственный ей вид, например человек, безвредные для своих «законных» хозяев возбудители атакуют его со всей яростью прирожденных убийц. Данная гипотеза наилучшим образом объясняет всю известную на сегодня совокупность фактов, относящихся к возникновению чумного микроба и его взаимоотношения с природными хозяевами и переносчиками. Тем не менее, она остается лишь гипотезой и вряд ли когда-нибудь может быть строго доказана. Впрочем, даже если считать происхождение чумы разгаданным, у грозной болезни остается еще немало загадок.
Какая страшная гримаса истории, – грязные лапки каких-то грызунов, обитателей далеких степей и эпоха титанов, эпоха Возрождения, как естественная реакция на биологическую катастрофу, чуму, вызванную микробами, которые появились на свет благодаря нечистоплотности мелких зверушек. Не случайно представители этой эпохи будут утверждать, что Вселенная подчиняется строгой закономерности, которую под силу разгадать человеку с помощью цифрового ряда чисел Фибоначчи, золотого сечения и линейной перспективы. Как блохи на теле никому не известного грызуна, обитающего в далекой степи, так и золотое сечение, воплощенное в раковине моллюска и в форме галактик – все это связано между собой невидимой закономерностью, в полной мере воплотившейся в самой архитектуре Флоренции, в её улицах и площадях.
Но вернёмся к хронике Чёрной Смерти. По свидетельству одного из хронистов, в Авиньоне ежедневно умирали 400 человек, а по данным другого, на единственном кладбище каждые шесть недель хоронили 11 000 скончавшихся от чумы жителей города. Когда в Авиньоне мест на кладбище не осталось, трупы бросали в Рону, пока не стали рыть ямы для общих могил. В Лондоне трупы укладывали в ямы рядами, почти до самого верха. Во Флоренции мертвых хоронило Общество милосердия (основанное в 1244 году для ухода за больными и сирыми), члены которого носили красные мантии и капюшоны с прорезями для глаз. Когда они перестали справляться со своими обязанностями, мертвые лежали на улицах, распространяя ужасный запах. Когда кончались гробы, мертвых хоронили на досках на кладбищах или укладывали в общую яму. Неглубокие ямы раскапывали собаки и пожирали покойников.
«И не слышался колокольный звон, – писал хронист из Сиены, – и никто не оплакивал умерших, ибо каждый ожидал смерти сам. И люди говорили: «Наступил конец света». Как сообщают хронисты, в Париже, где чума свирепствовала весь 1346 год, ежедневно умирали 800 человек, в Пизе – 500, в Вене – от 500 до 600 человек. Флорентийцы, обессиленные голодом 1347 года, потеряли от шестнадцати до восьмидесяти процентов населения. Две трети жителей умерли в Гамбурге, Бремене и Венеции. В городах, в связи с приездом иногородних, смертность от чумы была выше, чем в сельской местности, но и в некоторых деревнях смертность была высокой. В Живри, богатой бургундской деревне с населением от 1 200 до 1 500 человек, за четырнадцать недель умерло более шестисот жителей. В трех деревнях Кембриджшира умерло сорок семь, пятьдесят семь и семьдесят процентов населения соответственно. Когда оставшиеся в живых в деревне, наиболее пострадавшей от мора, ушли из нее, она перестала существовать.
В закрытых учреждениях, таких как, к примеру, монастыри, стоило заболеть одному человеку, как вслед за ним умирали и другие члены сообщества. В Монпелье из ста сорока доминиканцев выжили только семь человек. Брат Петрарки Герардо, картезианец, похоронил настоятеля монастыря и тридцать четыре монаха, иногда предавая земле трех умерших в день, пока не остался один с собакой, после чего отправился на поиски иного жилища. Хронист францисканец Джон Клин из Килкенни, Ирландия, писал, что «весь мир во власти сил зла», но полагал, что мор со временем кончится, а затем и «испарится из памяти тех, кто придет после нас». Он считал, что вскоре и сам умрет, и просил продолжить его работу. Следующая запись в его труде сделана другим человеком. Джон Клин умер, но его имя осталось в истории. Из всех европейских стран более всего от чумы, видимо, пострадала Италия. Если весь мир действительно находился «во власти сил зла», то они наиболее проявили себя в этой стране. Но именно в Италии на берегу реки Арно и зародилось Возрождение.
Весь «Декамерон» – это, действительно, своеобразный «пир во время чумы». Если до этой страшной пандемии человечество жило в стратегии договора с Богом: Ветхий и Новый Завет, то после пережитой Чёрной Смерти, которую воспринимали не иначе, как «конец света», договор уже стремились заключить с падшим ангелом. Именно в эпоху Ренессанса появится миф о докторе Фаусте и возникнет поэтика благородного светского безумия (Гамлет), которое будет отличаться от безумия блаженного, благостного, столь характерного для всего высокого Средневековья. А в Испании появится и новый вариант силового решения всех проблем мирового зла и несправедливости (Дон Кихот). Известно, что мировая литература создала четыре величайших персонажа – это Гамлет, Дон Кихот, Фауст и Дон Жуан. Следует отметить, что последний получит своё полное развитие уже в эпоху XVII века. Но зато три других появятся на свет именно благодаря Ренессансу. Нам могут возразить и вспомнить Гёте, его трагедию «Фауст», а это уже XVIII век. Но образ Фауста возник задолго до Гёте. И договор с дьяволом вместо договора с Богом человечество заключило именно в эпоху Возрождения. Когда мы говорим об этом историческом периоде, то принято впадать в некий пошлый восторг. Ах, какая светлая была эпоха! Эпоха гуманизма! Но именно гуманизм и является причиной всех бед. Суть гуманизма – это обожествление человека со всеми его страстями, демонами, стихиями, со всем его «материально-телесным низом» и т. д. Об этом писал ещё А.Ф. Лосев в своём фундаментальном труде «Эстетика Возрождения». В этой книге он выводит такое понятие, как «обратная сторона титанизма». По мнению исследователя, титанизм и гуманизм можно рассматривать как синонимы. Но кто является в Библии титаном? Правильно. Голиаф. А кто его побеждает? Давид, из рода которого и явится сам Спаситель. О чём это говорит? Да о том, что титанизм противоречит самой идее христианского смирения. Вот какие примеры разгула страстей приводит А.Ф. Лосев в своей книге: «Всякого рода разгул страстей, своеволия и распущенности достигает в возрожденческой Италии невероятных размеров. Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки, игорные и публичные дома, так что приходится неоднократно издавать декреты, запрещающие священникам «ради денег делаться сводниками проституток», но все напрасно. Монахини читают «Декамерон» и предаются оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как последствия этих оргий. Тогдашние писатели сравнивают монастыри то с разбойничьими вертепами, то с непотребными домами».
Судя по всему, испытав посттравматический синдром после нескольких лет страшной эпидемии, жители Европы задумались над тем, что их средневековая концепция жизни уже перестала удовлетворять их запросам, связанным, в основном, с простым выживанием во время всеобщей катастрофы, спровоцированной Чёрной Смертью. В дальнейшем мы разберём, как и кто конкретно принял участие в общей стратегии перепрограммирования европейской культуры. Какую роль здесь сыграло семейство Медичи, которых не случайно называют «крёстными отцами Ренессанса». Коснёмся мы и детального анализа трёх главных персонажей этой эпохи – это Фауст, Гамлет и Дон Кихот. А пока нам следует вновь вернуться к «Декамерону».
Боккаччо изображает своих рассказчиков и рассказчиц образованными, изящными и остроумными молодыми людьми. Самой старшей в этой компании лет 27. Трое юношей носят имена Дионео, Филострато и Памфило, под которыми Боккаччо выводил самого себя в своих юношеских произведениях. Чувственно-весёлый Дионео, меланхоличный и чувствительный Филострато и серьёзный, рассудительный Памфило – показатели настроений самого Боккаччо в разные периоды его молодости. Характер каждого из юношей отражается в рассказываемых им новеллах. То же относится и к девушкам, среди которых фигурирует Фьяметта (Пылающая), своеобразная Беатриче и Лаура. Фьяметта – это дань моде на Прекрасную Даму в стиле неоплатонизма и рыцарской куртуазности. Девушек семь. Встречается вся эта весёлая и молодая компания в самый разгар флорентийской чумы. Группа из 3 благородных юношей и 7 дам договариваются обо всём в церкви Санта Мария Новелла и быстро уезжают из охваченной заразой Флоренции на загородную виллу в 2 милях от города, чтобы там спастись от болезни. (Традиционно считается, что это Вилла Пальмьери во Фьезоле). За этим весёлым договором скрывается страшная трагедия. Если самой старшей девушке уже исполнилось 27, то это означает лишь одно: она не раз рожала и у неё должна была быть семья. Где они, её дети? Почему ничего не говорится о её прошлой жизни? Может быть, семьи уже нет? Явно эта молодая компания встречается в знаменитой средневековой церкви не для молитвы. Ими движет сексуальное влечение друг к другу. Откуда в их распоряжении оказывается такая роскошная вилла? Может, это случайное наследство? И здесь вновь дала знать о себе Чума? Откровенная сексуальность этого произведения и станет причиной его необычайной популярности. Так Боккаччо смог уловить эту связь между Танатосом и Эросом? Явление внеисторическое и вполне естественное для человеческой природы. Достаточно вспомнить книгу лауреата нобелевской премии Чеслава Милоша «Порабощённый разум». Автор этой книги, обращаясь к опыту «коричневой чумы» – фашизма, так описывает взрыв сексуальности у молодых людей, которым грозит неминуемая смерть: «Соседство смерти уничтожает сдерживающие тормоза стыда. Мужчины и женщины, знающие, что дату их смерти записал в свой блокнот откормленный тип с хлыстом и пистолетом, который решает их судьбу, совокупляются у всех на глазах, на малом клочке земли, огороженном колючей проволокой, который и есть их последнее земное пристанище. Восемнадцатилетние парни и девушки перед тем, как занять позицию на баррикаде, где они будут сражаться с пистолетами и бутылками бензина против танков, хотят попользоваться своей молодостью, за которой, вероятно, не последуют годы зрелости, и они не заботятся о приличиях, существующих в ином, отдаленном от их времени измерении».
Скорее всего, нечто подобное происходит и в головах героев «Декамерона». Иными словами, «соседство смерти уничтожает сдерживающие тормоза стыда». Вот это бесстыдство, прежде всего, и привлекало читателей данной книги.
Каждый день собеседники выбирают из своей среды короля или королеву, которые руководят занятиями всей компании и задают тему для очередных рассказов. Однако эти темы обычно носят очень общий характер и не препятствуют разнообразным трактовкам со стороны рассказчиков.
Боккаччо почти никогда не изобретал фабулы своих новелл. Он разрабатывал использованные в литературе сюжеты, подчас весьма древние. Источники «Декамерона» – французские фаблио, средневековые романы, античные и восточные сказания, средневековые хроники, сказки, новеллы предшественников, злободневные анекдоты. Однако Боккаччо пользовался заимствованным материалом весьма свободно, меняя ситуации, вводя новые художественные детали, видоизменяя целевую установку всего рассказа. В итоге весь использованный им материал принимал ярко индивидуальный характер.
У предшественников Боккаччо новелла была ещё по существу назидательным рассказом в средневековом духе. Боккаччо сохраняет эту тенденциозную морализующую установку. Рассказчики «Декамерона» сопровождают свои новеллы моральными сентенциями, вытекающими из их рассказа. Так, 8-я новелла X дня должна показать силу истинной дружбы, 5-я новелла I дня должна иллюстрировать значение быстрого и удачного ответа и т. д. Однако обычно у Боккаччо мораль вытекает из новеллы не логически, как в средневековых назидательных рассказах, а психологически. Это придаёт новелле принципиально новое качество. Читатель словно додумывается до вывода сам: автор с помощью определённых художественных приёмов лишь направляет определённым образом его мысль.
В своих новеллах Боккаччо рисует огромное множество событий, образов, мотивов, ситуаций. Он выводит целую галерею фигур, взятых из различных слоёв современного ему общества. Это социальные типы. Все новеллы при всем их разнообразии могут быть разбиты на несколько групп.
Первая, самая простая в сюжетном отношении группа – это коротенькие рассказы, повествующие о каком-нибудь остроумном изречении, коротком и быстром ответе, помогающем герою выйти из затруднительного положения. Такие новеллы, зачастую напоминающие французские фаблио, заполняют I и VI дни «Декамерона». Формально к этой группе примыкает и знаменитая новелла восточного происхождения о трёх кольцах (день первый, новелла 3-я), в которой Боккаччо утверждает принципиальное равенство трёх основных религий, выступая против претензий христианства на истинность.
Ко второй группе относятся новеллы об удивительных добродетелях и глубоких движениях души. Такие новеллы характерны в особенности для X дня. Здесь прославляется пышность двора испанского короля Альфонса, великодушие Карла Анжуйского, щедрость Натана, непоколебимая любовь Тито и Джизиппо. Новеллы этой группы посвящены прославлению рыцарских добродетелей и куртуазии. Такова известная новелла о Фредериго дельи Альбериги (день пятый, новелла 9-я) – бедном рыцаре, заколовшем для угощения любимой дамы своего единственного сокола. Эта новелла отличается особым психологизмом, который войдет в традицию дальнейшей европейской новеллы, например, новеллы Мопассана. «Ожерелье» последнего и «Сокол» Боккаччо близки по своей стратегии повествования. И там и здесь вся смысловая нагрузка приходится на одну яркую деталь, которая по мере повествования, как снежный ком, лишь набирает скрытых смыслов, обогащает подтекст. В результате читательское восприятие на ассоциативном уровне запускает свой собственный процесс смыслообразования. Отсюда вместо прямой и плоской назидательности рождается художественная многозначность, настоящий калейдоскоп личных смыслов. Но сначала сюжет. Кратко у Боккаччо он сконцентрирован на рассказе об одной непреклонной даме, за которой ухаживает один галантный кавалер по законам куртуазности, воспетой трубадурами Прованса. Федериго дельи Альбериги любит, но не любим, расточает на ухаживание все свое состояние, и у него остается всего один сокол, которого, за неимением ничего иного, он подает на обед своей даме, пришедшей его навестить. Дама же посещает своего поклонника лишь из-за того, что её единственный сын очень болен и просит свою мать привезти ей знаменитого сокола. Мать соглашается посетить поклонника лишь желая удовлетворить просьбу больного. Сын для неё дороже тщеславия. Она не собирается подавать напрасных надежд, она лишь хочет исполнить свой материнский долг. С её стороны – это жертва. И теперь новелла превращается в своеобразный турнир жертвенности. Мать идёт на жертву, но на жертву идёт и её поклонник. Теперь вопрос лишь заключается в том, чья жертва перевесит? Кажется, что эти жертвы несопоставимы. Посудите сами, с одной стороны – тяжело больной сын, чью просьбу следует исполнить любой ценой, а с другой – всего лишь охотничий сокол. Но здесь-то и понадобится нам определённый комментарий. Сокол для людей Средневековья – это не просто птица, это знак вашего социального статуса. Соколиная охота – забава королей. В Москве есть район – Сокольники. Назван он так в честь того, что там устраивалась царская соколиная охота. Вырастить такую птицу, чтобы принимать участие в забавах высшей знати, стоило немало денег и мастерства. У бедного воздыхателя, который и так ради завоевания сердца своей возлюбленной потратил всё состояние, сокол – это последняя статусная вещь, последняя надежда на возможность восстановления своего положения, ведь на таких соколиных охотах завязывались очень важные знакомства, обретались важные социальные связи. И вот, ради безнадёжной любви, этот благородный человек готов отрезать последнюю ниточку, не позволяющую ему скатиться вниз по социальной лестнице. Простите за такое вульгарное сравнение, но его поступок можно сравнить лишь с тем, когда разорившийся из-за любви олигарх возьмет да и сожжёт свой лимузин, чтобы осветить путь любимой. Всякий ли на такое способен? В этой новелле перед нами разворачивается самая настоящая битва между двумя благородными людьми. Они словно хотят выяснить, кто из них способен в своей жертвенности дойти до самого конца. Это, действительно, битва титанов. Новелла словно предвещает трагедии Шекспира. Разве в «Ромео и Джульетте» два молодых человека не перейдут за грань доступного в своей неистовой страсти? Разве сердце Джульетты не будет разрываться на части от любви к брату Тибальду и к его убийце Ромео? А сам Ромео не пустится в круговорот страстей и, отомстив за лучшего друга Меркуцио, не станет убийцей брата своей возлюбленной? Уже в этой небольшой новелле Боккаччо удается коснуться нужного регистра, чтобы зазвучал мощнейший орган человеческих страстей. Вот как эта скрытая драма представлена непосредственно в тексте: «Несмотря на то, что бедность его была крайняя, он никогда не сознавал, как бы то следовало, что без всякой меры расточил свои богатства; но в это утро, не находя ничего, чем бы мог учествовать свою даму, из-за любви к которой он прежде чествовал бесконечное множество людей, он пришел к сознанию всего; безмерно тревожась, проклиная судьбу, вне себя, он метался туда и сюда, не находя, ни денег, ни вещей, которые можно было бы заложить; но так как час был поздний и велико желание чем-нибудь угостить благородную даму, а он не хотел обращаться не то что к кому другому, но даже к своему работнику, ему бросился в глаза его дорогой сокол, которого он увидал в своей комнатке, сидящим на насесте; вследствие чего, недолго думая, он взял его и, найдя его жирным, счел его достойной снедью для такой дамы. Итак, не раздумывая более, он свернул ему шею и велел своей служанке посадить его тотчас же, ощипанного и приготовленного, на вертел и старательно изжарить; накрыв стол самыми белыми скатертями, которых у него еще осталось несколько, он с веселым лицом вернулся к даме в сад и сказал, что обед, какой только он был в состоянии устроить для нее, готов». Давайте остановимся на этом. Обратите внимание на то, как и при каких обстоятельствах принимает своё решение герой новеллы. Он собирается приготовить обед. О.М.Фрейденберг в своей знаменитой книге «Поэтика сюжета и жанра» обращает внимание на то, что в культуре приготовление пищи и жертвоприношение – вещи синонимичные. Например, Авраам обязан принести в жертву своего сына Исаака, словно агнца на костре. Христос произносит моление о чаше и говорит во время тайной вечери о хлебе и вине как о своей плоти и крови. И вот сокол. Его тоже приносят в жертву. Сокол невинен. Он ничего не знает о намерениях хозяина, которому служил верой и правдой. Не раздумывая, хозяин свернул ему шею. А вы, читатель, так и слышите этот слабый хруст. Заметьте, герой накрывает на стол самые белые скатерти. Зачем? Может быть, белый цвет здесь указан как надежда на искупление? Белый цвет, визуальное воплощение, вступает в конфликт со звуком: хруст сломанных шейных позвонков благородной невинной птицы, бесконечно преданной своему хозяину. Какое великолепное художественное воплощение так называемого сопротивления материалов. Всё, вроде бы, конкретно, визуально и ощутимо, ничего не названо впрямую, но мы в самом эпицентре торнадо человеческих страстей и ждём лишь развязки этой битвы благородств. И вот наступает очередь дамы: «Та, встав со своей спутницей, пошла к столу; не зная, что они едят, они вместе с Федериго, который радушно угощал их, съели прекрасного сокола». А что происходит в этот момент с Федериго? Как он воспринимает каждое движение челюсти своей возлюбленной? Это остаётся за кадром. Здесь начинается игра нашего воображения. Здесь может прийти на помощь только великий фильм П.П. Пазолини «Декамерон», в котором выдающийся режиссер попытался в визуальных образах передать художественное мастерство своего собрата-художника, жившего за много столетий до него под небом Италии.
Но драма на этом не заканчивается. Нужна мощная развязка. И она не заставляет себя долго ждать: «Когда убрали со стола, и они провели некоторое время в приятной беседе, монне Джьованне показалось, что наступило время сказать ему, зачем она пришла, и, ласково обратившись к нему, она начала говорить: «Федериго, если ты помнишь твое прошлое и мое честное отношение к тебе, которое ты, быть может, принимал за жестокость и резкость, то, я не сомневаюсь, ты изумишься моей самонадеянности, узнав причину, по которой главным образом я пришла сюда. Если бы теперь или когда-либо у тебя были дети и ты познал через них, как велика бывает сила любви, которую к ним питают, я уверена, ты отчасти извинил бы меня. Но у тебя их нет, а я, у которой есть ребенок, не могу избежать закона, общего всем матерям; и вот, повинуясь его власти, мне приходится, несмотря на мое нежелание и против всякого приличия и пристойности, попросить у тебя дара, который, я знаю, тебе чрезвычайно дорог, и не без причины, потому что твоя жалкая доля не оставила тебе никакого другого удовольствия, никакого развлечения, никакой утехи, и этот дар – твой сокол, которым так восхитился мой мальчик, что если я не принесу его ему, боюсь, что его болезнь настолько ухудшится, что последует нечто, вследствие чего я его утрачу. Потому прошу тебя, не во имя любви, которую ты ко мне питаешь и которая ни к чему тебя не обязывает, а во имя твоего благородства, которое ты своею щедростью проявил более, чем кто-либо другой, подарить его мне, дабы я могла сказать, что этим даром я сохранила жизнь своему сыну и тем обязана тебе навеки».
Когда Федериго услышал, о чем просила его дама, и понял, что он не может услужить ей, потому что подал ей сокола за обедом, принялся в ее присутствии плакать, прежде чем был в состоянии что-либо ответить». Не воспринимайте эти слёзы как слабость. Пусть они вас не обманывают. Это слёзы воина, который решил принять вызов любви, «как принимал во дни войны он вызов ярого сраженья», и это сраженье неожиданно проиграл. От него не ждали угощенья, не ждали соблюдения правил куртуазности, от него хотели получить не мёртвого, а живого сокола. Это слёзы отчаяния, что он не смог всё предугадать. Может быть, моё сравнение покажется кому-то неуместным, но данная ситуации проассоциировалась у меня с эпизодом из романа К. Воннегута, в котором он упоминает фотографию одного человека, похожего на Христа, которому неожиданно объявили, что распятие отменяется. Однако и дама неверно проинтерпретировала слёзы своего поклонника. Она заподозрила его в том, что ему жаль расстаться с дорогой птицей. Вот, что мы читаем: «Дама на первых порах вообразила, что происходит это скорее от горя, что ему придется расстаться с дорогим соколом, чем от какой-либо другой причины, и чуть не сказала, что отказывается от него, но, воздержавшись, обождала, чтобы за плачем последовал ответ Федериго, который начал так: «Мадонна, с тех пор как по милости божией я обратил на вас свою любовь, судьба представлялась мне во многих случаях враждебной, и я сетовал на нее, но все это было легко в сравнении с тем, что она учинила мне теперь, почему я никогда не примирюсь с ней, когда подумаю, что вы явились в мою бедную хижину, куда, пока она была богатой, вы не удостаивали входить; что вы просите у меня небольшого дара, а судьба так устроила, что я не могу предложить вам его; почему, об этом я скажу вам вкратце. Когда я услыхал, что вы снизошли прийти пообедать со мною, я, принимая во внимание ваши высокие достоинства и доблесть, счел приличным и подобающим учествовать вас, по возможности, более дорогим блюдом, чем какими вообще чествуют других; потому я вспомнил о соколе, которого вы у меня просите, о его качествах, и счел его достойной для вас пищей, и сегодня утром он был подан вам изжаренным на блюде; я полагал, что достойно им распорядился; узнав теперь, что вы желали его иметь в другом виде, я так печалюсь невозможностью услужить вам, что, кажется мне, никогда не буду иметь покоя». Так сказав, он велел в доказательство всего этого бросить перед ней перья и ноги и клюв сокола».
Что это, как не мощи святого, принесённого в жертву Богу. Но что это за Бог? Не будем забывать, что Возрождение родилось на кладбище среди бесчисленных могил жертв чумы. Старая концепция мира потерпела крах. Жертву приносят богу или богине, но уже языческого происхождения. Венеру сопровождают голуби и другие птицы. Провансальская куртуазность напрямую связана с альбигойской ересью. Об этом мы уже говорили, когда речь шла о позднем Средневековье. Боккаччо обращается к теме куртуазности и рыцарской тематике, а, по сути дела, выражает сомнение в христианской жертвенности. И здесь ещё раз стоит напомнить о его новелле о трёх кольцах, где утверждается еретическая мысль о праве трёх мировых религий на истину. Кажется, в новелле о соколе утверждается ещё и право на религию Любви. И здесь даёт знать о себе античное язычество.
Другая знаменитая новелла этой группы – об испытании Гризельды (день десятый, новелла 10-я). Во имя прославления супружеской верности и покорности мужу Боккаччо заставляет Гризельду подавить в себе и самолюбие, и человеческое достоинство, и женскую гордость, и ревность к сопернице, и материнское чувство. Гризельда выходит победительницей из всех этих унизительных испытаний и в конце новеллы награждена за свою кротость, покорность и самоотверженную любовь.
Вот как выглядит краткий пересказ этой новеллы (пересказ Е.Б. Туевой).
Десятая новелла Десятого дня (рассказ Дионео)
Молодого Гвальтьери, старшего в роде маркизов Салуццких, подданные уговаривают жениться, чтобы продолжить род, и даже предлагают подыскать ему невесту, но он соглашается жениться лишь по своему выбору. Он женится на бедной крестьянской девушке по имени Гризельда, предупреждая ее, что ей во всем придется ему угождать; она не должна на него ни за что гневаться и должна во всем слушаться его. Девушка оказывается обаятельной и учтивой, она послушна и предупредительна к мужу, ласкова с подданными, и все ее любят, признавая ее высокие добродетели.
Между тем Гвальтьери решает испытать терпение Гризельды и упрекает ее в том, что она родила не сына, а дочь, чем крайне возмутила придворных, и без того якобы недовольных ее низким происхождением. Несколько дней спустя он подсылает к ней слугу, который объявляет, что у него приказ умертвить ее дочь. Слуга приносит девочку Гвальтьери, а тот отправляет ее на воспитание родственнице в Болонью, попросив никому не открывать, чья это дочь.
Через некоторое время Гризельда рождает сына, которого муж тоже забирает у нее, а потом заявляет ей, что по настоянию подданных вынужден жениться на другой, а ее изгнать. Она безропотно отдает сына, которого отправляют на воспитание туда же, куда и дочь.
Некоторое время спустя Гвальтьери показывает всем подложные письма, в которых папа якобы разрешает ему расстаться с Гризельдой и жениться на другой, и Гризельда покорно, в одной сорочке, возвращается в родительский дом. Гвальтьери же распускает слухи, будто женится на дочери графа Панаго, и посылает за Гризельдой, чтобы она, как прислуга, навела в доме порядок к приезду гостей. Когда прибывает «невеста» – а Гвальтьери решил выдать за невесту собственную дочь, – Гризельда радушно встречает ее.
Убедившись, что терпение Гризельды неистощимо, растроганный тем, что она говорит только хорошее о девушке, которая должна заменить ее на супружеском ложе, он признается, что просто устроил Гризельде проверку, и объявляет, что его мнимая невеста и ее брат – их собственные дети. Он приближает к себе отца Гризельды, хлебопашца Джаннуколе, который с тех пор живет в его доме, как подобает тестю маркиза. Дочери Гвальтьери подыскивает завидную партию, а супругу свою Гризельду необычайно высоко чтит и живет с ней долго и счастливо. «Отсюда следствие, что и в убогих хижинах обитают небесные созданья, зато в царских чертогах встречаются существа, коим больше подошло бы пасти свиней, нежели повелевать людьми».
Эта новелла, последняя в «Декамероне», заключает в себе моральное поучение в стиле средневековых рассказов. Она мало типична для Боккаччо. Хотя и произвела неизгладимое впечатление на Петрарку, который даже перевёл её на латинский язык.
Мы ещё вернёмся к ней, когда попытаемся дать общую характеристику этой выдающейся книге Итальянского Ренессанса.
К третьей группе относятся новеллы, повествующие об удивительных превратностях судьбы, бросающих людей от одних условий жизни к другим, зачастую прямо противоположным. К этим превратностям «фортуны» Боккаччо и его герои относятся с оптимизмом, характерным для людей эпохи Возрождения. Напомним, что авантюризм был в это время весьма востребован. Именно дух авантюризма толкал деятелей Ренессанса во все тяжкие, в результате чего и наступила эпоха Великих географических открытий. Новеллы авантюрного плана больше всего встречаются во II и V днях. Среди случайностей, разрешающих запутанную фабулу, важную роль играет неожиданное нахождение утерянных родственников – мотив, ставший впоследствии излюбленным в комедиях XVI–XVII веков. Так, в пятой новелле пятого дня девушка, в которую одновременно влюблены двое юношей, узнаёт в одном из них своего утраченного брата, после чего выходит замуж за другого. Вот как она выглядит в кратком пересказе.
Пятая новелла Пятого дня (рассказ Нейфилы)
Гвидотто из Кремоны воспитывает приемную дочь Агнесу; после смерти он поручает ее заботам своего друга, Джакомино из Павии, который переезжает с девочкой в Фаэнцу. Там к ней сватаются двое юношей; Джанноле ди Северино и Мингино ди Минголе. Им отказывают, и они решают похитить девушку силой, для чего вступают в сговор со слугами Джакомино. Однажды Джакомино отлучается вечером из дому. Юноши пробираются туда, и между ними завязывается драка. На шум сбегаются стражники и отводят их в тюрьму.
Наутро родные просят Джакомино не подавать на безрассудных юнцов жалобу. Тот соглашается, заявляя, что девушка – уроженка Фаэнцы, но он не знает, чья она дочь. Ему известно лишь, в каком доме во время разграбления города войсками императора Фридриха была обнаружена девочка. По шраму над левым ухом отец Джанноле Бернабуччо узнает в Агнесе дочь. Правитель города выпускает обоих юношей из тюрьмы, мирит их между собой и выдает Агнесу замуж за Мингино.
В некоторых новеллах Боккаччо даёт невероятное нагромождение превратностей судьбы. Такова новелла о Ландольфо Руффоло (день второй, новелла 4-я), который был богатым купцом, затем потерял всё своё состояние, сделался корсаром и снова приобрёл его, ограбив турок; когда он решил вернуться к спокойной жизни, генуэзцы захватывают его в плен, но их судно терпит кораблекрушение. Ландольфо спасается на ящике и полумёртвый приплывает на нём к острову Корфу; открыв ящик, он находит в нём целое состояние и становится богатым в третий раз. Сюда же относится новелла о дочери вавилонского султана Алатиэль (день второй, новелла 7-я), которая в течение четырёх лет попадает в руки четырёх мужчин, после чего оказывается в объятиях своего жениха короля дель Гарбо, и как ни в чём не бывало выходит за него замуж. Некоторые из новелл этой категории имеют остро комический характер. Такова остроумная новелла о приключениях в Неаполе провинциала Андреуччо из Перуджи (день второй, новелла 5-я), знакомящая читателя с миром неаполитанских куртизанок и воров. Простодушный провинциал становится их жертвой и испытывает в течение одной ночи множество разнообразных приключений, после которых он не знает, как бы поскорее унести ноги из этого опасного города.
Новелла об Андреуччо подводит нас вплотную к группе буфонных новелл, рассказывающих о проделках весёлых гуляк, шутников, любителей весёлого словца, пользующихся случаем позабавиться за чужой счёт. Таковы флорентийские живописцы Бруно, Буффальмакко и Нелло, забавные проделки которых над наивными простаками заполняют целых пять новелл VIII и IX дней. Эти флорентийские затейники отличаются большой наблюдательностью, остроумием и неиссякаемым запасом энергии, которую они растрачивают на всякого рода комические выдумки. Мораль всех новелл этой группы может быть выражена словами: горе всем слабым, недалёким, доверчивым людям! Боккаччо с сочувствием относится к проделкам и плутням своих шутников, когда они безобидны и выражают народное остроумие, изобретательность, энергию. Совсем иной характер имеют шутки попов и монахов, шарлатанов в рясе, использующих религиозность и суеверие массы в своих личных целях. Так комическая новелла превращается в сатирическую, дискредитирующую служителей католической церкви.
Классическим типом церковного шарлатана является брат Чиполла (день шестой, новелла 10-я, монах ордена святого Антония, морочащий голову доверчивой массе всякими мнимыми реликвиями, вроде локона Серафима, ногтя херувима, пузырька с потом ангела, боровшегося с дьяволом, склянки со звоном колоколов Соломонова храма и т. д. Когда двое шутников наложили в его ларец вместо реликвий углей, брат Чиполла немедленно нашёлся, – он заявил, что Бог совершил чудо, заменив перо архангела Гавриила угольками с костра, на котором был сожжён святой Лаврентий, и собрал больше подаяния, чем обычно.
Особую роль в «Декамероне» играют и эротические новеллы. В них автор выступает против феодальных норм брака, против брака по контракту, обусловленного фамильными интересами, а не личными симпатиями супругов. Поэтому чувственные женщины у Боккаччо – это не слуги дьявола, а те, кто вызывает у него симпатию. Стоя на точке зрения естественной морали, Боккаччо считает любовь единственным законом, не терпящим никаких ограничений и рамок. Трагических новелл в «Декамероне» немало, но они находятся в разительном контрасте с новеллами эротического, фривольного характера с игривыми адультерными сюжетами, в которых находит выражение характерная для Ренессанса реабилитация плоти с её естественными, задорными инстинктами. Заметим, что именно эти эротические новеллы и создали определённую славу книге Боккаччо. Можно сказать, что сам автор «Декамерона» был ревностным католиком и такой славой вряд ли был доволен. Последняя новелла сборника, о которой мы уже здесь говорили, должна была, по замыслу автора, наоборот, утверждать аскезу и жертвенность, но повествовательная стихия словно взяла верх над своим создателем. И это не случайно: Боккаччо, как ни какому другому автору Ренессанса, удалось отразить всю противоречивость этой эпохи, в которой высокие устремления, провозглашение свободы во всем приводили, порой, к самым печальным результатам и к катастрофическому падению нравов.
В связи с Боккаччо мы уже говорили об увлечённости автора идеей естественного права тела. Именно эта идея и лежит в основе почти всех эротических новелл «Декамерона». Тело рисуется Боккаччо без стыда, откровенно. Царицей этого тела является именно женщина. Это она своей природной сексуальностью разоблачает лицемерие монахов, она, испытывая страсть, готова полюбить простого слугу, не обращая внимания на сословные предрассудки. Мы также знаем, что обнажённая статуя Микеланджело, статуя Давида, вызвала поначалу самый настоящий шок у всех жителей Флоренции. Именно в теле, причём, в обнажённом, деятели Ренессанса видели самое высшее воплощение естественного права и свободы. А почему? Да потому, что в Средневековье тело воспринималось совершенно по-другому.
Нагое тело, к которому современная культура относится совершенно свободно, в эпоху Возрождения рассматривалось как вызов, как прорыв к новым горизонтам. Нагое тело в его вызывающем бесстыдстве было воплощением вызова самому Богу. И этот вызов первым бросил Донателло, изобразив царя Давида абсолютно голым.
По мнения Ж.Ле Гоффа («История тела в Средние века»), в Средние века почти на тысячу лет обнаженная фигура как нечто греховное была практически исключена из сферы искусства. В некоторых случаях ее допускали, как например, Адам и Ева в сценах «Грехопадения» или «Изгнания из рая», но при этом в нагом теле подавлялся всякий намек на чувственность и естественность. Папа Григорий Великий на пороге Средневековья объявил тело «отвратительным вместилищем души». В эпоху раннего Средневековья идеал человека общество видело в монахе, умерщвлявшем свою плоть, а знаком высшего благочестия считалось ношение на теле власяницы. Воздержание и целомудрие причислялись к высшим добродетелям. В средневековом христианстве тело находилось во власти почти неразрешимого противоречия: его то осуждали, то восхваляли, подвергали унижению и возвеличивали. Например, труп считали омерзительным гниющим прахом, образом смерти, порожденной первородным грехом, а с другой стороны, в его честь устраивали торжественные церемонии на кладбищах; сами же кладбища из-за стен городов переносили внутрь, а в деревнях – устраивали около церквей. Во время погребальной литургии восхвалялся труп каждого христианина и каждой христианки, не говоря уже об особо почитаемых телах святых, творивших чудеса: им возносили хвалы, их могилам и мощам поклонялись. Тело освящало таинства, начиная от крещения и заканчивая соборованием. Евхаристия – главное таинство христианского культа, сердцевина литургии – символизировала соединение тела с кровью Христа, ибо причастие представляет собой трапезу. В отношении рая средневековых теологов мучил лишь один трудный вопрос, одно сомнение: обретут ли тела спасенных наготу первозданной невинности или, пережив земную историю, сохранят стыдливость и облачатся в одежды, разумеется, белые, но за которыми, однако, все же будет скрываться стыд. На этот счет высказывались разные мнения и предположения, но бесспорным оставалось лишь одно – нагота и стыд должны были быть намертво связаны между собой.
Статуя «Давида» Донателло этот стыд нагло отрицала. Отрицали этот стыд и эротические новеллы Боккаччо. Одежду Давида у Донателло составляет лишь простая войлочная пастушеская шляпа, увенчанная лавровым венком, и богато украшенные поножи. У Донателло обнаженное тело впервые увидено глазами гуманиста, который вложил в эту скульптуру и свои гомосексуальные наклонности. Сзади, например, мы видим, как оперенье шлема Голиафа нежно ласкает голень и касается ягодиц обнажённого красавца. Стыд в данном случае, был не просто забыт, он был попран, сброшен рукой художника, рукой, водимой запретной страстью, грехом содомии. В облике юного героя, в легкой неправильности черт еще не потерявшего детской припухлости лица, характерной юношеской угловатости телосложения, любой внимательный зритель мог почувствовать нечто запретное, нечто необычайно чувственное. Задумчивое выражение лица Давида, его расслабленная поза, жесты больше соблазняют, чем говорят о святой библейской истории. Перед нами не грозный герой, а мальчик с гибкой фигурой и длинными волосами, ниспадающими на плечи. Он стоит в несколько самоуверенной и пассивной позе, его левое плечо приподнято, голова слегка наклонена, корпус немного изогнут, тяжесть тела покоится на правой ноге. В правой полусогнутой руке он держит меч, опирающийся на шлем, в левой – камень от пращи; левой ногой юный Давид попирает отрубленную голову Голиафа, символ поверженной гордыни. Но так ли уж повержена эта самая гордыня? Может быть она, наоборот, торжествует в этом нагом бесстыдстве, обласканном восхищенным взглядом скульптора-педофила и гомосексуалиста. Давид Микеланджело, например, идеально пропорционален; однако, взгляд наблюдателя приковывает кисть правой руки, сжимающей камень, который через мгновение сразит Голиафа. Дело в том, что Микеланджело специально изобразил правую кисть в большем масштабе по сравнению с другими частями тела. Это скрытый символ, который не оставляет сомнения: победа предрешена! Но почему у зрителя возникает такая уверенность? Здесь начинает работать ассоциативное мышление. Эта тяжелая правая кисть царя Давида ассоциируется с расслабленной кистью Адама и протянутой к ней божьей дланью, которые запечатлены на фреске «Сотворение Адама» в Сикстинской капелле. Тяжелая и непропорциональная кисть правой руки статуи Микеланджело потому так и привлекает наш взор, что она ассоциируется с божьей дланью, выражающей высшую творческую волю. Кроме того, имеется ещё одна манипуляция с возрастом. В Библии написано, что во время поединка с Голиафом Давид был юным мальчиком. Он настолько мал, что ему приходится сражаться с врагом без одежды, так как для него оказались велики доспехи царя Саула. Именно таким Давида изображают предшественники Микеланджело. Достаточно взглянуть хотя бы на скульптуру Донателло, герой которого – юнец с довольно слабым телосложением, причём своей шляпой, длинными волосами и детской фигуркой он больше напоминает девочку. Эта нагота еще сохранила остатки стыдливости. Донателло ваял своего царя Иудейского для личного пользования самого Козимо Старого. Он должен был стоять во внутреннем дворике дворца Медичи. И этот скандальный образ был доступен только посвященным. Давид у Микеланджело – это взрослый мужчина (намного старше, чем библейский Давид) с мощной мускулатурой. Он больше похож на Геракла. И в этом есть свой смысл: Давид-гигант (высота скульптуры 4,54 м) является символом непобедимости Флорентийской республики. Он своей наготой соблазняет уже не какого-то там Голиафа, а самого Бога Саваофа. В 1504 году Микеланджело закончил во Флоренции работу над скульптурой обнажённого Давида, её пришлось охранять, так как Давида забрасывали камнями горожане. Вызывающая нагота его возмущала стыдливость флорентинцев. Был период, когда «нескромные части» скульптуры прикрывали золотыми листьями. Но эти «нескромные части» буквально парили над всей площадью Синьории. Бесстыдную наготу уже никто не собирался скрывать в тиши внутреннего дворика роскошного дворца для личного пользования владельца.
Однако этот апофеоз бесстыдства возникнет уже после того, как появится «Декамерон» Боккаччо. Можно сказать, что эротизм его новелл открыл широкую дорогу для дальнейших художников, дал, что называется, мандат на свободное использование человеческого тела как важного инструмента в перепрограммировании всей предшествующей средневековой культуры. Но если быть точным в этом вопросе, то до Микеланджело был ещё Мазаччо с его знаменитой фреской в капелле Бранкаччи «Изгнание из рая». Именно эта фреска своей выразительностью и скульптурностью, своей откровенной обнажённостью оказала влияние и на Микеланджело. Говоря о Возрождении в целом, мы не может пройти мимо этого шедевра. Читал ли Мазаччо «Декамерон»? Думаю, что да. Эта книга была столь популярна и столь соблазнительна, что воспринималась своеобразным манифестом новой эпохи. С некоторым преувеличением можно даже сказать, что «Декамерон» был одним из немногих образцов массовой беллетристики той эпохи. Эту книгу читали в монастырях и борделях, во дворцах и тавернах, во время путешествий и сидя в тени деревьев у себя на вилле. Её обильно иллюстрировали. Она была по-настоящему народной книгой, а, значит, оказывала неизгладимое влияние на сознание людей. Именно, используя свою необычайную популярность, Боккаччо совершил очень важный подвиг: он вытащил из забвения великое творение ещё одного флорентийца, своего предшественника, он стал популяризировать уже основательно забытую «Божественную комедию» Данте. Именно Боккаччо стал первым биографом и исследователем Данте. О нём он пишет своему другу Петрарке, он вводит мрачного визионера в сонм небожителей эпохи Возрождения. И это ещё раз подтверждает мысль о том, насколько противоречивыми были творчество и жизнь Боккаччо: с одной стороны, фривольность, эротизм, безудержный гедонизм и прочее, а с другой – строгость, аскетизм, обострённое внимание к тому, что ждет нас после смерти, когда эти самые, жаждущие земных наслаждений тела, нам всем придётся сбросить. Так читал Мазаччо «Декамерон» или нет? А кто его в то время не читал? И на волне невероятного успеха этой книги, через откровенный эротизм, с жадностью воспринятый толпой, только что пережившей безумный страх Смерти, когда этот страх подавлял всякое чувство стыда, буквально взорвался гений Данте. Эротизм спровоцировал обострённый интерес к Смерти и к тому, что всех нас ждёт за её пределами. И вот на этой волне появляется гений Мазаччо. В своих обнажённых Адаме и Еве он словно соединяет и «Декамерон» и «Божественную комедию». С фресок Мазаччо в капелле Бранкаччи очень часто начинают описывать историю живописи всего итальянского Ренессанса. Именно здесь зародился величавый монументальный стиль этого направления в искусстве.
На этой фреске фигуры Адама и Евы каждым жестом, каждой складкой тела буквально вопят о своем горе. Материальность и пластичность тел у Мазаччо отличается от готической бесплотности, но если Ренессанс ассоциируется с уравновешенным идеальным миром, то Мазаччо очень далек от его радостной гармонии. Фигуры прародителей стали символом горя и стыда человеческого. Адам смиренно прячет лицо в ладонях, покорно принимая наказание. Лицо Евы раздирает мучительный крик, который она не хочет и не может сдержать. Фигура кричащей Евы написана с откровенностью экспрессионизма, как будто художник не боится изобразить уродство для того, чтобы передать ужас раскаяния и осознание непоправимости содеянного. Ева Мазаччо зримо воплощает крик, напоминая о знаменитом произведении модернизма – картине Мунка «Крик», где также средствами безмолвной живописи достигнуто ощущение мучительного звука, терзающего уши зрителя. Мазаччо отказывается от изображения подробностей: Рай обозначен захлопнутыми городскими воротами, фигура херувима с огненным мечом дана условным красным пятном, угрожающе нависшим над Адамом и Евой. Аскетическая простота Мазаччо, пренебрегающего деталями ради целого, отличает его от нидерландца Босха, также работавшего в XV веке. Однако немного найдется в европейском искусстве произведений, в которых средствами живописи были бы столь сильно и убедительно выражены человеческие страдания. Адам, закрывший лицо руками, и рыдающая Ева, с запавшими глазами и темным провалом искаженного криком рта – все это прекрасно передает ощущение беспредельного человеческого страдания с помощью особой трактовки света на этой знаменитой фреске. У предшественников Мазаччо свет и тени были лишь способом моделировать форму, придавать ей объемность; фигуры и предметы обычно не отбрасывали теней. В родной Флоренции Мазаччо был связан с кругом великого архитектора Брунеллески. Под его влиянием Мазаччо первый стал заниматься проблемой передачи пространства на плоскости при помощи линейной перспективы. Он изучал строение человеческого тела и впервые в живописи передал его объемность благодаря выделению освещенных и затененных частей. По-видимому, сюжет Изгнание из Рая привлекал Мазаччо возможностью показать мастерство в передаче обнаженных человеческих тел. Впервые после античной эпохи и вдохновленный непосредственно скульптурой Давида Донателло, художник воспроизвел на плоскости правильные пропорции человеческих фигур и точный механизм их движения. Вместе с тем Мазаччо сумел выразить драматизм переживаний в скупом, но точно найденном жесте Адама, противопоставив его скорбную сдержанность открытому отчаянию рыдающей Евы. Весомость тел Мазаччо дал ощутить тем, что впервые правильно поставил человеческую фигуру с опорой всей ступни на землю, в верном ракурсе. В «Изгнании из рая» свет падает справа (именно там находится реальное окно, освещающее капеллу), фигуры отбрасывают на землю длинные тени. Эти обнаженные фигуры очень напоминают скульптуры Донателло, что представляется самоочевидным. Это те самые обнажённые тела, которые столь обильно присутствуют в «Декамероне» Боккаччо. Но здесь, правда, нет и слабых следов эротизма. Здесь есть строгость дантовской «Божественной комедии», описавшей, как могут страдать эти тела. Эти тела, сгорающие от безжалостной бубонной чумы, и видел воочию любой представитель Итальянского Ренессанса. Возникал парадокс: тело проклято и является источником невыносимых страданий, и тело – самый мощный источник наслаждения, сравнимого лишь с райским блаженством. Тело – и рай, и ад одновременно. Хочешь познать рай, познай сначала ад. В этом увлечении обнажённым телом, увлечении метафизикой этого самого тела просматривается вся схема «Божественной комедии», которую вновь открыл для своих читателей именно Боккаччо. Схема проста: через ад – к чистилищу и раю. Но только схема эта оказалась перевёрнутой: сначала через райские телесные наслаждения, минуя чистилище – в ад, ибо тело и рай и ад одновременно. Эти длинные тени на фреске Мазаччо, которые получаются благодаря своей материальной осязаемости, и есть воплощение греха.
Но на этой фреске примечательней всего меч в руке ангела. Мир ещё только создан, кругом Рай, ещё ни зла, ни греха, вроде бы нет, а ангел Господень уже с мечом и с самым грозным и воинственным видом изгоняет людей из Рая. Адам и Ева Мазаччо – это люди, которые уходят из Рая с разбитым от стыда и горя сердцем, не видящие, но ощущающие над своей головой ангела. Они только что познали друг друга – и вот расплата. Закричишь тут от горя и страха. Это передача того, что психологи называют катастрофой сознания: сам ужас еще не явлен миру, но он уже повис в воздухе (неявленный страх куда страшнее явленного). Откуда же происходит этот животный ужас? Ответ прост – он внутри нас, внутри каждого, он коренится в самой способности человека мыслить. Ренессанс тем и отличался от предшествующей эпохи, что разрушал средневековое общинное мышление. Ренессанс – это эпоха ярких титанических личностей, несущих внутри себя и рай, и ад, личностей, раздираемых сомнениями. Сама способность мыслить лишает невинности, ведет к потере блаженства и обрекает на страдания. Этот постулат, подразумевающий отрицательное отношение к человеческому разуму, положен в основу европейской христианской культуры, и вся история ее развития подтверждает справедливость божьего запрета – не трогать древо познания добра и зла.
«Изгнание из рая» – это первая драма в истории человечества. Приобщение к познанию даровало нашим прародителям чувство стыда, и таким образом в христианстве стыд и грех сопровождают не только наслаждение, но и знание. Можно предположить, что фреска Мазаччо – это обычное предостережение против греха вообще – в связи с усиливающейся во Флоренции свободой нравов.
А свобода была поистине разрушительной. Боккаччо был католиком и, говорят, что впоследствии осудил свою книгу и ушёл в монастырь. Описав некоторые типы монахов, писатель, вроде бы, обратил внимание на частные случаи жизни. Но такими ли уж частными были эти примеры извращения внутри католической церкви? Приведём следующий факт: когда вместе с войском французского короля Карла VIII в конце XV в. так называемая французская болезнь (сифилис), раньше вспыхивавшая в Италии эпизодически, начала распространяться в ужасающей степени, жертвами ее пали не только многие светские, но и высокопоставленные духовные лица. Проституция была, в буквальном смысле, повальным явлением, и духовенство принимало в этой всеобщей вакханалии самое непосредственное участие. В Риме в 1490 г. насчитывалось 6 800 проституток, а в Венеции в 1509 г. их было 11 тысяч. До нас дошли целые трактаты и диалоги, посвященные этому ремеслу, а также мемуары некоторых известных куртизанок, из которых можно узнать, что публичных женщин ежегодно привозили из Германии; что продолжительность этого ремесла – от 12 до 40 лет; что эти женщины занимались также физиогномикой, хиромантией, врачеванием и изготовлением лечебных и любовных средств; чем славились венецианки; в чем заключалась неодолимая сила генуэзок и каковы были специальные достоинства испанок. Бывали времена, когда институт куртизанок приходилось специально поощрять, поскольку уж слишком распространился «гнусный грех». Проституткам специально запрещалось одеваться в мужскую одежду и делать себе мужские прически, чтобы таким образом вернее заманивать мужчин.
Вот, что пишет по поводу развращения клерикальной среды А.Ф. Лосев: «Папа Александр VI и его сын Цезарь Борджиа собирают на свои ночные оргии до 50 куртизанок. В Ферраре герцог Альфонс среди бела дня голым прогуливается по улицам. В Милане герцог Галеаццо Сфорца услаждает себя за столом сценами содомии. В Италии той эпохи нет никакой разницы между честными женщинами и куртизанками, а также между законными и незаконными детьми. Незаконных детей имели все: гуманисты, духовные лица, папы, князья. У Поджо Браччолини – дюжина внебрачных детей, у Никколо д'Эсте – около 300. Папа Александр VI, будучи кардиналом, имел четырех незаконных детей от римлянки Ваноцци, а за год до своего вступления на папский престол, уже будучи 60 лет, вступил в сожительство с 17-летней Джулией Фарнезе, от которой вскоре имел дочь Лауру, а уже пожилую свою Ваноццу выдал замуж за Карло Канале, ученого из Мантуи. Имели незаконных детей также и папа Пий II, и папа Иннокентий VIII, и папа Юлий II, и папа Павел III; все они папы-гуманисты, известные покровители возрожденческих искусств и наук. Папа Климент VII сам был незаконным сыном Джулиано Медичи. Кардинал Алидозио, пользовавшийся особым благоволением папы Юлия II, похитил жену почтенного и родовитого флорентийца и увез ее в Болонью, где был тогда папским легатом. Кардинал Биббие-на, друг папы-гуманиста Льва X, открыто сожительствовал с Альдой Бойарда. Многие кардиналы поддерживали отношения со знаменитой куртизанкой Империей, которую Рафаэль изобразил на своем Парнасе в Ватикане…
…Широкое распространение получает порнографическая литература и живопись. Такая непристойная книга, как «Гермафродит» Панормиты, была с восторгом принята всеми гуманистами, и, когда в Вероне какой-то самозванец выдал себя за автора «Гермафродита», правительственные учреждения и ученые города чествовали мнимого Панормиту. Книга эта была, между прочим, посвящена Козимо Медичи. В Ватикане при Льве X ставят непристойные комедии Чиско, Ариосто и кардинала Биббиены, причем декорации к некоторым из этих комедий писались Рафаэлем; при представлении папа стоит в дверях зала и входящие гости подходят к нему под благословение. Художники наперебой изображают Леду, Ганимеда, Приапа, вакханалии, соревнуясь друг с другом в откровенности и неприличии, причем порою эти картины выставляются в церквах рядом с изображениями Христа и апостолов».
Красноречивым доказательством широкого распространения небывалой половой распущенности в это время могут служить некоторые страницы из истории папства. Так, об Иоанне XXIII Дитрих Нимский сообщает, что он, по слухам, в качестве Болонского кардинала обесчестил до двухсот жен, вдов и девушек, а также многих монахинь. Еще в бытность свою папским делегатом в Анконе Павел III должен был бежать, так как изнасиловал молодую знатную даму. Ради кардинальской шапки он продал свою сестру Юлию Александру VI, а сам жил в противоестественной связи со второй, младшей сестрой. Бонифаций VIII сделал двух племянниц своими метрессами. В качестве кардинала Сиенского будущий папа Александр VI прославился главным образом тем, что в союзе с другими прелатами и духовными сановниками устраивал ночные балы, где царила полная разнузданность и участвовали знатные дамы и девушки города, тогда как доступ к ним был закрыт их «мужьям, отцам и родственникам». Пий III имел от разных метресс не менее двенадцати сыновей и дочерей. Не менее характерно и то, что самые знаменитые папы Ренессанса из-за безмерного разврата страдали сифилисом: Александр VI, Юлий II, Лев X. О Юлии II его придворный врач сообщает: «Прямо стыдно сказать, на всем его теле не было ни одного места, которое не было бы покрыто знаками ужасающего разврата». В пятницу на святой, как сообщает его церемониймейстер Грассис, он никого не мог допустить до обычного поцелуя ноги, так как его нога была вся разъедена сифилисом. В одном из своих знаменитых «Писем без назначения» – они были адресованы всему миру – Петрарка дал правильную характеристику своего времени: «Грабеж, насилие, прелюбодеяние – таковы обычные занятия распущенных пап; мужья, дабы они не протестовали, высылаются; их жены подвергаются насилию; когда забеременеют, они возвращаются им назад, а после родов опять отбираются у них, чтобы снова удовлетворить похоть наместников Христа».
Никогда в живописи не изображали с таким горячим упоением красоту груди, как в эпоху Ренессанса. Ее идеализированное изображение – один из неисчерпаемых артистических мотивов эпохи. Для эпохи Возрождения женская грудь – самое удивительное чудо красоты, и потому художники рисуют и рисуют ее изо дня в день, чтобы увековечить. Какой бы эпизод из жизни женщины ни изображал художник, он всегда найдет случай вплести новую строфу в гимн, раздающийся в честь ее груди. Для Ренессанса было также характерно особое отношение к наготе человеческого тела. Спать в то время обычно ложились совершенно голыми. И притом оба пола и всех возрастов; обыкновенно муж, жена, дети и слуги спали в общей комнате, не разделенные даже перегородками. Таков был обычай не только в крестьянстве и в низах, но и среди высшего бюргерства и аристократии. Даже перед гостем не стеснялись, и он спал обыкновенно в общей спальне с семьей. Жена ложится спать без платья в присутствии гостя, которого видела первый раз в жизни. Требования стыдливости считались исполненными, если она делала это «целомудренно». Если гость отказывался раздеться, то его отказ возбуждал недоумение. Красивое тело выставлялось напоказ не только путем идеализирующего и преувеличивающего искусства. Нет, в плане повального культа обнаженного тела шли гораздо дальше, смело щеголяя наготой перед всем миром – на улице, например, где ее окружали и ощупывали глазами десятки тысяч любопытных. Существовал обычай встречи перед городскими стенами навещавшего город князя совершенно обнаженными прекрасными женщинами. История зарегистрировала целый ряд таких встреч: например, въезд Людовика XI в Париж в 1461 г., Карла Смелого в Лилль в 1468 г., Карла V в Антверпен в 1520 г. О последнем событии мы имеем более подробные сведения благодаря Дюреру, который присутствовал при нем и признавался, что он с особенным интересом разглядывал обнаженных красавиц. О въезде Людовика XI в Париж сообщается следующее. У фонтана дю Пансо стояли дикие мужчины и женщины, сражавшиеся друг с другом, а возле них три обнаженные прекрасные девушки, изображавшие сирен, обладавшие такой чудной грудью и такими прекрасными формами, что невозможно было наглядеться.
Необходимо коснуться еще одной особенности частной жизни, служащей не менее классическим доказательством свойственного Ренессансу культа физической наготы. Мы имеем в виду описание и прославление интимной телесной красоты возлюбленной или жены мужем или любовником в беседе с друзьями, их готовность дать другу даже случай воочию убедиться в этой хваленой красоте. Это одна из излюбленных разговорных тем эпохи.
Сеньор Брантом сообщает: «Я знал нескольких сеньоров, которые хвалили своих жен перед своими друзьями и подробнейшим образом описывали им все их прелести». Главную роль здесь играет красивое тело, которое описывается с ног до головы и обратно. Описание нередко подкрепляется доказательством. Другу предоставляется возможность подглядеть жену во время купанья или туалета, или его приводят в спальню, где спящая жена, ни о чем не подозревая, предстает перед посторонним человеком во всей своей наготе. Порой даже сам муж откидывает скрывающие ее покровы, так что все ее прелести обнажаются перед взором любопытных или любопытного. Все в данном случае зависело от меры тщеславия супруга. Тщеславие и определяло количество приглашенных зрителей. Телесная красота жены демонстративно выставляется напоказ, как клад или сокровище, которые должны возбудить зависть, и сомнению здесь не должно быть места. Вместе с тем обладатель этих сокровищ хвастает ими, чтобы подчеркнуть, что он их собственник. Он делает это не тайно, и жена должна то и дело мириться с тем, что муж подведет к ее ложу своих друзей, даже в том случае, когда она спит, и что он сорвет с нее одеяло.
Ренессанс придерживался того взгляда, что «обнаженная женщина красивее одетой в пурпур». Так как нельзя было всегда быть обнаженной, то показывали, по крайней мере, как можно больше ту часть, которая тогда считалась высшей красотой женщины, то есть грудь. Обнажение груди не только не считалось пороком, а, напротив, воспринималось как нечто абсолютно необходимое. Все женщины, одаренные красивой грудью, более или менее декольтировали ее. Особенно щедры в этом отношении были они в праздничные дни.
В глаза бросается тот факт, что тогда даже самый ничтожный городок имел свой дом терпимости, свой «женский дом», как его тогда называли, а подчас и целых два. В более значительных городках существовали целые улицы, заселенные проститутками, а в крупных и портовых городах существовали даже целые кварталы.
Особую разновидность проституток представляли совершенно неизвестные нашему времени, но игравшие почти до конца XVIII столетия очень большую роль солдатские девки, огромными массами сопровождавшие войска.
Известно, что во время осады Нейса Карлом Смелым в его войске находилось около четырех тысяч публичных женщин. В войске немецкого кондотьера Вернера фон Урслингера, состоявшем в 1342 г. из трех тысяч пятисот человек, насчитывалось, по имеющимся у нас данным, не менее тысячи проституток, мальчиков и мошенников. К войску, которое в 1570 г. должен был привести в Италию французский полководец Страцци, присоединилась такая масса галантных дам, что ему было трудно передвигаться. Полководец вышел из этого затруднительного положения весьма жестоким образом, утопив, по сообщению Брантома, не менее восьмисот этих несчастных особ.
Как можно судить на основании приведённых выше фактов «Декамерон» лег на подготовленную почву. Этим и объяснялась его необычайная популярность, что и позволяет сделать окончательный вывод: ни Мазаччо, ни Донателло, ни Микеланджело не могли пройти мимо этой книги.
В заключении заметим лишь, что эта развращённость католического мира повлияет на такого деятеля северного Возрождения, как Мартин Лютер и косвенно поспособствует распространению Протестантизма. Но именно протестантская концепция мира и лежит в основе мифа о докторе Фаусте и о договоре с дьяволом. Благодаря протестантизму, также возникшему в эпоху Ренессанса, и произойдет окончательное перепрограммирование средневековой христианской культуры. Завет с Богом будет заменён заветом с восставшим ангелом. Не случайно тема «Восстания ангелов» станет излюбленной темой так называемого протестантского эпоса: Агриппа д'Обинье, Вандел, Джон Мильтон. Но о мифе доктора Фауста мы поговорим несколько позже.