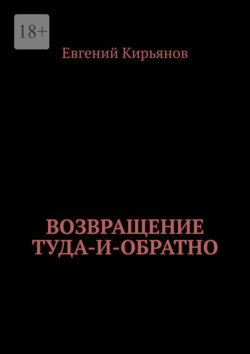Читать книгу Возвращение туда-и-обратно - Евгений Кирьянов - Страница 7
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУДА-И-ОБРАТНО
О ЗНАНИИ
ОглавлениеВсё по своему прообразу совершенно просто и есть одно.
«Я» не имеет изначального значения. Следует уклоняться от навязчивой идеи, что в центре своих отношений человек-как-сущее и Самосущий находятся хотя бы и в порядке умозрительной оппозиции. Эта оппозиция утверждается иллюзорно и формально по образу отошений между сущими, поставляя воссоздаваемое в сущих «я» в иллюзорно истинную оппозицию Ему. И дело не только в том, что преуспеяние на поприще духовности состоит в снятии этой оппозиции. Дело в том, что эта оппозиция априори несостоятельна. Ведь всякое отношение в отделённости есть уже само по себе утверждение в инаковости.
И это кроме того, что принципиально по существу нет знания того, что такое «Я». Уже и не говоря о том, каково положение «Я» относительно Самосущего. Как это отражается в понимании того, что есть «Я»? Свидетельства об этом и его отношения извлекаются из причастности «ни-где» и «ни-как». «Я» «никакое», но в ложном позиционировании себя как такового в отношениях определяется в качестве сущего среди прочих сущих. Такие определения могут быть сколь угодно многообразными. И они иллюзорно задают модус императивности реального положения вещей.
Но это положение ложно задаётся как предпосылка и для позиционирования в любой степени отсутствия атрибутивности в определении «Я». Вообще же говоря, частность определения и есть предпочтённая атрибутивность. Но именно «Я-никакое» не может быть определено в атрибутивности и его соотнесение с Самосущим находится вне поля смысловых интенций, которые бы располагали умопостигание к самой постановке вопроса о сущностном аспекте в соотнесении «Я» с Ним.
И ведь Бог не лукавит, чтобы имела место «продуктивная оппозиция». Он станет ли инициировать осознание иллюзорной оппозиции как истинной ради продуктивности? Или – разве Он творит иллюзорность как истинность?
Можно утверждать, что «Я» есть рефлексия Сознания на себя. Это есть первичный и универсальный акт волевого самоутверждения. Но и в этом нет никакой определённости, поскольку нет никаких ограничительных предпосылок для этого в «ни-как» и «ни-где» для формирования какой-либо определённости этой рефлексии. И в этом нет ложного выхода за пределы не имеющего атрибутивности Сознания.
Можно условно как паллиатив усматривать в «Я» рефлексию как «квантование» Сознания в себе. Но эта уловка не выводит нас за пределы чисто психологической образности.
«Я» порождено отдалением, когда истинная «обитель души» утрачена и заменена на отсечённое (отделённое) от Него место, где «Я», принимая сущностный модус этой отдельности, поместилось как отдельная самодостаточная данность. Это «Я» и есть знак отдельности и отсечённости.
И об этом сказано у ал-Халладжа. В частности там, где Азазил говорит, что для него «нет отдаленности», «отдаляющего отдаления».
Но ведь и представление об Адаме как Образе и Подобии Бога разворачивает дистанцию между ними. Но и сокращает. Ведь он был землёю, а уподобился Богу. А как это, если не стал им? Где «живёт» уподобление от начала? А если стал, то как это? Он в замысле Божием вечно был Адамом. Но тут ведь нет противоречия. В замысле вечно был Адамом, но сначала был землёю… Богу же и это возможно.
Знание – мост для восстановления статуса «Я» в отношении с Самосущим. Только в отказе от «Я», но это не в жертве «собою», которое есть ли ценность? Но в акте восстановления подлинной реальности. Это и есть возвращение в растворение в Самосущем. Но только так, как совершено невозможное в полноте причастности человека тому, что принадлежит только Ему.
Но Знание ведь и самодостаточно. Тогда оно само позиционирует себя как отдельность-сущее. И в нём человек может расположиться в самодостаточности. И тогда оно не свидетельствует собою о реальности, а удерживает человека в умозрении в плоскости отношений в сущих.
Бог пожелал от Азазила, чтобы тот поклонился человеку. Это значит, что он должен был в человеке опознать Бога как неотделённую его «часть». И Азазил не опознал его в этом. И этим отверг Его в Его собственной отрасли (в Адаме). Но он не мог и поклониться человеку, поскольку человек опознавался им в отделённости как сущего от Бога. Он не увидел, что это Его отрасль. И в этом тоже неполнота истинности его притязаний на поклонение Единому. Но он и не уклонился от поклонения Единому. Он изменился, но то Знание, в котором он поклонялся Ему, пребывало в Нём, и ему был причастен Азазил.
Здесь нет места чрезмерным спекуляциям относительно той правды, в которой самоопределился Азазил, но немного слов мы ещё попробуем сказать. У нас нет необходимости оценки истинности выбора Азазила. Любые критерии его истинности находятся ниже самой истинности этого выбора.
Важно выразить неявно подозреваемую идею о том, что трагедия вопиющего противоречия для Азазила-Халладжа разрешается в снятии дихотомии этого противоречия в эксклюзивности её сверхкосмической данности посредством уложения его в слиянии Знания и Веры в над-логическом контексте отсутствия «где» и «как». Это ведь и есть знак Знания. И в этом взыскует ал-Халладж разрешения сверхкосмической и над-онтологической проблемы.
Знание в человеке ему не принадлежит, но Самосущему. Но и ему, человеку, тоже. Но как это возможно? Если знание принадлежит только Ему и «лишь Он один знает себя», то в чём состоит доля Знающего и в чём его отличие? И если ему принадлежит полнота знания, то почему он не Он?
…А там, где есть Ты, нет «где».
Ты – надрезы всех «где»
в сторону «ни-где» —
где Ты?
Не представить Тебя воображением,
и не узнать «где»,
где Ты.
Ни-как! Только в понимании в сущих могут быть препятствия для возможности разрешения этого противоречия. Ведь от века нет парадигматической априорности в положении, что значит принадлежать и быть усвоенным в неразличении. Оно «ни-как» и «ни-где».
Но распад в субъекто-объектность безальтернативно эксклюзивен; и в нём сохранялся потенциал реальной неоднозначности и неоформленности для действия того, что оформилось в смыслы (понимание) в сущих.
23. «И был на расстоянии двух луков» [53:9]. Поражает
«где» стрелой «между». Подтверждает, [что было]
два лука, чтобы удостоверить «где» или отсутствие
его, сущность ближайшую к сущности Сущности.
Итак, Знание принадлежит и присуще только Ему, и только Он может вместить его. Но и человеку, поскольку человек сущностно дан не только как самодостаточное сущее, но и в сущностной амбивалентности и неопределённости.
Ведь источник такой возможности «ни-где» и «ни-как». Нет никакой предпочтительности в возможности усмотрения априори понятийных интенций для кристаллизации «истинного» образа «таковости» в перенесении аналогии противоречия положений в отношениях между сущими на имеющее непосредственное отношение к гнозису. Над-логическая перспектива утверждается в возможности свободного соотнесения сущих в понятийном пространстве в любых отношениях. И только частности осуществления этих отношений навязывают пониманию противоречивость в «естественных» смысловых модальностях.
Но Истинное Знание находится по ту сторону от всякого «где» и «как» и утверждается в пара-логичности поверх частных понятийностей. И в следовании превышающей парадигме Единости над видимой неслиянностью всего в себе противоречащего торжествует Истинный Гнозис в Единстве.
И надо осмыслить этот вопрос в контексте Веры. Как запроса к Самосущему в поиске снятия всех препятствий, которые иллюзорно качествуют в пространстве понимания в модусе самодостаточных, но сделать это с сохранением истинных умопостигаемых интенций самих по себе. Каковые могут быть постигаемы только в снятии «где» и «как» там, где Знание сливается с Верой.
Само в чистом виде переживание человеком субстанции жизни (фиксация в индивидуальном «я» в рефлексии Сознания на себя универсального «Я») в отстранённости от её наполненности темпоральной конкретикой существования беспредельно трагично и почти невыносимо. Оно может быть перманентным растворением в дыхании бездны и погружением в неё. И в то же время это есть ужасающее осознание тупиковости своего положения и принципиальной невозможности иных и каких-либо перспектив.
Укоренение интуиции в безначальности и беспредельности «ни-где» и «ни-как» инициирует миросозерцание и в предельной его негативности как универсальной и неотменяемой данности.
Всякая фантазия об ужасном, представленная в образе, есть всего лишь некоторое облачение тотального метафизического ужаса в частное оформление. Само же состояние ужаса не страшит. Оно беспредметно и вне реализации в сущих. Оно холодно и прозрачно. Но банальное сознание, даже обладая смутной интуицией о нём, не может и не хочет выразить это для себя не в частной форме. Ведь это ещё и защитная «упаковка» с перенесением действия интуиции на частный образ.
Всё это есть плата за остроту и глубину переживание бытия, в которые посвящён человек.
Невозможно переоценить то состояние духа, которое оказалось доступным подобным Халладжу. Они сумели Знанием преодолеть ужас открывшейся им бездны и смогли с избытком Веры в трансценденции перекрыть видимую ими до самых глубин неизбежность.