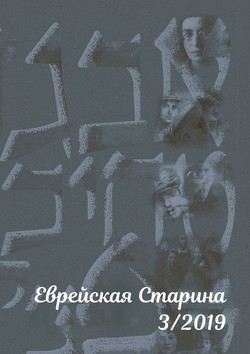Читать книгу Еврейская старина. №3/2019 - Евгений Михайлович Беркович - Страница 5
Альманах
«Еврейская Старина»
№3 (102) 2019
Мария Соловейчик
Семья как зеркало эпохи
ОглавлениеНаверное, 90% воспоминаний начинаются со слов: «Как жаль, что я начала интересоваться историей своей семьи, когда уже некому было задать вопросы». Может быть, потому что именно эти запоздалые сожаления толкают человека к тому, чтобы начать работу памяти. Хочется, чтобы собственные дети, занятые сейчас своей жизнью, не сокрушались, как мы, когда придёт их время интересоваться судьбой предков, а задать вопросы будет некому. Хочется отдать дань благодарной памяти дорогим людям, которых они никогда не узнают.
Для меня, как для многих других, все началось с этого, но со временем, втянувшись в эту работу, я поняла, что пишу в первую очередь для себя. Подгонять один к другому осколки сведений из документов, фотографий, воспоминаний разных людей, коротких семейных анекдотов и радоваться, когда части подходят друг к другу, а когда чего-то не хватает, стараться вылепить недостающий кусочек из своих догадок, так чтобы в итоге получилась более или менее целостная картинка жизни семьи – это оказалось очень увлекательно.
Мне повезло. У меня есть странички маминых воспоминаний и воспоминаний ее друзей-одноклассников. За это низкий поклон ее однокласснице тете Нине Болотиной. Класс у мамы был уникальный, завязавшаяся в школе дружба продолжалась всю жизнь. В 1966 года они собрались в Харькове, съехавшись из разных городов, отметить 25-летие 9-Б (10 класс они не успели закончить, началась война). И с тех пор собирались каждые пять лет. В 50-ю годовщину тете Нине пришла в голову счастливая мысль к каждой встрече делать сборник воспоминаний одноклассников. Нина не просто выступила с идеей, она просила, убеждала, подталкивала, напоминала забывчивым и ободряла неуверенных в своих литературных способностях. В результате таких выпусков вышло три. Первый сборник назывался «Только для друзей» (1991), и каждый писал туда, что хотел. Для второго Нина придумала тему – «По старым адресам» (1996). Третий назывался «Мы и война» (2001), и в нем мама уже не смогла принять участия, он вышел за несколько месяцев до ее смерти, но копию сборника нам с сыном сделали. Я читаю и перечитываю эти воспоминания, не только мамины, но и ее друзей, и картина жизни становится более полной и объемной.
Отдельное спасибо тете Нине за возможность читать сейчас письма военных лет – и мамины, и других Бэшников. Она сохранила их и вот как сама написала об этом в сборнике «Только для друзей»: «В страшные дни войны и разлуки, там, на фронтовых дорогах, самым дорогим и светлым для меня были письма от моих школьных друзей. Эти письма помогали мне жить и верить, ждать и надеяться. За долгие годы войны я получила 491 письмо. Мне удалось сохранить их все до единого. Вначале я возила их в своем рюкзаке, потом, когда пачка писем становилась все объемистей, я стала хранить их в опечатанных металлических ящиках вместе с секретными штабными документами и оперативными картами (да простит мне командование этот самовольный поступок!). Как бы то ни было, но письма уцелели, и сегодня они – бесценны». Это истинная правда, тетя Нина, спасибо вам, я всегда буду вас помнить.
Я писала свои заметки для сына, для себя и не думала, что кому-то еще могут быть интересны эти картинки жизни обычных, незнаменитых людей. Но потом посмотрела под другим углом – ведь в картине жизни каждой семьи отражается эпоха, пусть только малая ее часть. Так что это можно рассматривать как рассказ о времени.
Волынские Афины
Меня, как и мою маму растили три бабушки, все по материнской линии – бабушка и две ее сестры, Рися и Злата.
Бабушки родились и выросли в черте оседлости, в городе Кременце на Волыни, маленьком городке, расположенном на севере Тернопольской области, недалеко от польской границы. Город это, хоть и небольшой, но древний, впервые упомянутый в польских энциклопедических словарях под 1064 годом, расположен он очень живописно – среди гор, в небольшом ущелье. В силу близости к границе город не раз менял национальность – принадлежал то Руси, то Польско-Литовскому княжеству, то Российской империи. И, как говорит статья в Википедии, «каждая историческая эпоха оставила здесь свои неповторимые реликвии». Его называли «бриллиантом полуденної Волині», «жемчужиной Волынского края», он был известен как крупнейший культурно-образовательный центр XIX века – «Волынские Афины».
Абрам Хазин с женой и дочерьми (слева направо) – Рися, Инда, Гитл, Злата
Только одна фотография сохранила родителей бабушек – моих прадеда и прабабку. Они сидят напряженные, не привыкшие фотографироваться, видимо надев для этой цели все лучшее. Прадед, сапожник Абрам Хазин (имя его сохранило мне отчество бабушек), в пальто и кепке, зажав в кулаки руки, трудами которых жила его большая семья. И прабабка, имени которой я не знаю, старушка с перекошенным ртом, в белом платочке, родившая 9 и вырастившая 7 детей: шестерых дочерей (Рейзл, Гитл, Фаня, Инда, Рися, Злата) и одного сына. Выглядят они как старик и старуха, хотя вряд ли им на этой фотографии намного больше 50.
Позади родителей четыре их молодые, статные дочери. Крайняя справа – самая младшая, ангелоподобная красавица Златочка, крайняя слева, в матроске, с чистым, юным лицом – Рися, между ними старшие – Инда и Гитл.
На этой фотографии нет моей бабушки, Фани. Но она есть на других снимках, примерно того же времени – с тремя подружками (две из них очень похожи между собой, явно сестры), с сестрой Гитл.
Фаня Хазина (сидит на возвышении) с подругами
На всех снимках той поры вид у бабушки серьезный и строгий, прямая спина, горделивая осанка. Слегка улыбается бабушка только на одном снимке 1916 года (ей здесь 26 лет), изображающем группу девушек в светлых матросках.
Фаня и Гитл Хазины
Фаня Хазина (сидит, первая слева)
Фото сделано в Одессе, а что она там делала – я не знаю, но, наверное, училась на каких-нибудь женских курсах, вряд ли в семье были средства на то, чтобы разъезжать по курортам. Одна, совсем затертая фотография – черноусый юноша, рубашка в горошек, картуз, на обороте надпись «В память о прежнем. Хаим». Мама говорила, что Хаим Гибельбанг был бабушкиной первой любовью.
На следующем Кременецком снимке три сестры Хазины с подругой.
Стоят (слева направо) Инда и Злата, сидят Рися и подруга
Златочка стоит, опираясь на ограду, все с тем же кротким, словно молитвенным выражением лица, рядом, на фоне нарисованного дерева, застыла в женственной полуулыбке Инда, вся в белом. Рися, в черном переднике гимназистки, сидит со стеком в руках, ножка в башмачке с перепонкой выставлена вперед, на лице шаловливая улыбка. Подруга явно старше сестер, по ее подчеркнуто независимой позе и по тому, сколько пространства она отвоевала себе на этом снимке, кажется, что она чувствует себя здесь главной, словно она не подруга, но какая-то наставница. Может быть, так и было.
Все лица четкие и застывшие, только у Риси лицо смазано. Видимо, она не могла усидеть долго в важной неподвижности и в силу несовершенства тогдашней фотографической техники изображение получилось нечетким. Может быть такой, живой, подвижной, очаровательной полюбил 22-летнюю Рисю трогательно-серьезный юноша Яша, которого сохранила крошечная фотография с надписью на обороте: «Рае в память о Яше, Одесса 10.1Х.1917»
Семья жила бедно, но дружно. В Златочкиных заметках есть описание характерного случая из детства: «Я как-то нашла три копейки. Когда я услышала, как мать, обращаясь к отцу, спрашивает, где взять деньги, чтобы купить продукты на субботу (нужно было минимум два рубля, нас было 9 человек, 7 детей), я сказала: «Я нашла три копейки, могу их дать».
Мать гордилась своей Златочкой и часто хвасталась соседям: «Евреи, у меня растет Злата…» интонация шла вверх и завершала фразу мимическая игра, как будто слов у матери было недостаточно, чтобы выразить свои восторги, или боялась она спугнуть ту блестящую судьбу дочери, которая рисовалась ее воображению.
Говорили между собой на идише, русский язык в семью принесла бабушка, которая овладела им в 17 лет. Возможно, знание русского языка необходимо было ей для получения образования. Гимназию бабушка закончила экстерном, это я знала с детства, еще не понимая значения этого мудреного иностранного слова. Начав объясняться по-русски, образованные сестры стали поправлять неграмотную мать: «Мама, нужно говорить не «бочёлок», а «бочёнок», на что мать беспечно отвечала: «А-а-а, мне так легче». Правда, и сама бабушка поначалу говорила небезупречно. Она со смехом рассказывала, как на вечеринке в одной компании вновь прибывший молодой человек спросил, не было ли здесь его товарища, и она, всячески стараясь быть любезной, отвечала: «Его было, но он ушел».
Конец Кременецкой эпохи
Со временем птенцы стали разлетаться из гнезда. Самый старший из всех, единственный брат, еще в 1910 году отправился в Америку и устроился там работать на фабрику. О нем я ничего не знаю.
Через несколько лет уехала в Волочиск (городок в Хмельницкой области, недалеко от Кременца) сестра Гитл с семьей. На обороте фотографии, запечатлевшей троих ее детей – Зину, Мотыка и Лилю, написано «Снято 20.1V.916 в Волочиске». В том же 1916 году уехала в Волочиск Златочка и прожила там два года, работая конторщицей (до этого она успела уже два года поработать в должности помощника зубного врача в Кременце).
А потом случилась революция. Большевики уничтожили черту оседлости и провозгласили равноправие евреев. Отныне евреи могли свободно передвигаться по стране и получать образование. Благодарность советской власти за эту милость бабушки сохранили на всю жизнь, и при каждом удобном случае любили повторять: «Только у нас это возможно!»
В 1918 бабушка Фаня уехала в Харьков и поступила там учиться в мединститут.
Златочка еще какое-то время продолжала кружить вокруг родного гнезда. В 1918 году она, видимо решив, что для получения хорошего места ей нужна какая-то официальная бумага об образовании, вернулась из Волочийска в Кременец и поступила в 6 класс гимназии. Ей уже был 21 год, скорее всего она училась экстерном. Сохранилось ее «Свидетельство» об окончании этой гимназии. Это большая добротная бумага, написанная на двух языках – русском и польском, по старой орфографии. Из этой бумаги следует, что «Хазина Злата Абрамовна, дочь мещанина из м. Любара, вероисповедания иудейского, родившаяся 10 ноября 1897 года, поступила по экзамену в 1918 году в 6 класс Кременецкой на Волыни женской гимназии С. В. Алексиной, открытой на основании положения о женских гимназиях 24 мая 1870 года, пробыв в означенной гимназии 3 года, окончила в ней полный курс наук». На первом месте среди предметов в «Свидетельстве» Закон Божий – отличные знания (не понимаю, что это значит, мне казалось, что ученики иудейского вероисповедания были освобождены от уроков Закона Божьего). Есть языки: польский, латынь, немецкий и французский (русский не значится), по ним – «очень хорошо» (bardzo dobry), а также История, всеобщая и Польши (история России, как и Украины, в отдельный предмет не выделена). Все чинно и солидно, как до революции.
Рися, Кременец, 1922 год
Я не знаю, как отозвалась революция и все, что за ней последовало в Кременце. Бабушки об этом ничего не рассказывали, а из тех сведений, что я нашла в Интернете следует, что с 1793 по 1917 год Кременец входил в состав Российской Империи, а с 1921 года – вошел в состав Польши (украинским он стал с 1939 года). Что происходило с 1917 года по 1921 – не сказано, но, судя по набору гимназических предметов, он и в это время де-факто был польским, в 1921 году этот факт просто закрепился юридически. Причем, видимо, обстановка здесь была вполне мирная, потому что в 1919 году здесь был создан Волынский университет, вряд ли это могло произойти в период войны, постоянной смены власти и разрухи. Так что, весьма вероятно, что разрушения и жестокости революционной эпохи обошли маленький Кременец стороной.
Учась в гимназии, Златочка давала частные уроки, а после окончания с 1921 по 1922 год работала заведующей Кременецкой «хаты-читальни» (так и написано в послужном списке, «хата»).
К 1922 году относятся последние из имеющихся у нас кременецких фотографий Риси и Златы, где соответственно Рисе 27, а Златочке 25 лет – темные платья с белыми воротничками, чистые, ясные, молодые лица.
Злата, Кременец, 1922
В 1922 году Златочка отправилась в Харьков, где уже жила тогда бабушка и в сентябре этого года поступила в харьковский педагогический техникум.
Примерно в это же время Гитл с семьей, Инда, а вслед за ними и Рися выехали в Палестину. В анкете, которую Златочка заполняла при поступлении в партию в 1940 году, в пункте «родственники за границей», она указывает брата, который уехал в Америку в 1910 году и сестру, с 1924 года живущую в Палестине и занимающуюся там домашним хозяйством. Какую сестру она имеет в виду – неясно, потому что в Палестине на момент написания анкеты жили двое из сестер Хазиных – Инда и Гитл (Рися к тому времени уже возвратилась в СССР). Каждая из сестер имела семью и могла, таким образом, претендовать на титул «домохозяйки». Возможно, Златочка решила, что брата и одной заграничной сестры для кандидата в члены КПСС и без того многовато и вторую заграничную сестру сократила.
Итак, в начале 20-х годов родительское гнездо опустело. Да и сохранялось ли оно до этого времени? Я ведь совсем не знаю, когда умерли мои прабабушка и прадедушка. И если в начале 20-х, они еще были живы, остались ли в своем опустевшем доме или уехали в Палестину с Индой или Гитл?
Так или иначе, девушки из Кременца полетели в разные стороны навстречу новой жизни, в которой они (в это они верили свято) не будут больше изгоями, в которой все будет не так, как было у их родителей. Я пытаюсь представить себе, какой же прекрасной рисовалась им эта новая жизнь и какой жаркой энергией наполняло их сознание того, что они строят и создают эту новую жизнь, что они ее хозяева. А потом, в конце пути, пережив голод, эпоху репрессий, войну, с каким чувством смотрели они на то, во что превратила жизнь их надежды?
Путь этот поначалу у каждой из сестер был свой.
Бабушка Фаня
Участь в Харькове в институте, бабушка Фаня познакомилась с дедом.
Мой дед Владимир Ильич Кваша был на шесть лет моложе бабушки, он родился в 1897 году (она в 1890). Родом он был из местечка Покотилово Уманского уезда Киевской губернии. От мамы я слышала, что местечко это находится недалеко от Одессы. В семье было пять братьев. Старший Бойко, затем Моисей, потом мой дед Володя, затем Саня и самый младший Миша. Семья деда не была бедной. Фото моих прабабушки и прадедушки по этой линии подтверждает это: и они одеты как люди иного класса, чем кустарь-одиночка Абрам Хазин и его жена, и напряжения такого не чувствуется в их позе и лицах.
Илья Кваша с женой
Эти люди выглядят благополучными, не кажется, что они измождены тяжкими трудами. Всем своим пятерым сыновьям родители смогли дать образование. Дед мой был химиком.
В Харькове дед, вероятно, оказался по той же причине, что и бабушка – раз разрешено ехать, куда угодно, нужно ехать в столицу, а Харьков в это время был столицей Украины.
В 1920 году они поженились. Бабушке было 30 лет, деду 24. Союз их, в духе времени, был гражданским, официальное свидетельство о браке бабушка получила в 1948, после войны, когда дедушка уже пять лет как числился пропавшим без вести.
В 1924 году, будучи беременной моей мамой, бабушка узнала, что дед ей изменил. И поступила как гордая девушка с кременецкой фотографии – сказала своему гражданскому мужу, что видимо, он недостаточно ее любит и им нужно расстаться. После расставания дед через некоторое время уехал в Москву и надолго исчез из жизни бабушки и моей мамы, своей дочери.
Годы спустя, когда голова бабушки ушла в плечи, а осанка утратила царственную стать, она сожалела об этом своем максимализме. Дед был человеком ярким и жизнелюбивым. Дочь его брата Сани, мамина двоюродная сестра, тетя Лиля, говорила, что он был самым веселым из братьев Квашей. И изменил он бабушке, возможно не потому, что не любил ее, а потому, что очень любил женщин. Мама рассказывала, как он, уже обзаведясь второй семьей, поехал с детьми, с ней и сыном от второго брака Игорем, на юг и как там он, уже не очень молодой, лысеющий отец двоих детей, у них на виду молодцевато стрелял глазами по Одесскому пляжу, пытаясь ухлестнуть за хорошенькими.
Но вторая жена деда Добочка была мудра и терпелива. Она не обращала внимания на увлечения мужа. Наверное, она могла разделять понятие флирта с понятием любви и семьи. А бабушка не могла. Может быть, по натуре была максималисткой, а может быть революция попутала – крушение старых ценностей: религии, традиций, института брака, а взамен женское равноправие, свободная любовь. А там, где есть измена, нет любви, а если ее нет, так нечего и быть вместе.
Как бы там ни было, дед уехал, не дождавшись рождения первенца, а бабушка осталась в Харькове с сестрой Златочкой.
Мама моя родилась 30 октября 1924 года. Имя бабушка дала дочери в духе времени: Дима – ДИалектический МАтериализм или Долой ИМпериализм (как кому больше нравится). Как-то уже после смерти Златочки, я, роясь в ее бумагах, нашла тонкую тетрадку, где было исписано всего несколько листов: Златочка рассказывала о том, как мама появилась на свет.
«7 ноября Фаню выписали из больницы. Живо предстала в моем воображении такая картинка: 7 ноября 1924 года, Фаня с ребенком на руках, я напротив пробираемся на извозчике с ул. Конторской до ул. Сумской в часы демонстрации. Долго пришлось ездить по различным улицам, пока мы очутились дома на Сумской.
Какая трудная жизнь началась для Фани. В январе 1925 года она переехала на Чайковскую улицу. Там она начала работать Главврачом в Доме ребенка, там она и получила квартиру. В первый год после окончания института Фане пришлось вести большую научную работу по Охматдету /охрана материнства и детства/. Дочурку свою она тоже стремилась воспитать по всем правилам советской педагогики. Я окончила Харьковский педтехникум и в январе 1925 года уехала на работу в Донбас».
После отъезда Златочки, бабушка осталась одна с грудной дочерью на руках. И этот, довольно большой отрезок их с мамой жизни я вижу глазами мамы.
Дима-низзя-какао
Жилье, которое получила бабушка, было не квартирой, а комнатой. Детский дом занимал первый этаж здания, а комнатка, которую дали бабушке с дочкой помещалась на втором этаже, где располагался какой-то НИИ. Однако, в период маминого младенчества эта комнатка была, скорее всего, просто местом ночлега, в рабочее время малютка была где-то при маме, то есть среди обитателей детдома.
Говорят, что один из признаков одаренности – очень ранние воспоминания. У мамы было одно такое. Над ней склоняются улыбающиеся лица больших девочек, она чувствует себя по сравнению с ними маленькой, ничтожной и ей странно и радостно, что они, такие большие и сильные, могли бы легко ее обидеть, но они наоборот добры и ласковы с ней и, пожалуй, даже готовы ее защитить, если что. По тому, в каком ракурсе виделись маме эти лица и что было вокруг, она относила это воспоминание к младенческому периоду своей жизни.
В этом детском доме, как во всех детских домах мира, чаще всего звучало слово «нельзя». Поэтому первое слово, которое произнесла моя мама было не «мама» или «папа», а именно «нельзя». «Низ-зя», – говорила она, копируя не только звуки, но и интонации взрослых, то есть говоря строго, «почти свирепо», как она вспоминала. Вторым словом стало почему-то «какао», а третьим – Дима. Так что в детском доме ее называли «Дима Низзя-какао».
Дима Хазина, Харьков, 1925
Рабочий день врача в детдоме был ненормированным, а после того, как в 1926 году бабушка вступила в партию, к ее профессиональной деятельности прибавились общественные нагрузки.
Сохранилась маленькая фотография – бабушка и три ее сотрудницы в белых халатах сидят в комнате за большим столом. Комната сплошь обклеена политическими плакатами: здесь и призывно воздевающий руку Ленин, и прославление «Ленинскоi партii», и гордое «новый быт – детище Октября», и «Да здравствует Октябрь, освободивший женщину – 10 лет». То есть, 1927 год.
Фаня Хазина, Харьков
По призыву любимой партии освобожденная женщина, имеющая на руках малолетнюю дочь, по вечерам ликвидировала безграмотность народных масс и вела агитмассовую работу. Бабушка любила рассказывать такую историю. Она с друзьями готовилась к политзанятиям, а рядом играла 3-летняя Дима. Для разрядки кто-то из друзей решил пошутить и спросил у малютки: «Ну, Дима, что такое профсоюзы?», в ответ крошка без запинки отчеканила «Профсоюзы – это школа коммунизма».
А вот другое семейное предание на тему маминой ранней политической зрелости и полной невинности в национальном вопросе. Соседка Варвара Ивановна, которая присматривала за мамой во время бабушкиного отсутствия, как-то раз сказала Диме, что она, Дима, еврейка. Мама не обиделась, но обвинение отвергла: «Я-то, конечно, не еврейка, но мама моя действительно еврейка. Ну, что ж такого, лишь бы не буржуйка».
Буржуйскими предрассудками считались также любые проявления женственности. У мамы было одно платье. Отчасти, наверное, по бедности, но отчасти из принципа – думать нужно о победе мирового пролетариата, а не о каких-то тряпках. Следуя модным в то время и ныне совсем забытым теориям, бабушка наголо брила маме волосы – чтобы лучше росли.
Но главное – этому обритому и кое-как одетому спартанцу приходилось оставаться в одиночестве, когда бабушка после работы оставалась выполнять всевозможные партийные поручения. Причем, она была не просто одна в комнате, но одна на всем этаже. Мама вспоминает:
«Там /на втором этаже/ помещался НИИ (лаборатории, кабинеты). Днем там было много народу, а вечером все вымирало. Если мама была дома, то было совсем не страшно. Бегаешь, прыгаешь, слушаешь эхо – коридоры широкие, никому не мешаешь. Но если у мамы «ликбез» или еще какая-нибудь нагрузка, то я одна на всем этаже. Страшно. Я не признаюсь маме в этом. Стыдно. И мама рассказывает друзьям, какая у нее храбрая дочь: остается одна, не боится. Те рассказывают своим детям… Приходится держать марку. Так и не знаю, догадывалась ли мама, что я все-таки немножечко боюсь. Думаю, да, потому что она старалась свести к минимуму мои одинокие вечера: договаривалась иногда с Варварой Ивановной (она жила по соседству).
Варвара Ивановна была чудная старушка. Она угощала меня молочным киселем с ванилью. Она была добрая, любила меня и, наверное, жалела. Так хорошо было у нее под оранжевым абажуром. Но вот однажды я вдруг заметила в углу икону. Раньше не замечала, а тут у нас в садике была политбеседа, и нам все объяснили. Я подумала и начала антирелигиозную пропаганду: стала ходить вокруг стола и в такт шагам говорить: «Бога нет! Бога нет!». Я чувствовала себя борцом, но вдруг все преобразилось. Лицо Варвары Ивановны исказилось – такой я ее никогда не видела, и что-то важное открылось мне в эту минуту.
Варвара Ивановна меня выгнала. И была, конечно, права. Я вышла встречать маму. Увидев ее издали, я бросилась к ней и горько заплакала. «Я больше никогда так не буду делать», – говорила я сквозь слезы. Варвара Ивановна простила меня, она поняла».
Читать мама научилась в пять лет:
«Оставаться вечером с книгой совсем не то, что одной. Я пристрастилась к чтению. В один из одиноких моих вечеров я читала «Муму». Я так влезла в книжку, в душу Герасима, что совсем не ощущала широкого темного коридора за дверью и окна с тонкими веточками и медленно возникающими странными фигурами в бесформенных одеяниях, которые так же медленно уходят, как появляются, которые так убедительны, что невольно тянет посмотреть, не лезут ли они в окно. Сегодня и окно и коридор молчали, они лишились своей притягательной силы. Я, кажется, ни разу не оглянулась, не прислушалась. Я читала. Когда произошло самое страшное, я не остановилась: ведь там еще что-то напечатано. А вдруг… Я плакала и читала. Я не остановилась даже тогда, когда все кончилось. Не остановилась, потому что там оставался еще мелкий шрифт. Пока есть хоть какие-то буквы, есть надежда. Мелкий шрифт – для взрослых. Там должно быть одно слово: «выплыла». Если нет, то как жить? Я прочла все: типография имени такого-то, по адресу такому-то, столько-то экземпляров тираж, бумага такая-то, редактор такой-то, корректор такой-то… И ничего о судьбе Муму. И я одна на всем этаже. Некому меня утешить. Да я и не хочу утешения. Я хочу спасти Муму. Я сморю в окно, и мне впервые не страшно. Совсем. Самое страшное уже произошло.
Не помню, как я легла, как уснула, кажется мама пришла довольно скоро, уложила меня, успокоила».
Кроме чтения еще одной радостью в ее одиноком детстве для мамы была музыка. Она могла часами сидеть в тишине, и, надев наушники (так в те времена слушали радио), слушать музыку. Когда музыкальная передача заканчивалась, она снимала наушники и несла их бабушке со словами: «Мама, говорят» – это ей было уже неинтересно, независимо от того, были это последние известия или детская передача. Подрастая, Дима, как когда-то бабушка, стала мечтать учиться музыке. Но до покупки собственного инструмента было еще далеко, и маме оставалось только завидовать соседским девчонкам, которых родители смогли отдать в музыкальную школу. Когда в Доме врача открылась музыкальная студия, бабушка отвела дочь туда, и мама стала заниматься со страстью, используя любую возможность посидеть за инструментом. Оказалось, что у нее абсолютный слух и очень большие способности. Играя, она забывалась, закрывая глаза или воздевая их к небу, то есть, не смотрела на клавиатуру, так что ее педагог шутил: «Дима играет с замашками виртуоза». Конечно, она быстро оставила позади всех соседских девочек, которым прежде завидовала.
Дима часто говорила, что в театр (она стала актрисой) ее привела тоска по празднику, засевшая в ней со времен ее одинокого, бедного детства, в котором праздники случались так редко.
«Мы жили на Чайковской 21. Это короткая улица. Она начинается в районе «Гиганта», а конец ее, разветвляясь, переходит в Журавлевку. Все окна «Гиганта» вечерами всегда освещены. Такого не бывает в других домах, потому что «Гигант» – общежитие. Там всегда кто-нибудь дома. Кто-нибудь дома! Как это хорошо. Я завидую «Гиганту». Я завидую и вон тому окну, где светится оранжевый абажур. Там все дома, и так тепло. Но больше всего завидую «Гиганту»: там все окна светятся – всегда. Он для меня – стоглазое, живое существо. Я с ним разговариваю.
Перед праздником мы с мамой идем смотреть иллюминацию. Это традиция. Мы подходим к «Гиганту». Я смотрю на него и победно шепчу: «Можешь не задаваться, сегодня и у меня праздник. Можешь не таращить свои окна!».
Как хорошо, когда мама держит за руку и шепчет: «Боба дорогая». Как хорошо с мамой. Я чувствую, что для нее я хорошая, хоть и трудновоспитуемая. «Боба дорогая» – мое домашнее прозвище, когда я хорошая».
Одиночество, скудость домашнего мира (игрушек, как буржуазного предрассудка, у мамы тоже не было) и чтение развивало фантазию. Однажды, видимо начитавшись «Хижины дяди Тома», Дима задумала вылепить из пластилина настоящую плантацию. Она живо вообразила себе маисовые поля, измученных рабов и жестоких надсмотрщиков с плетьми в руках, и ей стало казаться, что все это у нее уже почти что есть. И она сообщила детям в детском саду о чудесной плантации, которая находится у нее дома под кроватью. Дима так красочно живописала эту картинку, что раззадоренные слушатели стали напрашиваться в гости. Всем хотелось взглянуть на эту диковинную штуку. Тут Дима рухнула с небес своего воображения на землю и стала лепетать что-то про то, что сейчас пока нельзя, потому что мама болеет, вот попозже обязательно…
Дома она срочно взялась за исполнение задуманного. Но – о ужас – все, что так изумительно красиво прорисовывалось в ее фантазии, на деле получалось совсем по-другому: пальмы гнулись, опускаясь тяжелой кроной на подставку, человечки не стояли на ногах, руки их опускались, палочки-плети получались неровными, похожими на колбаски. Теперь ей уже мучительно хотелось, чтобы все забыли о ее плантации, она с ужасом ждала, что кто-то, особо памятливый, явится к ней домой и разоблачит ее перед всеми.
Мама не помнила, как ей удалось выкрутиться, наверное, просто со временем дети забыли о ее чудесах под кроватью. А термин «пластилиновая плантация» вошел в наш семейный словарь: когда кто-нибудь слишком уж увлекался строительством воздушных замков, его останавливали: «Так, начались «пластилиновые плантации».
Вообще детский сад радости жизни маме не прибавил. Безо всякой теплоты она вспоминала свою первую воспитательницу Оксану Ивановну, которая во время тихого часа ходила между детскими кроватками и говорила: «Тихо дiти, тихо», а когда какой-нибудь малыш обращался к ней по-русски, она с выражением нейтральности на лице, откликалась: «Не розумiю…».
Это звучит совершенно невероятно для всякого, кто знал мою маму, но в раннем детстве она была жуткой хулиганкой. Семейное предание рассказывает, что она била и сбрасывала в канаву свою подружку – тихую, неуклюжую Инку Сахновскую, после чего отец Инки, деликатный, интеллигентный Яков Давыдович, друживший с бабушкой, смущаясь и краснея сказал ей: «Фаня, давай вместе подумаем, что делать, может быть их как-нибудь… разделить?».
Такой же хулиганкой мама была и в садике. И неизвестно, как долго она продолжала бы жить с клеймом «трудновоспитуемой», которое не давало ей измениться, даже когда она этого уже сама хотела, если бы не внезапный поворот судьбы.
У Оксаны Ивановны неожиданно обнаружили открытую форму туберкулеза, и ее в срочном порядке убрали из садика. На ее место пришла старая, мудрая воспитательница. Можно не сомневаться, что перед вступлением в должность, она познакомилась с характеристиками всех детей, но придя в группу, она вела себя с Димой так, словно ничего не знала о ее преступном прошлом. Она обращалась со всеми одинаково доброжелательно и всем дала какие-то поручения. Мама получила назначение «старшей над веником». Вечером Дима с замиранием сердца говорила бабушке: «Мама, она, наверное, не знает, что я плохая» и старалась сделать все, чтобы скрывать эту тайну как можно дольше.
Садик мама с тех пор полюбила. Если раньше она старалась воспользоваться любым чихом, чтобы остаться дома, теперь она бежала в садик как на праздник. Даже когда она простудилась и заболела, то с температурой порывалась убежать туда: «Я ведь старшая над веником, там без меня все пропадут». А когда в детском саду готовился очередной праздник, воспитательница назначила маму дирижером шумового оркестра. Так хулиганка стала кротким ангелом – раз и на всю жизнь.
Эта история была семейным анекдотом. Мама рассказывала со смехом о своем буйном детстве. И я смеялась вслед за ней – надо же, какая невероятная нелепость моя мама – хулиганка! Но никогда я всерьез не задумывалась над тем, почему так случилось. А в самом деле – почему? Может быть, так выливалась боль ее одиночества? Может быть, Инке она просто завидовала, оттого что у нее, Инки, был отец, да еще такой чудесный как Яков Давыдович – я помню этого высокого, худощавого мужчину с большими ласковыми руками и застенчивой улыбкой.
Ведь дед в ту пору ее раннего детства не только не помогал семье, но почти не появлялся на горизонте. Сначала он периодически приезжал в Харьков, но потом пропал так надолго, что мама совсем забыла, как он выглядит, и однажды погналась на улице за незнакомым мужчиной, потому что ей показалось, что это ее папа. Мама этот эпизод запомнила так хорошо, наверное, еще из-за реакции бабушки: бабушка очень рассердилась на дочь и ругала ее. Видимо, бабушке больно было это видеть, но ей все еще хотелось быть гордой.
Уже после рождения сына Игоря (он родился в 1932 году), дед стал приезжать чаще. Думаю, дело было не только и столько в факте появления на свет сына, сколько в благотворном влиянии второй жены деда Доры Захаровны. Она не только не препятствовала отношениям мужа с первой семьей, но всячески старалась сделать все, от нее зависящее, чтобы эти отношения были теплыми и родственными. Сыграло, наверное, роль и то, что мама стала взрослее, ей в то время было уже 9 лет, и она понравилась отцу. Во время коротких визитов он всячески старался заслужить благосклонность дочери: катал ее на извозчике, покупал мороженое и жульнически проигрывал в шашки (мама очень сердилась, когда он выигрывал).
А бабушка? В этой суровой жизни, с работой, заботой о дочери, колхозами, ликбезами и партсобраниями, было ли у бабушки хоть чуть-чуть времени на себя? Был ли шанс хоть немного чувствовать себя женщиной? Были ли у нее поклонники, связи с мужчинами? Может быть, и были. Мама говорила, что бабушка всегда была страстной и влюбчивой. Почему она так считала? Может быть, что-то знала о бабушкиной личной жизни, но мне не рассказывала. А может быть, просто так чувствовала свою маму. Но если и были у бабушки какие-то привязанности, увлечения или даже романы, серьезных последствий они не имели, замуж она так и не вышла.
«Я очень люблю школу…»
В одинокой жизни моей мамы школа стала праздником. За всю жизнь у нее не было, пожалуй, лучшего сообщества, чем ее школьный класс, а своего классного руководителя Рахиль Лазаревну Басину она обожала до конца жизни, как, впрочем и все ее одноклассники, да и вообще все ученики 36-й школы.
До поры до времени я думала, что маме просто повезло – заботясь о более или менее равновесном распределении даров жизни, послал Бог одинокой девочке кусочек счастья. Однако, почитав воспоминания Бэшников, я поняла, что это везение организовала бабушка (хотя и провидение в этом тоже поучаствовало, потому что класс был не просто хорошим, он был, повторюсь, уникальным, под стать Пушкинскому Лицею).
Бабушка понимала, что того внимания, которое она может уделить дочери, катастрофически недостаточно. Если раньше она задерживалась по вечерам, то когда мама подросла, стала уезжать на несколько дней по призыву партии в колхозы. Перед отъездом бабушка проводила с мамой политбеседы, объясняя популярно, куда она едет и почему это так необходимо и неизбежно – уезжать, оставляя малолетнюю дочь на попечении чужих людей: «Вот ты учишься в школе, а на селе детям негде учиться, нужно им помочь…» и все в таком духе. Оставаясь одна в периоды бабушкиных многочисленных отлучек, мама читала книги и сочиняла стихи:
Теперь уже сказать нельзя,
Что города школы лучше, чем школы села
Но есть еще много врагов, они мешают дружной стройке.
Партийцев посылают, они там работают стойко,
А у крестяньев есть охота подражать.
Мама со смехом пересказывала мне свои детские стишки, потешаясь над последней строчкой, особенно над падежным окончанием слова «крестьяне». Девочкой я смеялась вместе с ней, но, став старше, начала горячо сочувствовать девочке-маме и посылать проклятия в адрес советской власти – как же нужно было засрать людям мозги, чтобы женщина, любящая мама, по первому зову партии мчалась в любую глушь, оставляя свою единственную доченьку на чужих людей. Я не осуждала, конечно, бабушку, но с сожалением думала о ее фанатичной преданности партии, которая заставляла маму так страдать.
И только сейчас пришло более объемное видение.
Конечно, я знала давно о страшном голоде на Украине, искусственно организованном сталинской властью в 30-е годы. Об этом в 90-е годы много писали, а от документальных кадров, которые показывали в исторических телепрограммах, волосы дыбом стояли. Но это знание существовало параллельно с бабушкиными колхозами. И только сейчас, когда я перечитывала воспоминания маминых одноклассников, эти параллельные прямые, поменяв траекторию, вдруг пересеклись. Маленькая история жизни любимых людей подсветилась большой Историей и зазвучала по-новому.
В воспоминаниях одноклассники говорят не только о школе, но описывают разные картинки городской жизни, какие видела в детстве и моя мама. «Во двор часто приходил старьевщик, оглашая его криками: „Старье берем! Старье берем!“, точильщик – „Точить ножи-ножницы!“, шарманщик с обезьяной и попугаем. А иногда во двор заглядывал „Петрушка“ – бродячий кукольник, который ставил ширму и давал веселое представление. Оно обычно начиналось так: две куклы: „Здравствуйте, милые зрители, мы Петрушкины родители, старичок и старушка, а это наш сын Петрушка!“. Тут из-за ширмы выскакивала третья кукла – Петрушка в красной рубахе в белый горошек и в синих шароварах. После окончания представления из всех окон, выходящих во двор, кукольнику бросали медяки, завернутые в бумажки – плата за спектакль» – вспоминает Нина Болотина.
Извозчики, которых я застала только в виде туристического развлечения, также были частью городского пейзажа. Вместо черной «Волги», а впоследствии «Мерседеса», высокопоставленных лиц возил на работу извозчик. Об этом вспоминает Лида Мишустина: «Мой отец работал в стройуправлении при заводе ХПЗ, и ему был положен личный транспорт. Отца возил на работу и с работы заводской извозчик. В двухместный фаэтон была запряжена лошадка, на облучке сидел кучер».
А вот зимняя картинка:
«дворники в белых фартуках с бляхами сгребали снег большими деревянными лопатами в сугробы вдоль тротуаров. Я очень хорошо помню, что зимой тротуар на улице Свердлова напоминал бесконечный белый туннель. Вывозили снег лошадки, запряженные в специальные сани с высокими бортами» (Нина Болотина).
Но видели они не только такие мирные картинки, но и кое-что другое.
«1932 год /в этот год мама и ее одноклассники пошли в школу/ – еще много было беспризорников от прошлых лет, и уже стали появляться новые – из семей раскулаченных, из голодающих семей, семей, распавшихся из-за необычайно трудной жизни. Они лазили по карманам горожан в трамваях, грабили прохожих в подворотнях и темных подъездах» (Нина Болотина).
А вот что пишет Эллочка Бродская (в замужестве Боброва):
«Конец 1932 года, зима и весна 1933 – время страшного бедствия на Украине. Каждый день с улиц Харькова убирали десятки, а может быть, и сотни трупов. Горожане получали паек по карточкам, через „распределители“. Мой отец, беспартийный юрист был в 1930 году мобилизован на службу в ОГПУ и занял довольно высокий пост в Юридической службе органов. Весной 1933 года /Эллочке, как и маме моей было в то время 9 лет/ он застрелился в своем служебном кабинете».
Из воспоминаний Рэма Боброва:
«Весной 1933 года мой отец, Исаак Наумович Бобров, был послан в Купянский район с заданием организовать работу МТС и обеспечить техникой мертвые колхозы. Он пробыл там несколько месяцев. Вернулся он с первой сединой в голове и в состоянии крайнего телесного и нервного истощения. То, что он повидал в селах (и о чем шепотом рассказывал лишь очень близким людям), ужаснуло его. Он понял всю преступность проведенной насильственно коллективизации и весь кошмар спровоцированного ею голода».
Когда я читала последнюю запись, меня вдруг осенило: а бабушка-то! Ведь она в такие же колхозы ездила, и все эти ужасы своими глазами видела. Если зрелые, сильные мужчины седели от этих картин, то что же чувствовала она, женщина, мама, доктор? И могла ли она кому-то рассказать об этом, хотя бы шепотом?
Я не знаю, с какой партийной задачей посылали ее в деревню, но поскольку она была врачом, то, может быть, она не картошку там должна была копать, но делать свое дело – лечить детей и взрослых, помогать, чем возможно. И если это так, то как бы душа ее не болела о своей доченьке, она считала, что этим несчастным людям она нужна еще больше. Да и вряд ли ей предлагался какой-то выбор. Понимая, что эту ситуацию изменить невозможно, бабушка сделала то единственное, чем могла ее хоть как-то поправить, то, что не смогла сделать для своего сына я и то, что даже не подумали сделать для меня мои родители – она нашла для мамы хорошую школу.
36-я школа считалась привилегированной: в ней учились дети местной элиты. А нужно учесть, что Харьков в то время (до 1934 года) был столицей Украины, так что элита была крутая.
«Учителя наши были умелыми и опытными педагогами. Ведь подбирал их непреклонный и мужественный директор с гимназическим учительским прошлым Павел Васильевич Туторский, светлая ему память! Рахиль Лазаревна рассказывала, как ее молодую учительницу-комсомолку послали в 1928 году в 36 школу, чтобы она противостояла „старорежимным“ методам Туторского. Но, поработав рядом с ним в школе, она поняла, что именно так и надо вести дело». (Эллочка Бродская).
В годы больших репрессий советская власть до Туторского все же дотянулась. «В городской газете появилась злобная статья „Тихая заводь“, где всячески поносился наш замечательный директор, прекрасный педагог и учитель географии П. В. Туторский. Ему вменялось в вину, что он подобрал педагогический коллектив из представителей „гнилой“ интеллигенции дореволюционного прошлого. Даже не преминули отметить, что секретарем дирекции работает „бывшая графиня Магнус“. Туторского отстранили от должности». (Юра Тесленко). Но это было уже немного позже, и, слава Богу, отстранением от должности все и ограничилось, Туторский дожил до старости и даже бывал на встречах 9-«Б».
Из воспоминаний рядом с именем Рахиль Лазаревны всплывает «…образ Аси Самойловны, оставившей в наших душах след добра и вложившей первый кирпич в фундамент того прекрасного, что дала нам наша неповторимая школа» (Тесленко). Об Асе Самойловне, учительнице начальной школы, и мама вспоминает в очерке из сборника «По старым адресам». Главка называется «Старая школа», так они называли школу, где учились до 5 класса, потому что потом 36-я школа переехала в новое здание, где и оставалась до начала войны. Итак, слово маме.
Старая школа
Еще один старый адрес. Наша старая школа. Существует ли она еще? Мы стекались туда ручейками. Это был наш первый шаг. Она приняла нас всех: читающих и не читающих, пишущих печатными и письменными буквами и вовсе не пишущих. Нас встретили внимательные глаза Аси Самойловны, ее улыбка, ее руки, которые довели нас до новой школы, где было немного страшновато без нее на первых порах.
В старой школе был класс музвоспитания. А, может быть, он назывался как-то иначе. Но нет, помнится, что не «пение», не «музыка», а «музвоспитание». Впрочем, есть кому меня поправить. Может быть, кто-нибудь вспомнит имя и отчество учителя. Как же я его забыла?! Долго помнила, потом забыла. А его самого помню. Он был большой и добрый, и был похож на дворянина (такими рисовались мне дворяне, когда впоследствии читала я Тургенева и Чехова). Я любила рассматривать его. Однажды, когда мы расходились с урока, он подошел ко мне, погладил по голове, улыбнулся и сказал: «Будешь учиться…» Больше ничего. Фраза осталась неоконченной, он не поставил точки. А многоточие повисло какой-то надеждой. Хотелось договорить: «Станешь человеком».
Может быть, я со своей наголо остриженной головой, в бесформенном платье на вырост была для него воплощением того самого пролетариата, которому «нечего терять, кроме своих цепей…», и в таком воплощении он показался ему более приемлемым, чем на баррикадах и митингах. Недолго он пробыл у нас. Перешел в другую школу? Переехал в другой город? Не хочу строить предположений. Вспомнилось, что в очерке Юры Тесленко было что-то о нем. Перечитала и нашла: украинский композитор Козицкий!
Встреча с Рахиль Лазаревной
Моя первая встреча с Рахиль Лазаревной произошла, как это не странно, в стенах старой школы. Я в чем-то провинилась, и мне велели явиться к завучу. Завуч, это была она, Рахиль Лазаревна. В чем была моя вина – не помню. Скорее всего – опоздания. Я совсем еще недавно поступила в школу, но о Рахиль Лазаревне была уже наслышана. Она была гордостью школы, ее легендой. Говорили, что она может повлиять на самого неисправимого ученика – такова сила ее взгляда.
Я, конечно, очень волновалась, переступая этот порог, но почти сразу волнение уступило место восхищению. Я видела Рахиль Лазаревну фактически впервые. То есть, несколько раз видела издали, но так близко – никогда. И я захлебнулась от восторга. Ее прекрасные карие глаза смотрели прямо на меня, и говорила она, обращаясь прямо ко мне. Говорила неспешно, а глаза смотрели задумчиво. Она была во всем права, и она была красавица. Мне стало стыдно. И я пообещала себе, что больше не буду опаздывать. Видно, ее сила была не только во взгляде ее прекрасных глаз, но и в ее задумчивости, в ее искренности, в печали и радости ее раздумий.
Я уже освоилась и чувствовала себя участницей разговора к тому времени, когда она, так же задумчиво глядя на меня, сказала: «Ты не любишь школу». Я сочла себя вправе ответить и сказала очень серьезно: «Что вы? Я очень люблю школу». Это была правда. И Рахиль Лазаревна вдруг переменилась. Вот перемену эту я очень отчетливо помню. А описать не могу. Лицо ее осветилось, что ли? Она смотрела на меня немного удивленно и очень внимательно. Может быть, вдруг обнажился перед ней юмор ситуации – получалось что-то вроде светской беседы: «Что Вы? Я очень люблю школу». Может быть, она устала уже вразумлять неисправимых и рада была случаю улыбнуться внутренне, глядя на свою собеседницу. Во всяком случае, она больше ничего не говорила и отпустила меня».
Пока бабушка работала, а мама подрастала, бабушкины младшие сестры шли каждая своей дорогой.
Рися
Рися, как я уже говорила, в 1922 году уехала в Палестину. Мама рассказывала, что там у нее был роман. Когда через несколько лет Рися вознамерилась ехать обратно в Советский Союз, ее возлюбленный молил ее: «Не уезжай! Ты ведь все равно вернешься сюда, я знаю. Ты вернешься. Я буду ждать». Откуда им было знать, что из Советского Союза не возвращаются.
Почему она все же уехала, на что надеялась? Зачем не держалась за свое женское счастье? Думала, что все впереди? Но ведь ей в то время было уже за 30 и так недолго ей дано еще было оставаться привлекательной. Может быть, она скучала по сестрам? Или здешняя жизнь рисовалась ей прекрасным раем? Так жалко ее, жаль ее ускользнувшего счастья. Рися не была умной, ни в Палестине, ни в СССР она не смогла бы сделать успешную служебную карьеру, но она была энергичной, работящей и преданной, она могла бы стать хорошей женой, любящей и любимой мамой. Но она уехала от своего возлюбленного и тем сделала другой выбор.
Из Палестины Рися перебралась в Германию, а оттуда отправилась в Харьков, где жили ее сестры. Мама хорошо помнила возвращение Риси из эмиграции, это был 1929 год, ей в то время было уже 5 лет. Ей рассказали, кто такая Рися (до этого мама не знала о ее существовании, видимо считали, что девочке не стоит знать о заграничных родственниках) и откуда она едет. На вокзал поехали встречать всей семьей, и на обратном пути мама, забегая вперед процессии, старалась заглянуть Рисе в лицо и найти на нем следы пережитых в капиталистическом аду страданий: «Что, Рисенька, здорово тебя буржуи мучали?».
На маленькой фотографии, наклеенной на удостоверение, Рися еще очень хороша собой, такой ее любил неизвестный палестинец. Еще есть в этом лице женственная округлость, еще дышит оно молодой энергией. Даже на снимках 30-го года, где Рисе 35 в ней можно еще узнать кременецкую гимназистку, но уже бугрится и тяжелеет ее лицо, и в повадке, даже на фотографиях, видна неуклюжесть и резкая угловатость. На снимке она стоит с двумя какими-то юношами на морском каменистом берегу, в августе 1932 года, ей 37, но кто-то еще за ней ухаживает. Однако, кто бы ни были эти юноши, они, как и одесский Яша, как и молодой палестинец, исчезли из ее жизни. Она так и оставалась одинокой.
Златочка
В 1926 году, проработав после окончания Харьковского педтехникума год учительницей в селе Константиновка в Донбассе, Златочка переехала в местечко Хощевато на Первомайщине (похоже, где-то под Одессой), а в 1928 году вернулась в Харьков и поступила в институт народного образования. Окончив его в 1931 году, она работала учительницей в ФЗУ в Харькове, а в 1934 году на 4 года уехала в Биробиджан.
Сейчас я думаю, что в этом Златочкином неугомонном колешении по стране что-то было, какое-то понимание своего призвания. Она не была хорошим литератором. Образование, полученное ею, было беспорядочным и неглубоким, литературный вкус – примитивным, полностью ориентированным на идейность, а не на стиль, красоту слога, точность образов. Когда уже в старости она решила бороться со склеротическими нарушениями памяти с помощью заучивания стихов, то использовала в качестве мнемонического материала стихи Николая Олейника (в переводе с украинского!) о старости и стариках. Она заучивала эти бездарные стишки и читала их своим партнерам по лавочке. Не помню, чтобы она когда-либо говорила о своих пристрастиях в области классики или интересовалась литературными новинками. Словом, не была она ни любителем, ни знатоком изящной словесности. Но она была идеальным воспитателем советского типа. Она умела нести в массы ту скромную культуру, которой владела сама, и на том уровне, который полуграмотным массам был по плечу. Потому, быть может, и колесила она без устали по глухим закоулкам нашей необъятной родины, ликвидируя безграмотность и распахивая культурную целину.
Когда бедная жена еврейского сапожника, моя прабабка, хвасталась перед соседями своей Златой, я знаю, что она имела в виду: вот растет идеальная еврейская жена – красивая и разумная, кроткая и работящая, добрая и терпеливая, самоотверженно преданная семье. Ох и повезет же кому-то!
Кто бы мог подумать, что эта кроткая красавица так никогда и не выйдет замуж. Мама рассказывала, что в гимназии Златочка была влюблена в латиниста. Смутно слышала я, что была какая-то романтическая история с молодым человеком по имени Гриша Поволоцкий. Но от этого осталась только фотография пожилого военного с орденами и надписью на обороте: «Незабываемым друзьям, сестрам Хазиным в память о прекрасно проведенном вечере», да еще коротенькое письмецо полуделового содержания.
Откуда было знать моей прабабушке, что нарушится мировой порядок, и ее младшенькую шарахнет по башке революцией. И все эти сокровища, Богом предназначенные мужу и детям, семье, достанутся Советской власти. А случилось именно так. Поверив этой власти, Златочка отдалась ей полностью и уже не могла ей изменить. Потому что действительно главной чертой ее характера была преданность.
Я сказала, что сестры Хазины любили Советскую власть. Может быть, это не совсем точно. Рися скорее просто принимала идеологию семьи, потому что не имела притязаний на собственную. У бабушки просоветские настроения были в большей мере данью ее пламенной молодости, она была слишком умна и независима, чтобы верить слепо и не замечать очевидного.
Любила активно советскую власть именно Златочка. Я не хочу сказать, что она была глупа. Нет. Но верность была сильнее и побуждала ее изощряться в софистических попытках свести концы с концами в этом хаосе, который назывался социалистическим строем. Иногда это выглядело просто анекдотически смешно, как например, когда она, услышав от кого-то, что в капиталистическом, а значит, идейно чуждом Израиле мало пьют (а к пьянству она относилась, конечно, очень плохо), на минуту растерялась, а потом выкрикнула: «Потому что там эксплуатация, там не на что пить!»
Но в остальном, то есть в том, что не касалось ее коммунистических убеждений, Златочка никогда не теряла житейской разумности.
Новое семейное гнездо
Несмотря на жуткую нищету – всем тогда жилось трудно, а каково было матери-одиночке, у которой не было никакой поддержки, вообще представить себе невозможно – бабушка умудрялась копить деньги на жилье, нельзя же было вечно жить в казенной комнатке при детдоме.
Помню, мама рассказывала, как бабушка, внеся первый пай на застройку своего дома, пошла посмотреть место будущего жилья. Оно показалось ей на редкость необжитым и неуютным – грязь, овраги, бараки. Бабушка очень расстроилась и стала раздумывать, не взять ли деньги назад. В таких грустных размышлениях она шла по улице и встретила своего знакомого, который стал расспрашивать ее, чем она расстроена. Узнав, в чем дело, он начал энергично убеждать бабушку не отказываться от квартиры: район близок к центру, будет быстро застраиваться, через несколько лет его нельзя будет узнать, и ей здесь будет очень хорошо. Спасибо ему, потому что так все и вышло.
Судя по тому, что бабушка сама, без обсуждения с сестрами собиралась принимать решение по квартире, я полагаю, что на тот момент их намерение иметь общий дом еще не вызрело. Однако постепенно все к этому шло: надежды сестер построить собственную семью год от года таяли и, наверное, все больше хотелось держаться друг друга. В апреле 1934 в новой квартире в Барачном переулке они уже были зарегистрированы вчетвером – три сестры Хазины и один ребенок – моя мама, Дима Хазина.
Златочка, правда, когда образовалась Еврейская автономная область, еще на 4 года рванула в Биробиджан, но в 1938 году окончательно вернулась в Харьков и с того времени жила с сестрами, уже не расставаясь. Работала она учительницей в разных школах, пока 6 сентября 1958 года дирекция, парторганизация и коллектив 27-ой вечерней Школы рабочей молодежи города Харькова не отправили ее на заслуженный отдых, как водится, с пожеланиями многих лет жизни, здоровья и бодрости.
Рися, не имевшая никакого образования, устроилась швеей на ткацкую фабрику и всю жизнь проработала там. Здесь, в работе на конвейере, пригодилась ее быстрота, которая, получив конкретную цель и направление, помогла ей добиться успехов. Она стала ударником производства, среди немногочисленных сохранившихся ее документов я обнаружила красное удостоверение «Кращому ударнику 2-й ткацькой фабрики iм. Тiнякова».
Она стойко тянула до конца своих дней тяжкий воз труда, с течением времени все больше становясь похожей на ломовую лошадь. Такой я ее помню, потому когда я впервые увидела ее молодые фотографии, я не могла поверить, что это легкое, прелестное существо и Рися, которую я знаю – один и тот же человек.
В семье Златочка была главным специалистом по ведению домашнего хозяйства – ходила на Сумской рынок, готовила на всю семью, занималась бюджетом и была главной по «связям с общественностью»: поддержание добрых отношений с соседями и родственниками, контакты с официальными инстанциями, когда требовалось – все это было в ведении Златочки. Она всегда была общительна и социально активна.
Златочка понимала и любила людей, причем доброта ее была деятельной. Вот один пример, о котором я знаю со слов мамы. В школе, где Златочка работала, преподавала пожилая учительница истории, которой оставалось несколько месяцев до пенсии. На ее беду директору понадобилось устроить на работу какую-то свою родственницу, и она приняла решение историчку уволить. Златочка раскинула мозгами. Ввязываться в открытый бой с директрисой она не хотела, боясь потерять место, но пожилую историчку было жалко. И наша праведная Златочка села за письменный стол и своим аккуратным почерком написала на директрису анонимку. Документ приняли во внимание, рассмотрели, справедливость была восстановлена, и пожилая учительница сохранила место, так и не узнав никогда, кому она этим обязана. Тайна хранилась в нашей семье столь свято, а репутация Златочки была столь безупречна, что директриса ей же жаловалась в сокровенной беседе на неизвестного подлеца, разрушившего своим анонимным письмом ее планы. А Златочка слушала с невинным видом и даже выражала директриссе лицемерное сочувствие.
Она была неравнодушной и справедливой. Помню ее рассказ, как в голодные годы, когда процветало воровство, она однажды увидела, как к широкому карману кондуктора трамвая тянется чья-то быстрая рука. Она схватила эту руку с криком: «Что вы делаете?». Вор отпрянул, внимательно посмотрел на Златочку, тихо сказал: «Ты мне не попадайся!» и спрыгнул с подножки трамвая. Пожилая кондукторша чуть не задушила Златочку в объятиях. А Златочка какое-то время еще ходила по улицам, оглядываясь со страхом и опасаясь мести вора.
Сестры жили дружно, любили и поддерживали друг друга. Но однажды, уже после смерти Златочки, мама сказала мне, что бабушка тяготилась этой совместной жизнью, ей хотелось иметь собственную полноценную семью. Это не получилось, и потому бабушка всегда так ревностно оберегала мамину семью – ей страстно хотелось, чтобы ее дочь получила то, чего судьба не дала ей.
И еще одна не осуществившаяся мечта бабушкиной юности перекинулась на дочь. Семейное предание рассказывает, как она, еще во времена кременецкой молодости, заслышав льющиеся из какого-то окна звуки рояля, останавливалась посреди улицы и подолгу слушала музыку, мечтая когда-нибудь научиться играть. Ей это не удалось, и теперь она хотела, чтобы музыкой занималась ее дочь. Так что после приобретения жилья сестры сохраняли режим жесткой экономии – копили деньги на рояль. Мама рассказывала, что уже в старости бабушка как-то сказала: «Как приятно, когда на хлебе с маслом сверху еще что-то лежит», то есть, кусочек сыра, например, или колбаски. Долго она не могла себе этого позволить.
Надо сказать, что такая скудная жизнь не сделала бабушку скупой. Она всегда оставалась порывисто-щедрой. Однажды, придя в театр, она дала театральному гардеробщику на чай вместо положенных 10 копеек (которые тоже далеко не все давали) целый рубль. Ей жалко стало старика, которому, наверное, очень скучно целый день стоять и выдавать чужие пальто.
Я помню одну изысканную игрушку своего детства – маленький, деревянный книжный шкафчик с книжками. Книжки были совсем крошечными, в размер полок, то есть примерно 6 на 4 см, но совершенно как настоящие, написанные по старой орфографии, их можно было развернуть гармошкой и рассматривать картинки. А ларец орехового дерева и резной настенный шкафчик до сих пор сохранились у нас. Все эти вещи, совершенно нетипичные для нашего скудного быта, где не было ничего, сверх необходимого, бабушка покупала у старой дворянки Огонь-Догановской, жившей в нашем доме. Зная о бабушкиной бедности и равнодушии к вещам (во всяком случае к их эстетической стороне), я не сомневаюсь, что она совершала эти покупки с единственной целью – поддержать старую женщину, бедствовавшую еще больше, чем она.
В детстве я никогда не думала о том, что мы бедны и вырастала в спокойном сознании того, что наша семья имеет средний достаток. То, что меня учили штопать чулки, казалось мне совершенно естественным, я не воспринимала это как признак бедности. Уже гораздо позже, когда после смерти Златочки, последней из сестер Хазиных, из нашего быта стали уходить в мусорное ведро аккуратно заштопанные штаны и чулки, обтрепанные по краям лифчики, залатанные простыни, я стала задумываться о том, с какой привычной стойкостью и легкостью, никогда не впадая в уныние, несли мои дорогие бабушки свою бедность. Впрочем, может быть, сами они и не считали себя бедными, потому что так жили тогда многие. Но так или иначе, покупка рояля в этих условиях была целью на годы. Чтобы идти к этой цели, нужна была настоящая страсть, и страсть эта шла изнутри, иначе откуда бы ей появиться в душе дочери бедного еврейского сапожника?
Рояль бабушка в конце концов купила. Я помню его – он стоял в нашей квартире на ул. Культуры, в небольшой комнате, в углу у окна и занимал почти половину этой комнаты. Позднее его заменило более компактное пианино. Оно переехало за нами в Запорожье, а потом в Ленинград. Когда мы переезжали с Гражданки на Васильевский, мама хотела его продать, но я, помня его историю, воспротивилась. Пианино осталось. Может быть, зря, все равно на нем играть некому, а историю я помню и так.
Я не знаю, были ли у бабушки способности к музыке. Я никогда не слышала, чтобы она что-то напевала, не помню, чтобы она ходила сама или водила меня на какие-то музыкальные концерты. Она вообще редко куда-то выходила, хотя в Харькове было для этого много возможностей – и театры, и концертные залы, и дома культуры. У нее было одно «выходное» платье, однотонно-коричневое, которое она оживляла маленьким шелковым шейным платочком и единственным своим украшением – брошкой в виде маленького черного олененка. В этом наряде она сидит среди других родителей и бабушек-дедушек на фотографии праздника в моем детском саду.
Меня бабушка любила, эту любовь я чувствовала, но я не помню, чтобы она много занималась мною. Не занималась она и домашними делами. Дом вела Златочка, Рися выполняла разовые поручения, не отказываясь ни от какой работы. Например, когда появилась в семье я, водить меня в садик и на прогулки в парк стало Рисиной обязанностью.
У бабушки в домашнем разделении обязанностей какой-то постоянной роли, похоже, вообще не было. И никаких споров на этой почве никогда не возникало. Чувствовалось, что это был уклад жизни семьи, устоявшийся задолго до моего появления на свет. Мама вспоминала забавный эпизод военного времени, когда, уехав в эвакуацию в Киргизию, они всей семьей поселились в крестьянском доме с печным отоплением. Топкой обычно занималась Златочка, но в какой-то день, видя, что Златочка очень устала и едва стоит на ногах, бабушка в порыве великодушия воскликнула: «Нет, Злата, ты не будешь сегодня топить!..» Интонация предполагала продолжение: «Это сделаю я!», но вместо этого, после небольшой паузы, бабушка тем же решительным тоном произнесла: «Рися, затопи ты!» Видимо, она была по природе своей генералом, но я застала этого генерала уже в отставке, на покое (все-таки, когда я родилась, бабушке было уже 64).
В картинках моей памяти она ничем особенно не занята – ни работой по дому, ни каким-либо женским рукоделием, как шитьем, вязанием или вышивкой. Иногда она, надев очки, читает или пишет письмо, но чаще просто сидит в кресле или ходит без видимой цели по комнате, периодически останавливаясь и подолгу глядя в окно. Говорит она немного, а когда вступает в разговор, словно выныривает в него откуда-то издалека и не полностью, но продолжая частично оставаться в своих мыслях.
О чем она думала? Мама вспоминала, как однажды, глядя на меня, она сказала: «Сколько эта девочка получает любви и заботы. Если бы Димочка в свое время получила хоть половину того тепла, которое теперь достается Машеньке». Из какой глубины размышлений выплыли на поверхность эти слова? Боль за Диму, вина перед ней, горечь за неудавшуюся собственную женскую судьбу, сожаления об ошибках, которые уже нельзя исправить?
Стать кременецкой девушки не исчезла, но съежилась, ушла глубоко внутрь и лишь иногда проглядывала в каком-то остроумном замечании (юмор бабушка всегда понимала и ценила), метком наблюдении или при встрече со старыми друзьями.
Собственно, из ее друзей я помню только одну – детскую писательницу Хану Левину. Небольшого роста, но полноватая Хана двигалась медленно и несуетно, причем не по причине веса или болезней, но потому что все делала осмысленно. Оставив в прихожей верхнюю одежду и шляпку, пригладив свои седоватые, русые, собранные в пучок волосы, Хана входила в большую комнату и направлялась к своему привычному месту, к черному кожаному креслу у окна. Так как она была довольно грузной, а кресло довольно старым, Хана сразу же утопала в нем, из-за чего подлокотники оказывались на уровне груди и, когда Хана укладывала на них руки, плечи ее так поднимались, что шея практически исчезала. Говорила Хана, как и ходила, медленно и спокойно, и так же, не меняя ни темпа речи, ни невозмутимого выражения лица, умно шутила. Иногда, не прерывая разговора, Хана так же неторопливо щелкала замочком маленькой сумочки, доставала очки и вчетверо сложенную газетную вырезку, приготовленную для показа бабушке, и зачитывала из нее заранее подчеркнутые строки.
Бабушка, помолодевшая и даже какая-то постройневшая с приходом Ханы, садилась напротив нее на стул, положив руку на круглый обеденный стол, слушала подругу, смеялась ее шуткам и острила сама. Бабушкина радость заражала меня, я очень любила, когда к нам приходила Хана. Она могла задавать мне самые обыкновенные вопросы, но при этом не меняла своего серьезного тона на какой-то особый, «детский» и смотрела так внимательно и спокойно, что не возникало сомнений – она меня видит, слышит и воспринимает то, что я говорю.
Содержания их с бабушкой разговоров я вспомнить не могу, хоть они происходили при мне, но помню ощущение какой-то насмешливой легкости, которое от них исходило. Я всегда помнила о том, что Хана – подруга бабушкиной молодости, и от их отношений веяло духом трудовой, безгрешной бедности и задора двадцатых годов.
Так что, нет, не исчезла совсем девушка с кременецкой фотографии, но рядом с ней выросла новая часть – умудренная жизнью, наблюдающая, вопрошающая, призывающая понимать людей и быть к ним снисходительной. Может быть, это и имела в виду мама, когда говорила, что к старости бабушка стала мягче. Но, добавлю, и печальнее. Мама помнила ее другой. Поэтому теперь слово ей, это отрывок из ее воспоминаний, написанных в 1996 году для классного сборника «По старым адресам».
«Барачный переулок 8, кв. 62; Переулок Покровского 8, кв. 62; ул. Культуры 16, кв. 12. Нет, мы не переезжали. Это адрес менялся. Он рос, мужал, а мы оставались там же. И тот же был дом, и квартира та же. И сколько бы я ни меняла городов, квартир, комнат, углов (даже в театре жила однажды полгода) – единственный мой родной дом был по этому кудрявому, с тройным подбородком адресу: Барачно-Покровская улица Культуры. Кстати, бараки не придуманы. Это – реальность, мы их застали.
А еще было открытое окно, и в него рекой лился запах черемухи, а навстречу – музыка. Это я играю, готовлюсь к экзаменам. Знаю, что мама слушает в своей комнате. Я вспоминаю ее рассказы о Кременце, городке ее юности: как она девочкой, бывало, стояла под окнами и слушала музыку, как мечтала научиться играть. И вот я учусь, а она слушает. И влюбляется в каждую новую вещь, которую я учу: «Сентиментальный вальс», «Лунная соната», «Ноктюрн» Шопена.
Мама умеет извлекать радость из глубины жизни /выделено мной/. Она жизнелюбивый человек. Мне кажется, судьба обделила ее, и я ее жалею. В моей любви к ней большая доля жалости. Но, наверное, человек сам лучше знает, счастлив ли он, и в моей памяти она осталась веселой, счастливой, смеющейся. Но не могу забыть, как она однажды вышла весной на балкон (это было в Запорожье), посмотрела на зеленые клейкие листочки и заплакала. Это было незадолго до ее смерти».
Мамина школьная жизнь
В старой школе мама подружилась с Нэллой Рубинштейн, которая к великому ее горю погибла в войну. Очерк, который мама написала в первый школьный сборник, был посвящен целиком Нэлле.
«Я познакомилась с Нэллой раньше, чем она попала в наш класс. Это было в детском санатории в Евпатории».
Дима Хазина (слева) и Нэлла Рубинштейн, Евпатория, 1935 (девочкам 10 лет)
«Случилось так, что я очутилась там в изоляции. Меня невзлюбили за что-то. Был, по-видимому, какой-то промах с моей стороны. А потом все нарастало, как снежный ком. Чувствуя себя окруженной неприязнью, я вела себя так, будто в самом деле была в чем-то виновата и тем подтверждала правоту ненависти окружающих. И ненависть нарастала, а с ней нарастало мое отчаянье. Я чувствовала себя скованной по рукам и ногам этой ненавистью, готова была забиться в угол, но и в самом дальней углу она настигала меня. Не знаю, чем бы кончилось все это, если бы ко мне не подошла Нэлла. Она подошла ко мне, как к старой знакомой, и хотя я точно помнила, что никогда ее раньше не видела, я невольно подхватила ее тон старого знакомства. Тем, что она подошла, она как-то зачеркнула то, что было до этого, и оно исчезло вдруг и навсегда. Что-то она спросила, что-то мы рассказали друг другу… и стремительно подружились. А ненависть, не имея пищи, ушла куда-то.
В общем, Нэлла фактически спасла меня. Но сделала она это так, что я не почувствовала ни малейшей благодарности. Толкнуло ее ко мне бесспорно – желание помочь, вытащить меня из этой ямы, из которой мне одной было не выкарабкаться. Но она, по-видимому, искренне забыла об этой главной причине. Поэтому я не почувствовала этого, а увидела просто девочку, которая говорит: «Давай дружить!», и дружба завязалась быстро и легко, не отягченная благодарностью. Как-то удивительно она это умела. Так просто, естественно. Очевидно, это было не умение, не такт, а в этом просто была ее жизнь. Она принимала людей такими, какие они есть. Их недостатки не смущали ее, не мешали ей любить их. Только к себе она была необычайно строга.
Мы с ней тогда расстались в Евпатории, а 1 сентября, прийдя в школу в свой класс, я вдруг увидела ее. Мы бросились друг к другу и сразу сели за одну парту. С тех пор все у нас стало общее. Мы ходили на галерку в Русскую драму смотреть «Три сестры»: Машу – Тамарову, Чебутыкина – Крамова. Ничего лучшего быть не могло! Мы бегали на 2 этаж в учительскую, чтобы посмотреть на Рахиль Лазаревну. И любовь наша к ней усиливалась, наверное, тем, что была общая. Иногда наши вкусы резко расходились, возникали жаркие споры, но все равно, это было наше.
Мы постигали жизнь, ее «страшные» тайны.
Однажды Нэлла пришла и сказала: «Ты знаешь, вот то, что мальчишки говорят глупости, так это на самом деле так и есть». Известие было страшное, оно требовало времени и больших душевных сил на его осознание. Мы поклялись друг другу, что такого позора с нами не произойдет. И вдруг в один прекрасный день Нэлла приносит новое известие: «Говорят, что если лежишь на одной кровати с мужчиной, то начинает притягивать к нему и сопротивляться невозможно». «Так что же делать?», – спрашиваю я в отчаянье. «Не ложиться в одну кровать с мужчиной» – решительно и непримиримо отвечает она».
Может быть, разделение на «старую» и «новую» школу мама и ее одноклассники ощущали так ярко еще и потому, что переезд школы в новое здание совпал с окончанием начальной школы. Первую учительницу Асю Самойловну сменили учителя-предметники. Осенью 1936 года в пятый «Б» пришла преподавать русский язык и литературу легендарная Рахиль Лазаревна.
Мама вспоминает:
«…одним из первых домашних заданий было: выписать метафоры и сравнения из повести Горького „Детство“. Я, помнится, сидела допоздна и принесла в своем портфельчике богатый урожай – 104 метафоры и сравнения. Конечно, не нужно было так много, но мне захотелось удивить Рахиль Лазаревну».
Не только мама, все бэшники пишут о Рахиль Лазарене в превосходных степенях: «скульптор наших душ и жизненных позиций», «имя ее для нас свято» (Юра Тесленко), «прекрасное видение прошедших лет», «образ женщины, наделенной совершенной библейской красотой и библейским именем Рахиль…». «Ее уроки были соединением мастерства и вдохновения, мы шли на них как на праздник». (Валера Дамье, Леня Шор).
Но Рахиль Лазаревна не только преподавала русский и литературу, она стала у «Бэшников» еще и классным руководителем.
«С приходом Р.Л. началась бурная общественно-литературно-театральная деятельность». Начала выходить классная газета «Вперед» с литературным приложением. Заработал драмкружок, где первым спектаклем стала «Сказка о мертвой царевне». Юра Тесленко вспоминает: «кульминационным моментом были: появление на сцене Лени Шора в роли Месяца и в костюме, напоминающем одежды средневекового алхимика, а также сцена, в которой королевич Елисей (в моем исполнении) бросался на гроб „царевны милой“ (Валя Кругляк), что сопровождалось звоном стекла, усердно разбиваемого за сценой директором П. В. Туторским»
Устраивались музыкальные вечера, в которых «участвовали лучшие оперные артисты во главе с народными артистами Паторжинским и Литвиненко-Вольгемут – родителями нашей одноклассницы Нины Паторжинской. Переезд столицы в Киев прервал наше приобщение к мировой музыкальной культуре, мы лишились наших шефов и хорошей девочки Нины П.» (Валерий Дамье и Леня Шор)
«Это не школа, а дворец», – сказала родителям Нина Болотина, когда в 6 классе пришла в 36 школу, а Юра Тесленко в своих воспоминаниях написал: «Для меня школа, без преувеличения, стала вторым и, наверное, основным домом». Думаю, под этими словами вполне могла бы подписаться и мама. Слова: «Я очень люблю школу», сказанные ею, первоклашкой, в разговоре с Рахиль Лазаревной, оставались для нее правдой всю жизнь. Хотя и на этот «дворец» набрасывало время свою тень.
Эр зицт
Если первыми словами, которые Дима научилась говорить на русском языке были «низзя», «Дима» и «какао», то первыми словами, которым она научилась на идише были «эр зицт» («он сидит»). Когда нужно было сказать что-то, не предназначавшееся для ушей ребенка, бабушка и ее сестры переходили на язык своего детства. Диму это ужасно сердило, она топала ногами, иногда плакала и требовала говорить по-русски. Страстное желание понять то, что от нее скрывали, обостряло сообразительность, которой она и так не была обделена. И вот уже, увидев напряженные, помрачневшие лица, уловив обмен многозначительными взглядами, она уже сама, вторя мимикой и интонацией взрослой скорби, спрашивала: «Эр зицт?», поначалу понимая лишь, что случилось что-то плохое, тревожное и страшное. Никто так и не перевел ей эти слова, но жизнь складывалась так, что долго оставаться в неведении относительно их значения было просто невозможно. Один за другим исчезали люди, не какие-то далекие, маячившие в высоких облаках власти, а те, что были рядом.
Посадили «без права переписки» (позже стало известно, что это синоним расстрела) жившего в нашем дворе заместителя генерального прокурора Украины Семена Александровича Пригова. Его жена, Евгения Николаевна Трояновская, была бабушкиной подругой, их дочери родились в один год, и бабушка, у которой было много молока, выкармливала вместе с Димой Мирочку Пригову. Евгения Николаевна пошла по этапу вскоре после ареста мужа, а дети, Мира и Володя были отправлены в детский дом.
Этой участи счастливо избежал одноклассник Димы Лен Рогозин, который был племянником Семена Александровича, сыном его сестры Бэллы Александровны. Отец Лена, студент Екатеринославского университета, в 1916 году вступивший в кружок РСДРП, воевавший затем в Красной гвардии, а после войны ставший крупным хозяйственником, дал своему сыну имя Поволен («Победа вооруженного ленинизма»). Энергичный и преданный боец революции, он был арестован в июле 1937 года и, как выяснилось позже, расстрелян в декабре того же года. Мать, Изабеллу Александровну, взяли позже, в ноябре 1937 года и не дома, благодаря чему, Лен, как он говорил «выпал из поля зрения бандитов». 13-летнего подростка взяла к себе тетя, сестра матери Мария Александровна Пригова. Лен казался старше своих сверстников, не только потому что был в основном предоставлен сам себе (тетя Маня была с утра до вечера на работе), но и потому, что знал что-то такое, о чем его одноклассники могли только догадываться. Он написал об этом в школьный сборник «По старым адресам» (с. 51):
«…Я носил передачи в тюрьму на Холодной горе, хотя отец, пока был жив, содержался во внутренней тюрьме НКВД в центре города. О ее существовании горожане тогда не знали. Передачи у меня принимали раз или два в месяц, даже когда отца уже не было в живых, а мать увезли оттуда, куда адресовались мои посылки. Для того, чтобы приняли передачу, нужно было выстоять тысячную очередь. А занимать ее приходилось ночью. По всему громадному городу в темноте двигались люди – такие же, как я, „очередники“. Но еще больше, чем „очередников“ было арестованных. Видимо, не хватало транспорта, и несчастных ночью вели два-три конвойных под дулом нагана».
Родители другого Диминого одноклассника Володи Идина, были арестованы тоже в 1937 году. Семья Володи в то время жила в Киеве и после ареста родителей его отправили в детский дом в Тамбов, где его разыскал дядя, брат отца. Дядина жена возражала против приезда Володи, дядя развелся с ней и в декабре 1937 года привез племянника к себе в Харьков. Володя начал учиться в 6-Б классе 36 школы в 1938, после зимних каникул.
«Я был подавлен случившимся, ощущал свою неполноценность и оттого был замкнутым. Позднее Лен Рогозин подошел ко мне и сказал: „Так мы, оказывается, птенчики из одного гнездышка“. Я сразу понял, что он имел в виду, обрадовался, что я не одинок и очень привязался к нему. Мы стали близкими друзьями, и я благодарен судьбе и Лену за эту дружбу».
Конечно, мама знала о судьбе родителей Володи и Лена и еще одной одноклассницы Майи Бродской, но вряд ли была посвящена в подробности – дети репрессированных родителей быстро научались конспирации и откровенны были только друг с другом.
Не знала мама и об отчаянном поступке Нины Болотиной, который Нина описала в своих воспоминаниях. Конечно, тогда и сама Нина, 13-летняя школьница, не представляла себе, каким чудом было то, что она осталась на свободе. А случилось вот что. Осенью 1936 года арестовали сослуживца отца Нины майора Даньшина, с дочерью которого Тамарой Нина была близко дружна. Некоторое время спустя исчезла и жена Даньшина с дочерьми.
«Расстроенная и возмущенная, жаждущая восстановить справедливость, я, ничего не сказав своим родителям, однажды утром отправилась в тот самый серый дом, где размещалось наше Харьковское НКВД. В каком-то темном коридоре сидели угрюмые люди, в основном женщины, ожидая своей очереди на прием к какому-то начальнику. Я не стала ждать, а стремительно ворвалась в комнату, которая оказалась не кабинетом, а приемной. В роли секретаря был какой-то человек в форме. Думаю, он был потрясен моим безудержным напором, так как, когда из кабинета вышел очередной посетитель, впустил меня туда даже без доклада. Кабинет, куда я попала, запомнился мне на всю жизнь: большая, мрачная комната с задернутыми шторами и горящей настольной лампой, что меня особенно поразило, так как на улице был яркий, солнечный зимний день. В глубине комнаты, за огромным столом, заваленным какими-то папками с бумагами, сидел седой и смертельно усталый человек. Даже меня, девчонку, поразило его землисто-серое лицо. Он разговаривал со мной очень уважительно и дружески, особенно когда узнал, что я пришла к нему по собственной инициативе и без ведома родителей (этот вопрос его почему-то особенно интересовал). Ни моей фамилии, ни адреса он у меня не спросил. Узнав, в чем дело, он нажал на кнопку и попросил вошедшего секретаря что-то ему принести. Буквально через минуту ему принесли толстую книгу с алфавитом, он открыл ее на букве „Д“ и сообщил мне, что дочери майора Даньшина отправлены в детский дом в Днепропетровске. Адрес этого детского дома был ему неизвестен. Я очень горячо и страстно стала объяснять ему мои соображения о полной и абсолютной невиновности Даньшина. Внимательно выслушав меня, человек за столом как-то тяжело вздохнул и начал успокаивать меня, обещая, что во всем разберется и справедливость будет восстановлена. Я ушла от него, довольная выполненным долгом, но почему-то слабо уверенная в том, что справедливость действительно восторжествует… Через какое-то время стало известно (по слухам, конечно), что Даньшина расстреляли. Кто-то сообщил мне адрес детского дома, помнится, я писала туда, но ответа не получила. О своем походе в НКВД я никогда никому не рассказывала» («По старым адресам», с.34).
Да, в то время и у детей были такие тайны, о которых они не говорили никому или только самым-самым близким. Такой самой близкой была для мамы Нэлла Рубинштейн. Вот строки из маминых воспоминаний о Нэлле:
«В 1937 году у Нэллы арестовали отца. Она очень переживала этот арест, потому что любила и жалела отца. Через год или два отец вернулся. По-видимому, он попал в число тех счастливчиков, которых выпустили, когда пришел к власти Берия. Они жили в то время в одной маленькой комнатке (их уплотнили после ареста отца), и отец, думая, что Нэлла спит, рассказывал матери, как его били, и как следователь сказал: „Я из тебя мешок костей сделаю!“. Нэлла не спала. На другой день она рассказала обо всем мне (кажется, больше никому). И мы с ней бросились искать место, где можно было бы поговорить об этом. Мы выбрали площадь Дзержинского, там мы чувствовали себя защищенными огромным, хорошо просматривающимся пространством. Мы ходили по этой необъятной черной площади много дней, вернее вечеров, не в силах закончить этот разговор, не в силах смириться с тем, что узнали. Я много думала о том, как тяжко было Нэлле услышать этот, не предназначавшийся ей рассказ» («Только для друзей», с. 47).
Мама всегда скептически относилась к словам людей, которые утверждали, что узнали о репрессиях только из доклада Хрущева на ХХ съезде партии и говорила, что если она, в свои 13 лет, уже прекрасно понимала, что творится в стране, то как могли не знать этого взрослые, зрелые люди. Наверное, она права, но я все же думаю, что большую роль в ее прозрении сыграла среда, в которой она росла – семья, друзья-одноклассники, Рахиль Лазаревна.
«Мы были учениками Рахиль Лазаревны в жестокий век, лозунгами которого были: „Кто не с нами, тот против нас“, „Если враг не сдается, его уничтожают“, а героями – Павлики Морозовы. В нашем классе было немало учеников, чьи родители были объявлены „врагами народа“ и уничтожены в сталинской мясорубке. Таким страшным образом сама судьба дала Р.Л. возможность, проявив высокое мужество, показать нам пример человеколюбия по отношению к тем ученикам, родители которых стали жертвами репрессий» (Валера Дамье, Леня Шор «Только для друзей»).
Конечно, Рахиль Лазаревна ничего не могла сказать ученикам прямо, но дети этих страшных лет быстро научались считывать все, что нужно из интонаций, жестов, выражения лица и поступков.
Прямо же говорить о терроре позволяли себе немногие, даже в семье, но такие были, например, семья маминой одноклассницы Вали Кругляк. Вот что пишет она в своих воспоминаниях:
«Мне на судьбу грех жаловаться – родители мои не были репрессированы, их не терзали, не пытали, не убивали. Я не познала детских домов для детей «врагов народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями, но у нас в семье знали все, что происходило в стране, люто ненавидели бандитскую клику, так страшно истреблявшую миллионы неповинных людей, проклинали усатое чудовище, этого выродка рода человеческого. «Счастливое» детство! Что скажут о нем Майя Бродская, Володя Идин, Лен Рогозин, мои подруги по дому Рада Варшавская, Инна Селезнева? Они куда-то исчезли после ареста родителей. Мой папа был адвокатом, допущенным к «спец. делам», но его, как и других «допущенных», никуда не допускали. Суд был скорый, «революционный», не допускавший ни защиты, ни обжалования. Но слухи просачивались сквозь любые плотины страха. Так папа узнал о судьбе мужа своей сестры, талантливого инженера, молодого красавца дяди Коли, которого я обожала. Его истязали, вырвали ногти, сапогами размозжили половые органы – он умер во время пыток. В нашей семье готовились ко всему, исходя из того, что «сегодня ты, а завтра – я». Чемоданчики с теплой одеждой стояли в спальне наготове. Я смотрела на них с ужасом и думала: «Чем я лучше Рады или Майи?» (Валя Кругляк «По старым адресам»).
Нина Болотина вспоминает, как вскакивали по ночам ее родители от любого случайного шороха или стука.
Свой «чемоданчик» реальный или символический был наверняка и у бабушки. Представитель гнилой интеллигенции, брат в Америке, две сестры в Палестине, третья только недавно вернулась из буржуазной Германии… Есть чего опасаться. Бедность и скромный социальный статус спасли бабушку от наветов завистников, завидовать там было абсолютно нечему, но не всегда ведь брали по навету, могли взять и просто так, потому что запущенная машина требовала новых жизней. Не арестовали бабушку так же случайно, как случайно арестовали отца маминой дворовой подруги Ирочки Розенблюм, абсолютно далекого от политики литературоведа-пушкиниста, поглощенного изучением 19 века.
С дочерью своими опасениями бабушка не делилась и политических вопросов не обсуждала, но и не произносила в объяснение происходившему кошмару нелепых сказок типа: «Нет дыма без огня» или «Лес рубят, щепки летят» или чего-нибудь еще в том же духе.
Прямо и жестко, называя вещи своими именами, с мамой поговорил ее отец. Это было летом 1940 года. В этот учебный год Диме исполнилось 15 лет, и она вступила в комсомол. Отец был очень недоволен этим. Писать сразу о своей реакции он не стал, но когда летом он повез обоих своих детей, маму и Игоря, на юг, высказал ей свою точку зрения и на эту организацию, и вообще на политическую ситуацию в стране открытым текстом.
(окончание следует)