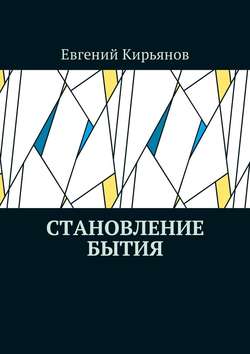Читать книгу Становление бытия - Евгений Михайлович Кирьянов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ 1. ЗНАК
О ВРЕМЕННОМ КОНТИНУУМЕ
ОглавлениеМы теперь рассмотрим предмет, который может иметь фундаментальное значение для анализа сакраментальных событий в их временной определённости. Причина такой значимости этой темы очевидна. Время, в многообразии выражения устойчивого философского интереса к нему, является традиционной проблемой для осмысления и осознания его природы. Мы рассмотрим одну из главных связанных с временем проблем – выявления структуры его протяжённости. Разумеется, мы не можем претендовать на полноту освещения этой проблемы, но ограничимся теми возможностями, которые обеспечатся нашим пониманием вопроса с включением в его рассмотрение и спекулятивных ресурсов нашего мышления.
Мы будем априори исходить из предположения, что специфика структурирования времени в нашем его осознании есть фиксация в нём именно онтологической природы времени. Собственно говоря, у нас и нет иных перспектив, поскольку время осознаётся нами в своей независимости от причастности к любой конкретности в многообразии сущих, но и в возможности постижения в его восприятии в чистой от них отстранённости. Этот факт выражается в универсальности его осознания с непривязанностью к таковой причастности. Таким образом, время в нашем осознании несёт в себе фактор полноты онтологической значимости.
Традиционно представление о времени связано с фактом его протяжённости. Но конструирование осознания образа чистого времени в мышлении всегда связано с неизбежно сопровождающим таковое конструирование подозрением, что структура интервалов его протяжённости зависит от того, насколько этот интервал отнесён далеко от настоящего момента. Впрочем, этот факт никогда не рассматривался как значимый, и временная прямая как образ чистого времени в его осмыслении всегда полагалась однородной в её структурировании. Но это существенно не так. Ведь автоматическое перенесение структурированности однородного континуума времени при рассмотрении его в временных интервалах, непосредственно примыкающих к настоящему моменту, не соответствует самой фактуре восприятия связанных временем реальных для нас событий как в прошлом, так и в будущем. Мы обычно игнорируем при анализе структуры времени, что присдвиге рассматриваемого интервала времени сам факт констатации темпорального соотношения событий претерпевает тем большее обеднение в конкретике этого соотношения, чем дальше мы относим временной интервал. Такой феномен всегда интерпретируется как малозначимый эффект субъективного проявления особенности памяти осознающего субъекта. И действительно, каждый субъект имеет свою меру забывания происшедшего в прошлом и свою меру предвидения будущего, но верно одно – общая для всех такая тенденция. При этом нас не должно вводить в заблуждение придающее этому качеству видимость тривиального объяснение подобной «забывчивости». Ведь она носит универсальный характер и выражает общее свойство представления чистого времени. Здесь надо пояснить, что именно это пренебрегаемое качество временной протяжённости, как правило, не переносится именно в конструируемый образ чистого времени в его отвлечении от вещной конкретики. Как если бы субъектом в принципе не претерпевались изменения при отодвигании прошлого в его памяти, но разве только во всех частных событиях в конкретных сущих. Мы же постулируем это качество времени как его собственное универсальное свойство. Снятие мысленного образа структурного качества временного континуума фиксирует в сознании факт всё меньшего действия модуса различительности между моментами времени, сопряжение которых в предположительном их соотнесении в бывшем «настоящем» осознавалось в существенно большей различительности. Таким образом, во временном континууме образы бывших событий претерпевают тенденцию к слиянию и неразличительности. В образной интерпретации имеет место «сжатие континуума», когда в отстранённом осознании такого процесса как бы сокращается временной интервал между уходящими в прошлое событиями.
И вот что важно: такое сжатие осуществляет сокращение до внутренне переживаемого конечным момента, парадоксальным образом находящегося в бесконечно удалённом прошлом. Это есть что-то вроде всё более быстрого действия времени в приложении к однородному в традиционном представлении временному расположению событий в континууме. Аналогичным образом происходит и процесс погружения в осознание времени в уходе мысли в будущее. Там тоже есть точка последнего момента. Причём прошлое для всех имеет модус осуществлённости в рождении личной осознанности, а будущее в прекращении. Для каждого же это есть онтологически актуальная исполненность судьбы Космоса от его начала до его конца.
Структура времени такова, какова она есть. Если бы для расположения во временном континууме не было априорных структурных предпосылок, как бы могла последовательность событий найти такое осуществление во времени? Непосредственное переживание субъектом событий только выявляет независимую от него структуру умопостигаемого чистого времени. Когда я говорю о конечном моменте, то не имею в виду некий конкретный момент времени, но только момент завершённости времени в ретроспективе осознания его в рефлексии. Мысль о полноте этой завершённости не распространяется в бесконечность в прошлом. Это трансцендентный момент. Это то, за что мысль не уходит, скользя в прошлое. Ведь человек не может отследить мыслью потенциальную бесконечность, не имея в себе потенциала для осознания таковой в актуальной рефлексии. Но он парадоксальным образом опознаёт её реализацию в снятии смысла в интегрирующем диалектическом акте. Это интуиция о «схлопывании времени».
И это есть отождествляющий прообраз и всех частных судеб самосознающих сущих. Каждое из них осуществляет свою судьбу в одном и том же эоне. С его начала в бесконечно-удалённом прошлом до его конца в бесконечно-удалённом будущем.
Частная судьба каждого индивидуума находится в отождествлении с прообразной судьбой универсального самосознающего Принципа. В этом есть модус синхронистичности. Судьба индивидуума есть отражение судьбы универсального принципа любого субъекта, проходящего весь путь участия в событийности общего для всех эона. Рождение каждого совпадает с началом бесконечно-удалённого прошлого, а уход – с бесконечноудалённым моментом будущего. Прообразная структура временного континуума по факту своей нарастающей (при уходе в начало бесконечных прошлого и конец будущего) неразличительности включает все возможные развития судеб частных индивидуумов. И таким образом моменты рождения и ухода, и сами будучи не вполне различительны, совпадают с началом и концом общего эона.
Вопрос же о том, бесконечен такой эон или нет, можно оставить навсегда неактуальным, если усвоить в умопостигании образ описанной временной структуры в синтезирующей простоте единства смысла.
Здесь мы сделаем небольшое отступление, вспомнив первую антиномию Канта. В нашем рассмотрении мы имеем начальный момент отсчёта времени в бесконечно-протяжённом континууме.
Объединив в общности начало эона с фактом его бесконечности в прошлом в превышающей простоте неразличительности, мы имеем перспективу непротиворечивого разрешения этой антиномии.
Сама же неразличительность выражает собою наличие перспективы сворачивания эона в бесконечно-удалённый, но финитный в себе момент. Тем самым и может осуществиться «схлопывание» времени. Но здесь нам предстоит обдумать этот сакраментальный момент. Нам предстоит осмыслить «место» настоящего момента при схлопывании временного континуума.
Также надлежит понять возможность существования иных эонов и возможность их соотносимости.
Следует немного ещё пояснить, что именно мы имеем в виду, когда говорим о структуре временного континуума. Здесь мы приведём пример для сравнения. Если рассматривать расположенные в пространстве одинаковые предметы, то согласно законам перспективы более удалённые из них будут восприниматься как имеющие меньшие размеры, а форма этих предметов будет зрением восприниматься разной в зависимости от расположения этих предметов. Наш опыт позволяет нам отдавать себе отчёт в том, что подобное различие обусловлено фактором зависимости размеров и форм от расположения предметов. Но мы можем убедиться в том, что такое представление иллюзорно. Мы даже можем утверждать, что всякое восприятие предмета в пространстве иллюзорно при любом способе его представления. Иначе дело обстоит с временем. При всём том, что имеет место некоторая аналогия при рассмотрении пространства и времени, ситуации кардинально отличаются. Уходя в прошлое, события претерпевают изменения в своих связях и отношениях. Разумеется, такое явление получает банальное объяснение забыванием при темпоральном перемещении событий в прошлое. Но в этом случае мы профанируем процесс изменений в памяти. Такая профанация обеспечивается привычными представлениями о природе этих изменений. Но существенно то, что осознание времени априорно. Этот факт позволяет интерпретировать изменения в представлении об уходящих в прошлое событиях как то, что не иллюзорно или условно, но имеет онтологическую значимость. Разумеется, априорность чистого времени в контексте уложения событий во временном континууме такова лишь в меру её связанности со спецификой субъектной осуществлённости осознающего сущего. Так или иначе, мы можем решиться на связывание в аналогии ситуаций реализации событий в пространстве и времени. С той существенной разницей, что в случае со временем наша модель приобретает онтологическое наполнение. Мы постулируем, что осознание чистого времени есть факт его осознания субъектом и имеет место в связи с единством субстанции осознания.
Субъект, разумеется, созерцает самого себя во времени, но он и рефлектирует на чистое время. Субъект находит себя в нём. В этом состоит вырожденность феноменологического момента статуса чистого времени. Ведь феноменологическая предъявленность сущего содержит в себе момент рефлексии и оформление сущего в чтойности. Чистое время присутствует в поле субъектности в модусе созерцания субъектом себя во времени, но и осознания чистого времени в рефлексии на него. А единство субстанции осознаия означает тождественность чистого времени в присутствии его как формы созерцания и чистого времени в данности его в качестве «вырожденного» феномена в рефлексии.
Таким образом, субъект конституирует разворачивание своей включённости в событийный временной поток в структурной привязанности к онтологически значимой категории – времени. Субъект гипостазирует в переживании настоящего момента весь временной континуум с включением прошлого и настоящего. В этом континууме прошлое возвращается в хаос, а будущее ищет осуществление в потенциале хаоса. И этот факт отражается в неоднородности временного континуума.
Тезис:
«Онтология времени как субстанции осознания такова, что субъект властен над прошлым и может возвратить ему неограниченную пластичность хаоса своим осознанием. И полнота всевозможностей возвращается прошлому через осознанное покаяние в любой момент настоящего. Прошлое можно изменять…»
Именно так. Временной континуум имеет три качества. Он есть – «Время для субъекта», «Время для себя (в себе)» и ««Время для себя» для субъекта». Первое качество вписывает субъект в феноменологическую темпоральность. Второе гипостазирует весь временной континуум, конституируемый в сознании в настоящий момент, в субстанциальной консистентности. Третье качество придаёт экзистенции субъекта эсхатологическое измерение в онтологической перспективе.
Отодвигаясь в прошлое, события «запутываются» в неопределённость своего следования во времени и неопределённость взаимного переплетения и связей. Запутывается и контекст событий.
Первое качество фиксирует онтологическую значимость только настоящего момента внутри временного континуума. При этом фактически отрицается таковая для всего, что составляет совокупность ушедшего в прошлое в сознании субъекта. И для этого есть видимые основания в аксиологической доминанте в выборе актуально значимого для субъекта. «Искажённое» прошлое в восприятии его субъектом полагает такое прошлое почти иллюзорным. Но тогда остаётся открытым вопрос о том, как реализуется прошлое в своей бытийной присущности. Возникающая альтернатива при попытке ответить на этот вопрос обескураживает. Либо мы должны искать место, где прошлое в своих событиях обретается в полноте своей априорной идентичности без «искажения», либо должны признать, что его не только нет сейчас, но и никогда не было.
Мы должны признать, что единственной предпосылкой для определения причастности к бытию осознаваемого нами события является восприятие его в настоящий момент, когда в сознании фиксируется его «вот-присутствие». Но никакого иного способа такого свидетельства о прошлом и будущем нет, кроме вписывания его во временной континуум в третьем из вышеопределённых качеств. Ни в каком другом смысле прошлое и будущее не могут «вот-присутствовать». И тем самым прошлое и будущее полагаются в каждый настоящий момент в ретроспективе и перспективе растворения в хаосе. Можно утверждать, что это хаос поглощает прошлое. Но при этом возникает проблема, связанная с фактом осознания событийной рядоположенности в существенно специфическом видении конкретики этой событийности, порождённой субъективностью осознания. Но это обстоятельство не должно нас смущать. Субъекту присуще априорное представление (в силу его частной реализации в иерархии субъектности) о структуре временного континуума в универсальной общности с теми, кто осуществлён в том же качестве в сказанной иерархии.
Даже более того: мы можем утверждать, что все такие субъекты реализуют свою судьбу в одном и том же временном континууме, понимаемом как некий космически положенный эон. И это утверждение имеет своё основание в том, что онтологическая заданность такого эона в его универсальности не включает в себя меры оценок в актуальной различительности персональных «эонов» субъектов. В частности, и временных оценок. И мы ещё раз должны констатировать, что потенциал космической инерции, в которой выражается константность действия космических законов, почерпывается из хаоса. В этом память о том, что источником упорядоченного мира является хаос в действии своих манифестаций. И в такой ретроспективе нарушались и законы космической инерции в разрешении Новым Логосом парадоксальных положений и противоречий прежнего ЛОГОСА. Об этом уже писалось в «Возвращении туда-и-обратно». Но с точки зрения самого вышесказанного эона то, что не вмещается в инерционное видение мира в его следовании законам, имеет природу Ничто; и в сознании субъекта, который своим существом онтологически инспирирован только в настоящем, видение прошлого представляется иллюзорным и даже фантастическим. И такое видение формирует представление о неизбежности рождения из Ничто и возвращения во всё то же Ничто.
Итак, наша позиция состоит в утверждении того, что прошлое и будущее есть; и они присутствуют в настоящем «вот сейчас» именно в том представлении, которое обеспечивается феноменом памяти.
Но интуиция о Ничто отделяет его от хаоса только условно, поскольку она сама инициируется инерционностью своего основания в модусе космичности. Именно по причине невозможности усвоения в постижении смысловых коннотаций того, что находится за пределами космоса. В этом смысле Ничто есть воспринимаемый субъектом в негации, неопознанный им как таковой, хаос. В таком положении имеет место двойственность. Ограниченный самим Ничто временной континуум осознаётся как конечное образование, но в полагании его в ограничение хаосом с инициированием им структуры бесконечной протяжённости временной континуум сохраняет в себе содержание бесконечной протяжённости. Итак, континуум и ограничен, и бесконечно протяжён. Но таковое невозможно иначе, чем в осознании отсутствия для этого в его структуре необходимых различающих дефиниций. Парадоксальным образом такое положение возвращает нам возможность осознания эона в двойственности. Прошлое мы можем воспринимать как бесконечно-удалённый момент. Это позволяет постулировать существование отсчёта времени именно от такого момента.
И этот момент характеризуется неопознанностью его «места» в временном континууме. Возникает подозрение, что начало отсчёта времени характеризуется двумя предположениями. Во-первых, оно должно быть связано с уникальным положением на временной прямой в осознании в рефлексии на структуру времени субъектом. Если, разумеется, таковое особенное место единственно. А во-вторых, мы должны заметить, что таковой отсчёт впервые полагает фактор осуществления событийности в онтологической актуальности. В силу только что сказанного этот момент может быть только настоящим моментом.
Таким образом, факт сакраментальности настоящего момента осуществляется в рефлексии на момент начала отсчёта времени и конец такого отсчёта. Итак, «схлопывание» времени и его развёртывание происходят в настоящий момент. И именно в акте трансцендентного снятия с образа временного континуума в настоящий момент. Любой настоящий момент.
Итак, то, к чему я пришёл в своих рассуждениях, истолковывает временной континуум как локально неоднородное образование. А есть ли оно цикл, это не отрицается мною, но и не утверждается. Прямая линия тоже есть частный случай цикла. Но если цикличность есть фундаментальный факт временной структуры, то цикличность должна быть тотальной и присутствовать в самой локальной структуре времени. Иначе эон частного субъекта не может совпадать с универсальным эоном. Я же полагаю мыслить чистое время в образе такого многообразия, где присутствует неоднородность принципиально. Скажем проще. Уходя в прошлое, события сгущаются и утрачивают модусы различительности в следовании своей событийной конкретике, причинности, фактической нетождественности. Проще говоря, «расплавляются в Хаосе». И это реальность. И в «третьем качестве» этот факт постулируется в онтологической значимости.
Всякое восприятие есть «работа» сознания с сущим. Само чистое время, будучи достоянием сознания в частной субъектности, не иллюзорно. Но иллюзорна его образная фактура при любой степени её адекватности.
Мы можем, исходя из наиболее универсальных и абстрактных посылок, сознавать в рефлексии на чистое сознание, что оно есть. А в акте возможного умозрения «такого рода» субъектом его констатировать присутствие в его образном оформлении модуса линейности. Но в ретроспективе прошлого и в будущем вопрос о линейности времени лишён смысла.
Осознаваемое в качестве ноумена чистое время участвует и в формировании фактуры частного осознания «такого рода» субъекта. И это не вещь в себе. Как таковое оно выражается в полноте своего онтологического статуса. Всякая же «образность» есть факт феноменологического представления ноумена. Но невозможно рассуждать о ноумене, не опустив его в феноменологию образности.
Выше мы писали о том, что прошлое есть манифестация Хаоса, но не Хаос. Здесь есть двойственность. Прошлое в определении онтологического статуса потенцирования неоднородности прошлого «вот сейчас» есть значимая презентация Хаоса. В осознании субъекта бесконечная протяжённость временного континуума растворяется в Хаосе. Но Хаос первичнее, и можно утверждать, что именно Хаос порождает свойство бесконечной протяжённости. И в этом состоит наследование временным континуумом бесконечной протяжённости.
И Хаос, и Ничто полагаются «после» бесконечной протяжённости. Но в позиционировании себя Эоном всё находящееся за пределами временного континуума есть Ничто во всех смыслах. Ведь Эон следует в себе только наличным законам, в которых осуществляется инерция Космоса в «этом» Логосе. Эон собою (в себе) не опознаёт в онтологическом статусе ни Хаос, ни Ничто.
Итак, бесконечная протяжённость присуща временному континууму, но не Хаосу или Ничто.
Мы, разумеется, обязаны отдать должное нашим предшественникам, и мы не можем игнорировать факт причастности феноменологической данности ноумену. При всей же строгости феноменологической концепции, в ней есть один изъян. Дело в том, что ноумен априори императивно дан вне проблемы какой-либо своей интерпретации. Он – «вот он». И никак иначе! И как таковой он «оформлен» в сознании. Принцип же этой оформленности определяется самим ноуменом и тем самым выражает факт «вырожденной» феноменологии. Мы можем изгаляться над ноуменом как угодно, вплоть до приписывания ему тождественности в феноменологическом выявлении в приемлемом для нас формате, но этим может только быть поставлен вопрос о том, какое отношение вообще может иметь такая причастность феноменологии к ноумену.
Нам не остаётся ничего другого, кроме постулирования принципиальной ограниченности и неполноты феноменологических данных. Такая феноменология не выявляет ноумен, но она и не посторонняя ему.
Но и наш ноумен есть достояние частности субъектного выявления. И ещё раз хочется подчеркнуть, что в пределах данной субъектности за ноуменом ничего не стоит такого, что не выявлялось бы в сознании как «вот он!». Таким образом, речь не идёт ни о какой вещи в себе.
Скорее мы можем говорить о том, что имеет место эскалация в редукции принципа субъектности, которая лежит в основании иерархии феноменологических данных.
Немного о структуре прошлого и будущего. В памяти сохраняются картины прошлого. Но вот вопрос: где взять подтверждение тому, что вспоминаемое есть воистину свидетельство о бывшем когда-то? Ответ тривиален: это свидетельство истинно. И это потому, что свидетельство о прошлом не присутствует нигде, кроме этих воспоминаний. Воспоминаний именно в настоящий момент. Но мы можем попробовать сделать уступку своему привычному представлению о природе прошлого и предположить, что во всей массе впечатлений о нём присутствует множество моментов, которые и представляются в тождественности бывшему когда-то. Это очень сильное допущение, но мы не можем в нашем анализе прошлого его игнорировать. Но что же мы помним? Мы помним наши субъективные впечатления о чём-то таком, что и полагаем бывшим. И уже здесь есть неопределённость. Ведь мы можем вспоминать и то, что можно назвать вторичным впечатлением, которое есть запомненное впечатление о том, что уже частично отложилось в нашей памяти. Впечатление от впечатления. Любая грёза, скользнувшая в нас случайная фантазия или случайно найденный завалявшийся старый предмет могут сделать вклад во впечатление об уже когда-то бывшем задолго до этого. И всё это вместе породит отнесение нового синтезированного впечатления в воспоминание. Даже сновидческая грёза может быть приложена к вновь вспоминаемому событию далёкого прошлого. И не только это. Наши грёзы и мечты о будущем, наши интуитивные предчувствия о нём ведь остаются в нашей памяти и через многие годы. И они, не сохраняя в себе указаний на своё место во временном континууме, формируют истинное прошлое. Повторим, что именно истинное! Ведь мы не можем оправдать никакого иного свидетельства о прошлом, кроме здесь и теперь заявленного. И из этого следует принципиальное отрицание формирования прошлого и будущего описанным только что образом. Никакого такого или иного формирования нет. Сознание сохраняет в себе модус восприятия прошлого как бывшего именно тем, чем оно представлено во всякий настоящий момент. То есть, в каждый настоящий момент осознаётся именно такое прошлое, каким оно и было в действительности. Таким образом, картины прошлого, которые нами осознаются теперь как истина, не просто не вполне соответствуют прошлому, но и сам этот вопрос не имеет смысла. И если мы хотим иметь своё подлинное прошлое, то мы должны смириться с мыслью, что оно есть в этом мире для нас только в описанной здесь данности. Мы не можем утверждать фатального смешения представлений о прошлых событиях, но мы не можем утверждать и обратного. Мы ведь созерцаем его только таким. Но важно то, что получив наше осознание в настоящем, наше прошлое только такое и есть. Прошлое и будущее, которые имеют долю друг в друге в общем смешении в настоящем.