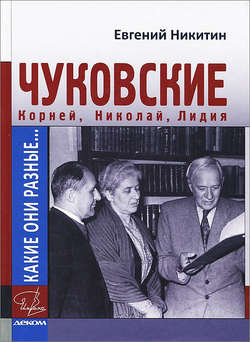Читать книгу Какие они разные… Корней, Николай, Лидия Чуковские - Евгений Никитин - Страница 6
Часть 1
Отец
Глава 2
Литературный критик
Альталена
ОглавлениеКак уже было сказано, на стезю профессиональной литературной деятельности Коле Корнейчукову помог встать его товарищ по гимназии Владимир (Зеев) Евгеньевич Жаботинский, который тогда уже был постоянным сотрудником «Одесских новостей».
Это событие – публикация в солидной газете – предопределило весь последующий жизненный путь молодого человека. Неудивительно, что благодарную память о друге Корней Иванович сохранил до конца своих дней. Весной 1965 года Чуковский написал преподавательнице из Иерусалима:
«Вы пробудили во мне слишком много воспоминаний, неведомая мне, но милая Рахиль! У меня в гимназии был товарищ Полинковский, у родителей которого снимал комнату некий велемудрый Равницкий, красивый человек средних лет, с золотой бородой, в очках – насколько я помню, золотых.
У Равницкого было множество старинных еврейских книг, и одно время к нему приходил приземистый человек самого обыкновенного вида, про которого говорили, будто он поэт и зовут его Бялик. Лицо у него было сумрачное, глаза озабоченные. Портфели были тогда мало распространены, и он приносил к Равницкому какие-то рукописи, завернутые в газету. Тогда я не знал, что поэты могут быть озабочены, хмуры, бедны, и, признаться, не совсем верил, что Бялик – поэт. Изредка к Полинковскому вместе со мною заходил наш общий приятель Владимир Евгеньевич Жаботинский, печатавший фельетоны в газете “Одесские Новости” под псевдонимом Altalena (по-итальянски: качели). Он втянул в газетную работу и меня, писал стихи, переводил итальянских поэтов… Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой и был уверен, что перед ним широкая литературная дорога. Но вот прогремел в Кишинёве погром. Володя Жаботинский изменился совершенно. Он стал изучать родной язык, порвал со своей прежней средой, вскоре перестал участвовать в общей прессе… и стал переводить Бялика».
В следующем письме к той же корреспондентке (июнь 1965 года) Чуковский продолжил свои воспоминания:
«Что касается друга моей юности – я считаю его перерождение вполне естественным. Пока он не столкнулся с жизнью, он был Altalena – что по-итальянски означает “качели”, он писал забавные романсы:
Жди меня гитана,
Ловкие колена
Об утесы склона
Я изранил в кровь.
Не страшна мне рана,
Не страшна измена,
Я умру без стона
За твою любовь (и т. д.).
В. Е. Жаботинский
Недаром его фельетоны в “Одесских новостях” назывались “Вскользь” – он скользил по жизни, упиваясь ее дарами, и, казалось, был создан для радостей, всегда праздничный, всегда обаятельный. Как-то пришел он в контору “Одесских новостей” и увидел на видном месте – икону. Оказалось, икону повесили перед подпиской, чтобы внушить подписчикам, что газета отнюдь не еврейская. Он снял свою маленькую круглую черную барашковую шапочку, откуда выбилась густая волна его черных волос, поглядел на икону и мгновенно сказал:
Вот висит у нас в конторе
Бог-спаситель, наш Христос.
Ты прочтешь в печальном взоре:
“Черт меня сюда занес!”
И вдруг преобразился: порвал с теми, с кем дружил, и сдружился с теми, кого чущдался. Остались у него два верных друга: журналист Поляков и студент-хирург Гинзбург[10], которого я впоследствии встречал в Москве.
Последний раз я видел Владимира в Лондоне в 1916 году. Он был в военной форме – весь поглощенный своими идеями – совершенно непохожий на того, каким я его знал в молодости. Сосредоточенный, хмурый – но обнял меня и весь вечер провел со мной».
Документальным свидетельством лондонской встречи является единственная запись Жаботинского в «Чукоккале», сделанная 26 февраля 1916 года:
«В память старой дружбы сунусь-ка и я – с суконным рылом в калашный ряд.
В. Жаботинский».
Кишиневский погром, который изменил жизнь, мироощущение Владимира Жабо-тинского, произошел в 1903 году. Погром начался в первый день православной Пасхи -6 апреля – и продолжался двое суток. Только на третий день на улицах города появились войска и полиция – погромщики тотчас разбежались. За два дня огромной бесчинствующей толпой (в Кишинев для разбоя съехались жители окрестных сел и местечек) было разгромлено и разграблено более полутора тысяч еврейских домов, квартир, магазинов и лавок. Погибло 49 человек (в том числе несколько младенцев), ранения и увечья получили 386 евреев. Главный врач Кишиневской еврейской больницы М. Б. Слуцкий на допросе, произведенным судебным следователем 19 апреля 1903 года, показал: «Почти все без исключения повреждения причинены тяжелыми и тупыми орудиями – дубинами, камнями, молотами и т. и. Огнестрельных ран вовсе не было. На некоторых трупах повреждения нанесены, по-видимому, острым орудием (топорами). Почти без исключения повреждена голова, к повреждениям головы присоединяются переломы костей, ребер, челюстей, тяжкие раны туловища; у одного слепого на один глаз выбит здоровый глаз».
Через несколько дней после трагедии в Кишинев приехал Бялик. Результатом поездки стало «Сказание о погроме». Его перевел на русский язык Жаботинский. Поэма начинается горькими, суровыми и в то же время торжественными словами:
…Встань, и пройди по городу погрома,
чтобы рука дотронулась, и очи
увидели повсюду – на стенах,
на камнях, и деревьях, и заборах —
засохший мозг и черствые комки
застывшей черной крови убиенных.
Прогрессивная общественность главным виновником кишиневской трагедии справедливо считала министра внутренних дел В. К. Плеве. Недовольство, возникавшее в низших слоях населения, власть специально направляла на иудеев, иноверцев, считая, что таким образом она спасает себя от народного гнева. Неудивительно, что еврейские погромы то и дело вспыхивали в различных местах Российской империи. Случались они и в Одессе. О бесчинствах 1871 года Корнейчуков и Жаботинский могли знать только по чьим-то рассказам. Сами же они стали свидетелями погрома, произошедшего в 1903 году. Его описал в своих воспоминаниях редактор «Одесского листка» Абрам Евгеньевич Кауфман:
«18 октября в Одессе получен был манифест о конституции. Христиане и евреи предавались ликованиям и поздравляли друг друга… Я лично наблюдал, как толпа, среди которой преобладали евреи, качала барона Каульбарса[11], поздравляя “погромщика в душе” с великим гражданским праздником. Барон Каульбарс благодарил за овацию, а в это время на окраине уже начались заранее подготовленные расправы с евреями. “Немножко рано началось!” – заявил тогда барон Каульбарс представителям администрации.
Избиения на улице скоро перешли в разгром домов и лавок, и полилась кровь. С искаженными от ужаса лицами евреи метались, ища спасения и попадая из огня в полымя. Временами гремели выстрелы: то расстреливали самооборону. На моих глазах, переодетый в штатское городовой подстрелил и растоптал ногами юношу, сопровождавшего на вокзал старую чету. Я видел целые подводы с изувеченными и убитыми и возы с осиротевшими детьми. Нигде октябрьский погром не отличался такой свирепостью, как в Одессе».
Но вернемся в 1901 год. 20 декабря Жаботинский (Altalena) под своей постоянной рубрикой «Вскользь» напечатал статью «О литературной критике». В ней говорилось:
«…Критика представляется мне, по нашему времени, бесполезным пережитком.
И, кроме того, я считаю ее даже вредной, так как теперешнее обилие критических статей только сбивает публику с толку, не давая ей понять, как именно должна она относиться к беллетристическим произведениям, и чего именно, по естественному смыслу нашего времени, должна в них искать.
Объяснюсь.
То время [ХIХ век. – Е. Н.] было временем выработки новых общественных взглядов.
Эстетические достоинства романа служили тогда только для того, чтобы книгу можно было легко прочесть. Но оценку и разбор вызывали в то время не эстетические достоинства книги, и даже не сама книга, – а те идеи, на которые наводили читателя рассказанные в книге явления».
Жаботинский называет эти идеи:
1) благоденствие народных масс должно быть главною заботою государства;
2) женщины должны обладать теми же правами, что и мужчины;
3) воспитание должно вырабатывать в ребенке твердый характер, а не приучать его плясать под чужую дудку.
В критических статьях прежнего времени делался разбор названных идей. «Вот почему, – утверждал Жаботинский, – критическая статья была в то время такой желанной и жданной подругой интеллигентного человека: ему нужна была идея, он болел идеями – и статья говорила ему об идеях.
Интеллигенция с тех пор умственно очень развилась. Я не говорю, что она теперь умнее тогдашней интеллигенции. Но она теперь давно, с детства, знает все, что мыслящим людям прежнего времени еще только нужно было открыть и изобресть.
А жизнь?
Жизнь не двинулась вперед ни на шаг.
Вот почему наша эпоха не требует новых общественных идей: нужные ей идеи преподаны нам уже много лет тому назад.
А если жизнь не будит в нас мышления, то не может будить его и беллетристика, изображающая эту самую старую жизнь… Я утверждаю, что никто из интеллигенции теперь абсолютно не в состоянии предаться мышлению по поводу прочтенного романа или прослушанной драмы».
Выступления в печати Жаботинскому показалось мало. Он считал, что рамки газетного фельетона не дали ему возможности высказаться о литературной критике во всей полноте, со всеми необходимыми пояснениями и доказательствами. На основе статьи Владимир Евгеньевич подготовил реферат, с которым выступил 17 января 1902 года в Литературно-артистическом обществе.
Чуковский, как бы предчувствуя, что скоро он станет профессиональным литературным критиком, одним из самых известных в России, подготовил письменный ответ своему другу. Ответ был зачитан в Литературно-артистическом обществе. «По мнению г. Чуковского, – сообщали в своем отчете “Одесские новости”, – докладчик самым непростительным образом смешал публицистику с критикой. Идеи, о которых г. Altalena упомянул в своем докладе, как, например, равноправие женщин, индивидуализация воспитания и пр. – все это нисколько не относится к литературной критике.
<…> Взявшись доказывать ненужность в настоящее время литературной критики, г. Altalena доказывает ненадобность публицистики, которая именно теперь и находится в апогее своего развития. Хотя, как утверждает докладчик, прикосновение анализа к настроению уничтожает это настроение, но на этом месте образуется вовсе не пустота; там остается обыкновенная идея, такая, к каким приучила нас литература, ибо настроение вовсе не противоположно идее – но только одна из форм, в которые последняя иногда облекается; выяснить эту идею, выразить ее в другой, более отчетливой форме – вот трудная, но благородная задача критики, имеющей дело с литературой настроения. А если это так, то в необходимости для нас литературной критики сомневаться невозможно».
Чуковский спорит с другом, но понимает, что по сравнению с Жабо-тинским он – невежда, и стремится при помощи чтения ликвидировать пробелы в знании. Корней Иванович берет книги у знакомых, посещает библиотеки, заходит к букинистам, роется в книжных развалах.
Торговля книгами в Одессе первоначально сосредотачивалась на толкучем рынке, обосновавшемся на Яловиковской площади. Там бок о бок стояли будки трех наиболее известных одесских букинистов – Елисея Распопова, Дмитрия Газиса и Родиона Гордукалова. Гордукалову пойти дальше толкучего рынка не удалось. Зато Газису Фортуна ласково улыбнулась. Он сумел открыть магазин на Троицкой улице. При магазине работала библиотека. Эти магазин и библиотека, по свидетельству Луки Алексеевича Чижикова, автора мемуарного очерка «Одесские букинисты» (Одесса, 1915), «занимали обширные и многочисленные помещения, которые были снизу до верху буквально набиты книжным добром в несчетном количестве». Еще большего успеха добился Распопов. Он стал, как утверждает Чижиков, «первейшим на юге России книгопродавцем». Был в Одессе еще один торговец книгами, к которому, наверняка, заглядывал Коля Корнейчуков, – «иудей Альберт», который любил книгу, как Ромео любил Джульетту, как Паоло – Францеску, обожал, как Дон Кихот Дульцинею Тобосскую.
10
К. И. Чуковский несколько исказил фамилию Матвея Марковича (Мееровича) Гинсберга, он, будучи врачом клиники 2-го Московского государственного университета, оперировал Корнея Ивановича по поводу грыжи.
11
Командующий войсками Одесского военного округа.