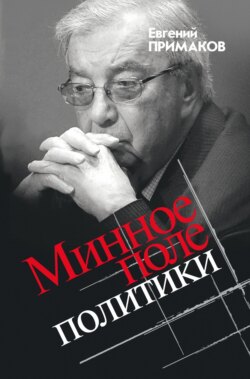Читать книгу Минное поле политики - Евгений Примаков - Страница 7
Глава II
Внесистемные диссиденты
Трудное избавление от догм
ОглавлениеУ нас и за рубежом много писали и до сих пор пишут о диссидентах, раскачавших советскую систему. Их имена хорошо известны. Это и Андрей Сахаров, и Александр Солженицын, и Мстислав Ростропович, и другие. Но они никогда не были частью системы. Они критиковали ее, боролись с ней, требовали ее ликвидации, – но все это «извне», даже в то время, когда некоторые из них еще жили в СССР, до своего вынужденного выезда из страны.
Хотя их мало упоминают, однако были и внутри системы люди (в том числе занимавшие далеко не низкие официальные посты), сотрудники научных учреждений, газет и журналов, которые выступали не только против преступной практики массовых репрессий, но и против господствовавших идеологических догм, нелепых, анахроничных представлений в области официальных теоретических постулатов. Мне повезло, так как жизнь свела со многими из таких людей, с некоторыми даже сдружила, а во «внутрисистемных диссидентских» учреждениях привелось работать много лет.
После XX съезда КПСС упор «внутрисистемные диссиденты» сделали на то, что Сталин извратил учение Ленина, создал нечто, противоречащее его идеалам, мыслям и установкам. Это выразилось и в массовых репрессиях, унесших миллионы жизней ни в чем не повинных людей, в варварских методах коллективизации, погубившей крестьянство. Но этим критика Сталина не ограничилась. Постепенно она начала распространяться на вопросы партийно-государственного строительства.
Еще в начале 1960-х годов, то есть задолго до перестройки, главный редактор газеты «Правда» академик Алексей Матвеевич Румянцев написал ко Дню печати, который отмечался в СССР 5 мая, статью о необходимости возвратиться к ленинским принципам: по его словам, при временном отказе от фракционности в партии возник дискуссионный «вакуум», и Ленин предполагал, а также предлагал заполнить его своеобразным двоецентрием – партийным комитетом и партийными газетами и журналами. В таких условиях партийная пресса призвана была критиковать не только нижестоящие организации, но и тот партийный комитет, печатным органом которого являлась. Поскольку «Правда» являлась органом ЦК КПСС, то газета правомочна критиковать и ЦК партии, и Политбюро, утверждал Румянцев. По тем временам это была ересь. Чем это могло обернуться – теперь известно.
К A. M. Румянцеву приехал заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК и от имени Суслова, руководившего в ту пору всем идеологическим направлением работы партии, предложил исключить из статьи самую ее сердцевину. Румянцев наотрез отказался и вообще снял статью, – я дежурил в типографии, и мы поспешно забивали образовавшуюся дыру на полосе другими материалами.
Румянцев был вовсе не рядовой партиец, поэтому он смог противостоять всемогущему Суслову.
Постепенно стало крепнуть второе направление объективного идеологического расшатывания существовавших порядков. Оно не только касалось «отступничества Сталина», а в той или иной форме признавало несоответствие реальности догматических постулатов марксизма-ленинизма.
Опять обращусь к примеру Румянцева, которому принадлежали две «двухподвальные» статьи об интеллигенции, наделавшие много шума в стране, так как он, отказавшись от схемы, отводившей центральное место в обществе пролетариату, показал истинную роль интеллигенции. Как было принято, гранки статей такого рода рассылались членам Политбюро, замечания которых надлежало учитывать. На статьи Румянцева комментарии поступили от одного из помощников генерального секретаря, на что Алексей Матвеевич отреагировал запиской в ЦК, в которой заявил, что, будучи членом выборного органа, не намерен получать замечания от партийных чиновников. Статьи были опубликованы, но ему этого не простили – через некоторое время Румянцев оказался в Академии наук, а в «Правду» пришел другой главный редактор.
Когда он уже был в Академии наук – а мы с ним жили в одном доме и по вечерам нередко гуляли вместе, – я много часов проговорил с этим честнейшим, прямолинейным, но несколько «зашоренным» человеком, которого уважал и любил.
Румянцев стал «внутрисистемным диссидентом», будучи шеф-редактором журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге, организованного ЦК КПСС, но при членстве в редколлегии представителей целого ряда компартий. Этот журнал превратился в своеобразный партийный «центр инакомыслия». В журнале работала плеяда людей, которые в 1970–1980-х годах заняли ведущие позиции в международном отделе и в отделе соцстран ЦК КПСС. Их активная деятельность постепенно, хоть и не последовательно – иначе в то время и быть не могло, – помогала приближать партию к реальному пониманию действительной, а не «марксистско-книжной» обстановки в мире.
Характерно, что в этом направлении эволюционировал и секретарь ЦК Юрий Владимирович Андропов. После своего перевода с поста посла СССР в Венгрии он окружил себя одаренными людьми, в основном выходцами из журнала «Проблемы мира и социализма», составив из них группу консультантов. Один из консультантов – Н. В. Шишлин – рассказывал мне, что сначала Андропов часто раздражался, а потом практически уже не мог обходиться без откровенных и достаточно острых «внутренних» дискуссий. С Андроповым работала в то время группа таких партийных интеллектуалов, как Г. А. Арбатов, Ф. М. Бурлацкий, А. Е. Бовин, Н. В. Шишлин и другие.
Второй мой приход в ИМЭМО состоялся после того, как, будучи корреспондентом «Правды» на Ближнем Востоке, я «умудрился» защитить докторскую диссертацию, тоже по экономике. Но защите предшествовали бурные события, которые чуть ли не выбили меня из седла.
После Шестидневной войны, закончившейся полным военным разгромом Египта, мы вместе с приехавшим ко мне в Каир членом редколлегии «Правды» Игорем Беляевым опубликовали несколько статей в журнале «За рубежом», в которых осмелились сказать, что страну к этому поражению привела египетская военная буржуазия. Такая констатация выбивалась из русла антиимпериалистического накала официальной советской пропаганды. Тот же Ульяновский, который, как я писал, сыграл весьма положительную роль в моей жизни, подтолкнув к защите кандидатской диссертации, на этот раз готов был сбить с ног и меня и Беляева. К этому времени он уже стал заместителем заведующего международным отделом ЦК КПСС. Человек этот не уставал поражать. Семнадцать лет он как «враг народа» находился в тюрьме и ссылке. Работавшие с ним до его ареста ученые вспоминали, как он в 1930-х годах громил троцкистов, бухаринцев – арестовывали и таких. Но главное, что вернулся Ульяновский, сохранив весь свой догматический багаж, накопленный до того времени, когда был арестован. Прочитав наши статьи, он написал записку в секретариат ЦК с требованием строжайше наказать «отступников» от марксизма-ленинизма и партийной линии.
Статьи показали Насеру, а тот в беседе с послом СССР подчеркнул, что они отражают египетскую реальность. Посол сообщил об этом в Москву. Тучи над нашими головами рассеялись.
Приехав в отпуск в Москву, мы с Беляевым рассказали о положении дел в Египте группе, состоящей из вице-президента Академии наук П. Н. Федосеева, A. M. Румянцева, Н. Н. Иноземцева и других, которые готовили материалы к очередному пленуму ЦК. Нас настойчиво уговаривали защитить докторские диссертации на тему о внутренних противоречиях в Египте.
Перед защитой я получил предложение от Иноземцева, в то время уже назначенного директором ИМЭМО, перейти на работу к нему первым заместителем. Аналогичное предложение мне сделал Г. Арбатов – директор нового, отпочковавшегося от ИМЭМО Института США и Канады. После защиты (Беляев защитился несколько позже) я поступил на работу в ИМЭМО.
В то время и Иноземцев, и Арбатов тесно сотрудничали с генеральным секретарем ЦК Л. И. Брежневым, участвовали в подготовке материалов пленумов, съездов партии, выступлений Брежнева. Между составителями этих материалов не было единства. «Прогрессистам», отстаивавшим необходимость отойти хотя бы от самых очевидных нежизненных догм, приблизиться к реальному пониманию действительности и внутри страны, и за ее пределами, противостояла сильная группа. Характерно, что и те и другие выходили на различных людей в высшем руководстве партии и сближались с ними. Тогда уже Иноземцев, например, с воодушевлением рассказывал мне, как отреагировал М. С. Горбачев – в то время один из секретарей ЦК – на замечания некоторых членов Политбюро, потребовавших исключить из готовившейся речи генерального секретаря ссылку на необходимость дать большую хозяйственную самостоятельность колхозам.
– «Если это не пройдет, – с восторгом пересказал Иноземцев слова Горбачева, – тогда народ сам все равно решит эту задачу».
Я понимал, что дискуссии в рабочих группах идут нешуточные и что они дают определенный простор для новых идей. Но Брежнев, который, по словам Иноземцева, был настроен на серьезную реформаторскую деятельность в партии и в обществе, изменился после 1968 года – так его испугала Пражская весна. А потом к этому прибавились недомогание и старческий склероз.
ИМЭМО был центром выработки новых идей, новых подходов, нового отношения к процессам, происходящим в мире. Да и занимал он особое место среди других академических институтов гуманитарного профиля по своей близости к практике, к структурам, вырабатывавшим политическую линию.
По-настоящему ИМЭМО расцвел в те годы, когда директором стал академик Николай Николаевич Иноземцев. Нас связывали, помимо служебных, дружеские и, что особенно важно, доверительные отношения. Это был несомненно выдающийся человек – образованный, интеллигентный, смелый, прошел всю войну офицером-артиллеристом, получив целый ряд боевых наград, и в то же время легкоранимый, главным образом тогда, когда приходилось решительно отбивать атаки своих личных противников, а таких было немало – злобных, завистливых.
Сегодня, с расстояния пройденных лет, трудно даже представить себе, какие идеи приходилось нам доказывать, пробивать через сопротивление ретроградов. Ну хотя бы такой курьезный случай из практики 1970-х годов. ИМЭМО всерьез занимался долгосрочными прогнозами развития мировой экономики. Различные сценарии публиковались в нашем журнале. Один из его читателей – отставной генерал НКВД – пожаловался в ЦК на то, что во всех этих сценариях, содержащих прогнозы до 2000 года, фигурирует «еще не отправленный на историческую свалку» капиталистический мир. Нас обвинили в ревизионизме, и пришлось по этому поводу писать объяснительную записку в отдел науки ЦК.
А сколько сил ушло, например, на то, чтобы доказать не совпадавшее с выводами Сталина положение о существовании целого ряда одинаковых закономерностей в отношении производства, независимо от того, где оно развивается – в социалистическом или капиталистическом обществе. А ведь противники этого совершенно очевидного положения практически захлопывали дверь перед опытом западных стран, который можно было бы использовать в СССР.
Этот полезный для нас опыт становился содержанием записок, направляемых руководству страны. Щедро снабжал ими ИМЭМО и рабочие группы при Брежневе, а во времена Горбачева прорывался с такими записками на самый верх. Но часто это происходило поистине в карикатурных формах. Уже в годы перестройки Н. И. Рыжков, тогдашний председатель Совета министров, понимая важность преобразования подшипниковой промышленности для развития отечественного машиностроения, собрал у себя широкое совещание производственников и ученых. Мы в ИМЭМО серьезно подготовились к этой встрече, изучив опыт Швеции, ФРГ. На совещании в Кремле предложили схему объединения нескольких десятков хромающих на обе ноги подшипниковых заводов в четырех научно-производственных структурах. В ту пору речь могла идти лишь о преобразованиях в рамках государственной собственности. Но, к удивлению многих присутствовавших, мы разъяснили, что все четыре объединения будут выпускать однотипную продукцию – так мы обеспечим конкуренцию. Тогда взял слово министр автомобильного транспорта и, обращаясь к председателю Совмина, сказал: «Я обещаю прорыв в подшипниковой области другим путем – мне нужен еще один заместитель министра».
Будучи умным человеком, Николай Иванович прервал заседание, сказав министру: «Вы явно не готовы к обсуждению». Но в Кремль по этому вопросу нас больше не вызывали…
Помню, как еще во времена Брежнева Иноземцев пригласил меня к себе домой поужинать. Он был явно взволнован. Сказал, что ему, тогда кандидату в члены ЦК КПСС, впервые предложили выступить на пленуме Центрального комитета. С трибуны пленума Иноземцев, говоря не по бумажке, что тогда считалось чуть ли не кощунством (ведь это речь на пленуме!), возразил против монополии на внешнюю торговлю даже не государства, а, как он справедливо сказал, Министерства внешней торговли СССР. Второй темой была необходимость целенаправленной работы для обеспечения наилучших результатов на прорывных направлениях научно-технического прогресса. Все бы ничего, но академик Иноземцев привел в этом отношении в пример капиталистическую Японию. Николай Николаевич был очень удручен, когда ему передали реплику одного из руководителей по поводу этого выступления: «Вы разве не видите, он нас пытается поучать!» А бессменный помощник нескольких генеральных секретарей, остроумный, едкий A. M. Александров-Агентов сказал Иноземцеву: «После вашего выступления стало ясно, что мы стоим перед дилеммой: либо нужно выводить из ЦК интеллигентов, либо делать ЦК интеллигентным».
Много шишек набил себе ИМЭМО, доказывая изменившийся характер капитализма. В штыки встречались догматиками, а они верховодили, во всяком случае в отделах науки и пропаганды ЦК КПСС, такие бесспорные положения, выдвигаемые сотрудниками ИМЭМО и некоторых других институтов, как способность современного капитализма добиваться серьезных успехов в экономическом регулировании на макро- и микроуровнях.
Это кажется ныне забавным, но ИМЭМО не без причины считал тогда одним из своих несомненных достижений то, что впервые было заявлено во всеуслышание о необратимости и объективном характере экономической интеграции в Западной Европе.
А опровержение ИМЭМО постулата о неизбежности абсолютного обнищания рабочего класса при капитализме! Ведь из этого постулата выводится постулат о неизбежности революции, свергавшей капиталистический строй.
Пожалуй, самым главным препятствием, мешавшим реальному представлению об окружавшей нас действительности, было отрицание конвергенции, то есть взаимовлияния двух систем – социалистической и капиталистической. Между тем в ряде работ ИМЭМО, например, отстаивался тезис о совместимости социализма с рынком, рыночными отношениями. Сама жизнь подталкивала к этому выводу.
Были и живые примеры, подтверждающие конвергенцию. В середине 1970-х годов я познакомился с В. В. Леонтьевым – одним из крупнейших американских экономистов, получившим всемирное признание за разработку и внедрение в экономическую практику США линейного программирования. Леонтьев в 1920-х годах работал в Госплане, в Москве. Будучи направленным в торгпредство в Берлин, стал «невозвращенцем», а затем переселился в Соединенные Штаты, где разработал свою теорию, в которой, в частности, смело и умно применил некоторые госплановские навыки и идеи.
В 1970-х он был гостем ИМЭМО, и Иноземцев пригласил его поужинать к себе домой. Незадолго до этого Ник Ник (так за глаза его многие называли в институте) въехал в шикарную квартиру – построили дом для членов Политбюро, но те в последний момент не захотели жить все вместе и отдали этот «нестандартный» дом Академии наук, которая распределила квартиры среди ученых. Леонтьев обошел все многочисленные «закоулки» – зимний сад, библиотеку, гардеробную, сервировочную комнату, холлы – и, прищурив глаз, спросил: «Николай Николаевич, вот смотрю и думаю: а может, мне и не стоило уезжать?»
Трудно было рассчитывать на то, что «старая гвардия» потеснится и уступит место тем, кто шел изнутри к обновлению системы. Противники ИМЭМО начали атаку на Иноземцева. Это было уже после того, как в 1977 году я стал директором Института востоковедения – тоже важного академического исследовательского центра, сопоставимого по размерам с ИМЭМО, но меньше связанного с выработкой политики и с хозяйственной практикой в СССР. Но, совершенно естественно, я, сохранив все связи с ИМЭМО, переживал за своих товарищей. Провокаторы пытались воспользоваться тем, что два молодых сотрудника этого института были арестованы по обвинению ни больше ни меньше как в сотрудничестве с западной разведкой (позже обвинение не подтвердилось и они были с извинениями освобождены), затем последовали доносы на самого Иноземцева, «создавшего такой климат в институте». В кампании против ИМЭМО активно участвовал член Политбюро и секретарь Московского комитета партии Гришин, а также отдел науки ЦК. Подробности мне рассказал Ник Ник, которого я посетил в больнице на Мичуринском проспекте – у него резко ухудшилось здоровье.
Узнав от Арбатова и Бовина о происходившем с Иноземцевым, Брежнев позвонил Гришину, и тот, будучи председателем специально созданной «по делу ИМЭМО» комиссии, не на шутку перепугавшись, на вопрос, что там делается с Иноземцевым и его институтом, ответил: «Ничего об этом не знаю, Леонид Ильич, разберусь незамедлительно». Это означало конец открытой атаки. Противники нового затаились… А Н. Н. Иноземцев в 1982 году скончался от сердечного приступа. После него три года директором ИМЭМО был А. Н. Яковлев.
Нельзя не сказать и о том, что в самые застойные годы настоящим «островом свободомыслия» была Академия наук СССР. Парадокс заключался в том, что преобладающая часть ученых-естественников, а они задавали тон в академии, была так или иначе, прямо или косвенно связана с «оборонкой». Казалось бы, эта среда меньше всего подходила для политического протеста, больше всего должна была бы способствовать подчинению диктуемой сверху дисциплине. А получилось совсем не так. Я был избран членом-корреспондентом АН СССР в 1974 году, а в 1979-м – академиком. Естественно, посещал все общие собрания, и на моих глазах часто разворачивались события, далеко не характерные для тех времен. Помню, как все руководство чуть ли не на ушах стояло, чтобы провести в академики заведующего отделом науки ЦК Трапезникова – одного из близких к Брежневу людей. На общем собрании академии его «прокатили».
Срабатывал синдром негативного отношения ученых к партийным и советским функционерам. Еще в члены-корреспонденты могли кое-кого пропустить, но в академики, как правило, нет. Вспоминаю общее собрание, на котором голосовалась в действительные члены АН СССР кандидатура члена-корреспондента, министра высшего образования Елютина. Известный физик академик Леонтович задал вопрос: «Что сделал Елютин за тот период, который его отделяет от членкорства, то есть за четыре года?» В ответ был приведен перечень работ, написанных претендентом и самостоятельно, и в соавторстве, и научным коллективом под его руководством. После этого академик Леонтович вышел на трибуну и сказал: «Если Елютин так много успел сделать по научной части, то, следовательно, он плохо работал министром – у него попросту на это не могло хватить времени. Или наоборот». В результате опять при тайном голосовании «прокатили».
Были и другие причины отказа в избрании. Помню, как при обсуждении кандидатуры одного почтенного и достаточно известного юриста взял слово академик Глушко, один из крупнейших конструкторов-ракетчиков, и зачитал несколько выдержек из работ претендента, где тот высказывался в пользу так называемой презумпции виновности, то есть достаточности самопризнания для обвинения. Академик Глушко спросил, где работал соискатель в 1937 году. Последовавший ответ – в Центральной прокуратуре – был достаточным. Проявилась неприязнь, а у кого и ненависть к тем, кто так или иначе ассоциировался с массовыми репрессиями, которые не обошли и очень многих ученых, конструкторов, увешанных теперь орденами, тех, кто сидел в зале и голосовал.
Характерна и эпопея с А. Д. Сахаровым. Несмотря на то что некоторые коллеги подписались под осуждающим его письмом в «Правду», при всем давлении сверху ни разу даже не пытались поставить вопрос об исключении Сахарова из академии. Не было никаких сомнений, что тайное голосование по этому вопросу с треском бы провалилось.
Президент академии М. В. Келдыш сказал нам, нескольким членам академии, которых он пригласил для составления ответа американским ученым, выразившим протест против гонений на Сахарова: «Вы, пожалуйста, не переусердствуйте. Сахаров – крупнейший ученый и сделал очень много для страны». Академик Келдыш, а он мог себе это позволить, возмущенно говорил о том, что с Сахаровым высшие руководители партии и государства вообще не встречались.
Когда уже при Горбачеве Сахаров вернулся в Москву из своего вынужденного пребывания в Нижнем Новгороде (тогда город Горький), все в академии вздохнули с глубоким облегчением.