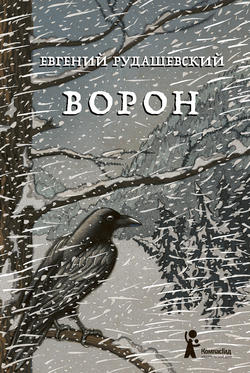Читать книгу Ворон - Евгений Рудашевский - Страница 4
Ворон
Глава вторая
Оглавление– Да всякие тут бывают, – протянул Витя.
Дима, подперев щёку, нехотя допивал чай. Он не привык вставать потемну, когда небо ещё не высветилось ни единым отблеском зари. Ленивое тело было залито свинцом. Чтобы скрыть зевоту, приходилось до боли стискивать зубы, отчего в ушах шумела вьюга.
– Я тут и рысь встречал, и кабаргу, – Витя ладонью приглаживал взъерошенные после сна волосы. – Рысь так вообще близко подходила.
– Ладно заливать, – хмыкнул Артёмыч, смоливший лыжи и полозья санок. – Рысь он видел, ага. Ещё тигр, скажи, с Амура к тебе забегал.
– А чего ты? Рысь как рысь. – Витя продолжал говорить Диме, на Артёмыча даже не смотрел, привык к его шутливому ворчанию. – Она знаешь какая?
Дима качнул головой.
– Мягкая такая, с голубеньким отливом. Красивая, – мечтательно улыбнулся охотник и тут же добавил: – А как заголосит, так лучше б молчала. Голосок у неё мерзкий. Она, знаешь, так – не кричит, а больше икает, причём истерично, громко. А потом, как наикается, начинает хрюкать – давится, будто грызёт что-то, и прихрюкивает. Если не знаешь, никогда не подумаешь, что рысь.
Артёмыч, всё это время кряхтевший от сдавленного смеха, не выдержал и расхохотался в голос:
– Во даёт! Слышь, Николаич, рысь ему тут то хрюкала, то икала!
Николай Николаевич даже не посмотрел на Артёмыча, будто и не слышал его.
– Да я так, образно это… – тихо оправдался Витя, потом громче добавил: – Виноват я, что ли, что голос у неё такой?
– Не слушай его. – Артёмыч подмигнул Диме. – Он тебе тут такой пурги нанесёт, только уши открывай.
– Да говорят тебе! – нахмурился Витя. Решил изобразить голос повстречавшейся ему рыси.
Подбоченившись, он и в самом деле стал икать, но звук получился какой-то ослиный. Артёмыч, начавший что-то говорить, запнулся, скривил губы, потом зашёлся в хохоте – так, что лыжи повываливались у него из рук. Витя, недовольный своей попыткой, стал икать ещё громче.
Юноша сдерживал улыбку. Ему было обидно за Витю. Он верил ему и хотел побольше услышать про рысь и других животных тайги. Николай Николаевич, повидавший ещё больше зверья, редко рассказывал о них. Впрочем, у Димы раньше не было возможности нормально пообщаться с дядей. Приезжая в гости, тот запирался с папой на кухне, откуда доносились лишь приглушённые голоса, такой разговор и не подслушаешь. С племянником Николай Николаевич говорил коротко и по делу – даже этим летом, когда они целую неделю провели вместе.
Витя, живший в Ангарске и работавший сторожем на овощной базе, был пухлый, почти толстый. Когда он улыбался, его лицо становилось совсем круглым. Артёмыч, пошучивая, говорил, что у Вити «морда такая, на тракторе не объедешь». Однако полнота не мешала ему охотиться и ходить на лыжах.
Дима только вчера с удивлением узнал, что раньше Витя работал учителем музыки и до сих пор давал частные уроки игры на фортепьяно. Никто толком не объяснил юноше, почему охотник уволился из музыкальной школы. Сам он промолвил только, что устал от суеты, от детей, что сторожем в его возрасте работать спокойнее.
Заливистый, лающий смех Артёмыча перекрывал все оправдания Вити, и тот наконец умолк, а потом и сам рассмеялся. Обеспокоившись, залаяла Тамга. Она не понимала, что происходит и чем вызван переполох. Наконец и Дима не сдержался. Лишь Николай Николаевич оставался спокоен, с безразличием поглядывал на хохочущих друзей.
Вскоре веселье для Димы сменилось огорчением. Дядя сказал ему, что и в этот день охоты на соболя не предвидится. Охотники ненадолго выйдут в лес, чтобы проверить соболиные следы, а весь день будут заготавливать дрова и готовить капканы.
Юноша окончательно расстроился, узнав, что его даже не возьмут в тайгу на разведку. Дядя наказал ему вымести зимовье от всякого сора и поработать лопатой – высвободить заметённое сугробом окно.
С веником в руках Дима вышел на крыльцо. Провожал охотников и завидовал лайке – её, конечно, никогда в доме не оставят.
Николай Николаевич указывал путь, но не всегда шагал впереди – тропить твёрдый снег было нелегко, и мужчины сменяли друг друга. Тамга бежала рядом с хозяином, принюхивалась, оставляла за собой извитый пунктир следов.
К январю в этих краях снега выпадет ещё больше, тогда уж с собакой поохотиться не удастся: утопая в сугробах, она не сможет преследовать зверьков. Останется только расставлять плашки и капканы или уходить севернее, к плоскогорью, где глубоких заструг[6] никогда не бывает.
В одиночестве в сумрачной избушке, в окружении дикой тайги, где бродят голодные волки и рыси, Диме стало не по себе. Страх был мимолётным, отступил, едва Дима принялся мести пол, но юноша не захотел его отпускать, решил потешиться им и так прогнать скучное время. Представлял, что буран уводит охотников к погибели, что их встречает разъярённый шатун. Их безжизненные, изодранные медведем тела погребены под снегом, и Дима остаётся один – неопытный четырнадцатилетний подросток посреди опасной чащобы.
Он раззадоривал себя такими мыслями, чувствовал, как страх холодит грудь, и радовался этому. Будет что рассказать Сашке и Кристине. Пока они листают учебники, корпят над домашним заданием, он выживает в лесу. Из разведки вернулась лишь Тамга. Раненая, но живая. Дима вылечил её, затем начал охотиться с ней на соболя – не сидеть же без дела! Повстречал злобно икающую рысь и медведя, убившего охотников. Тот узнал вкус человеческого мяса и захотел добавки. Дима убежал от него, а потом заманил в ловушку. Насадил на острые колья и умертвил выстрелом из ружья. Нет, ударом топора! Пробил ему макушку и – «Headshot!». Сделал на память ожерелье из когтей и клыков. Снял с медведя шкуру. Высушил её и стал носить вместо маскировочной накидки. Теперь уж ни один хищник не решится к нему подойти. Он стал хозяином тайги, настоящим мужчиной. Мама не узнает его. И да, перед смертью медведь успеет полоснуть его когтями по лицу – оставит три шрама, рассекающие бровь и щёку. Друзья, увидев его, побледнеют: Сашка – от зависти, Кристина – от восторга, Артём – от ужаса.
Дима вновь и вновь повторял эти сцены, выжимал из них последние капли страха, наслаждался ими, смаковал их. Под конец добавил схватку с рысью и волком, нет – со стаей волков, окруживших его в чащобе и скаливших белоснежные клыки.
Юноша убирался с особенным рвением, надеялся на похвалу от дяди. Даже протёр пыль на полках, смёл с них целое полчище засохших жуков и мотков паутины. Заодно внимательнее рассмотрел детали охотничьего быта.
На подоконнике и просто по углам ворохом лежали старые консервные банки со множеством пробитых отверстий, мятые кружки, кассетный магнитофон «Весна» и поломанные кассеты, из которых свешивались потроха чёрных лент. Коробки от молока с сушёными грибами и закаменевшими ирисками, ржавые бритвенные станки и мятые помазки, жёлтые огарки свечей, железки разных изгибов и размеров, баночки с гвоздями и даже запылённый одеколон «Новая заря» – всё это выдавало долгую жизнь зимовья, в котором охотники собирались в разные сезоны, и не только для пушного промысла.
Юношу развеселили два выцветших плаката. Один – с «Ладой-1300». Другой – с полуобнажённой девушкой на берегу моря, в окружении пальм. Он с сожалением подумал, что не взял сюда какой-нибудь из своих футбольных постеров с Зинедином Зиданом; можно было бы оставить тут о себе память.
Охотники вернулись к полудню. Дима закусил губу, узнав, что первый выстрел прошёл без него. Николай Николаевич подстрелил изюбра. Тот по неосторожности вышел ему навстречу, и это было большой удачей. Обычно изюбры пугливы и отследить их сложнее, чем того же лося. Охотники освежевали его на месте, к зимовью привезли только куски мяса и потроха. Мордочка Тамги была перемазана кровью – ей дали порезвиться над свежей тушей, в крови были и санки.
Ещё больше Дима расстроился, когда дядя отругал его за уборку – узнал, что племянник весь наметённый сор вытряхивал в печку:
– Балбес ты, парень! Головным мозгом думать-то надо.
Оказалось, что сор из зимовья выбрасывают наружу: в нём могут затеряться мелкокалиберные патроны. Печка от такого топлива растрескается.
Обижаться на дядю было некогда. В этот день ещё оставалось много забот.
Витя и Артёмыч занимались капканами. Старые капканы нужно было очистить от ржавчины, новые – от заводской смазки. Затем предстояло кипятить их в еловом настое, чтобы прогнать лишние запахи.
– Соболь, он такой, сразу чует человеческую руку, – приговаривал Артёмыч.
Дима с интересом наблюдал за его работой, старался не упустить ни одной детали. Рассматривал капканы; каждый из них был чуть больше ладони. Помогал связывать их в гроздья и опускать в кипящую воду. В зимовье пахло свежим жарким лесом.
Увлечённый этим таинством, Дима позабыл все обиды. Наконец началось его обучение охотничьему ремеслу. В школе о таком не расскажут. «Это вам не дроби высчитывать», – улыбнулся юноша, наблюдая за тем, как Витя напильником стёсывает с дуг заусенцы, пальцем проверяет чуткость спусковой ложечки.
– Важно как? – объяснял он Диме. – Если слабо присобачить, то соболь подёргает да высвободится. Дело такое. А если ему сильно шмякнет, так лапку перебьёт, а соболь не дурак, отгрызёт её, в капкане оставит да сбежит. Да, такое бывает. И трёхногих соболей ловят. Живут себе и без лапки.
Дима улыбнулся, представив, как колченогий зверёк вразвалку убегает из западни. Покосился на Артёмыча, ожидая, что он будет насмехаться над Витей, но Артёмыч молчал.
– Это всё любители, – продолжал Витя. – Понакупают капканов, а как их правильно насторожить, и не знают.
Юноша молча кивал. Уж его-то после этого промысла любителем никто не назовёт.
Николай Николаевич тем временем разрезал мясо изюбра на куски. Несколько кусков отдал Артёмычу – на приманку для соболя. Артёмыч измельчил их на тонкие полосы, завернул в целлофановые пакеты и повесил в тёплом углу, чтобы приманка там дозревала.
– Холод выстужает все запахи, надо, чтобы мясо подтухло, – объяснил он Диме. – Чем сильнее запах, тем лучше.
– А как понять, что приманка готова?
– А так и понять! – рассмеялся охотник, расчёсывая шрам на голове. – Как завоняет тухлятиной, считай, дозрело. Потом его посолить и с потрохами в бидоны напихать. Проквасится там и – во! Лучше привады[7] не найти. Это тебе не на орехи с ягодой ловить.
Подумав, Артёмыч опять рассмеялся. Сквозь смех, давясь, сказал Диме, что некоторые охотники используют соболиные кал и мочу. Запах у них сильный и всегда привлекает зверьков:
– Так и ходят по лесу, значит, говнецо мороженое собирают, потом оттаивают его и лепят куличики. Веселуха, чего тут!
– Ну а что? – отозвался Витя. – На мочу не только соболя ловят. Вот оленей зимой на всё солёное тянет, так они на мочу за сотни метров идут – крепко чуют. А волки этим пользуются. Помочился на снег, а сам спрятался поблизости, так и караулит.
– Ну да, – хохотнул Артёмыч. Подмигнув Диме, заговорщицки прошептал: – Мочевая засада. Надо попробовать.
Остальное мясо изюбра охотники решили увезти домой и подготовили для обыгания – его нужно было высушить на солнце и подморозить. Для этого протянули верёвку от лиственницы, той самой, где сидел ворон, к зимовью. Привязали к ней куски мяса. Других забот оно не требовало.
– Пускай висит себе, никто его не тронет, – махнул рукой Николай Николаевич. – Собирайся, пойдём за дровами.
Охотники рассчитывали ещё днём привезти на санках пару хороших чурок, но их место тогда занял изюбр.
Витя остался в зимовье – покрывать капканы парафиновой плёнкой, чтобы они не индевели на холоде. Все остальные ушли в лес.
Дым из трубы изгибался коромыслом. Николай Николаевич, глядя на него, сказал, что завтра будет тепло. Удачное время для охоты на соболя. Дима обрадовался этому и, уходя к опушке, ещё несколько раз оборачивался посмотреть на печной дым, словно хотел отблагодарить его за хорошую примету. Обернувшись в последний раз, увидел кружившего над домом ворона.
«Неужели тот самый? – Юноша удивился его настойчивости. – Доиграется ведь, пристрелим. Чего он тут потерял?»
Ворон кружил плавно, беззвучно и о своих планах Диме рассказывать явно не собирался. «Ну и пусть».
В тайге дядя с Артёмычем подыскивали сухостой, а Дима с интересом высматривал живность. Её здесь было не так уж много. Должно быть, всех распугала задорная Тамга, перебегавшая от охотника к охотнику, лаявшая на любое движение в ветвях.
Вскоре юноша увидел на ели настоящего клеста. Тот беспокойно озирался, приподнимал скрещённый на концах клюв, цеплялся им за веточки, подтягивался, словно попугай, помогал себе лапками. Искал шишки. Чуть больше воробья, клёст был бы незаметен в пышной хвое, если б не его оранжевое оперение – светлое на брюшке и чуть более тёмное на голове. Приметив людей, он разразился недовольным «тр-ри, чи-чи-чи-чи» и юркнул на соседнюю ель, затем – ещё дальше, пока совсем не пропал из виду.
Заметил Дима и белку-летягу. Размером меньше простой белки, пушистая, подвижная, она прыгала с дерева на дерево, вытягивала лапки – расправляла меховую складку и планировала, на несколько мгновений превращаясь в настоящую птицу.
Дышалось легко, просторно. Жизнь казалась ясной, понятной. Все её противоречия и недомолвки остались там – в городе, среди людей, не знающих таёжной вольности, незнакомых с тяжестью ружья на плече.
Снег в лесу был разным. Порой ложился гладкой поляной, на которой тысячи бабочек выставили вверх свои хрустальные крылья. Иногда расходился белоснежным лабиринтом крохотных каналов. На прогалинах, под солнцем, он сжимался тоненькими, поднятыми наискось пиками. Но чаще собирался мятыми сугробами, на которых диковинным плетением угадывались звериные следы.
За скрипом снега не было слышно прочих звуков, лишь изредка из чащи доносился треск сломленной ветки.
За дровами пришлось сделать несколько ходок, и Дима порядком устал, хоть к пиле его и не подпускали. Дядя и Артёмыч сами валили деревья, а Диме доверяли обрубать с них ветки. Это было не так сложно, но руки без привычки к подобному труду быстро устали.
– Ну что? Как тебе такая физкультура? Это тебе не по залу бегать. – Артёмыч отёр со лба испарину. – Не через козлов прыгать. Тут посложнее, да?
– Да уж, – запыхавшись, вздохнул юноша. Он и не думал, что на холоде можно так вспотеть.
Вечером Николай Николаевич, сидя на низеньком табурете, взмешивал закипающий борщ, вдыхал его сытные пары. Пробовал картошку, свёклу, отзывался на вопросы племянника и поглаживал ладонью щёки.
Артёмыч отбирал рыбную приманку на завтрашний день. Витя лежал на койке. Опасаясь, что его пристыдят за безделье, без надобности проверял ружьё. Забывался в мягкой полудрёме, и тогда его руки слабели, ружьё свешивалось дулом вниз, глаза прикрывались. Любой, даже самый тихий звук вызволял Витю из сонливости, и он вновь принимался озадаченно разглядывать то цевьё, то приклад.
Тамга лежала на пороге. Принюхивалась к зреющему ужину, ждала, что её угостят супом.
За окном, во мраке, бесновался ветер: разносил снег, ударялся в затворенные ставни, ломал с деревьев ветки. Тем приятнее было отдыхать в доме, тёплом, защищённом от ненастий.
Зимовье казалось невообразимо маленьким – светлая точка, затерянная в дебрях сумрачной тайги. И чем сильнее завывала вьюга, тем уютнее было здесь, в тёплых стенах, напитанных запахами еловой настойки, борща и раскалённой печи. И не было тут ни компьютера, ни телефона, ни школьных друзей, но Дима не знал скуки. Сейчас всё было исчерпывающе просто – и сама жизнь, и приютившая её природа.
Юноша подумал, что прелесть охоты – именно в таких минутах, когда труд окончен и теперь дозволено расслабиться, поесть, а затем лечь на раскладушку: в ногах сожмётся боль, перед закрытыми глазами пробежит серая чаща, рядом, в печке, запыхтят поленца, и не будет нужды торопиться куда-то или о чём-то говорить. Нежиться бы так долгие часы, но сон, будто из вредности, приходил быстро, незаметно.
Витя после двух тарелок супа хотел выйти курить, но прилёг, чтобы всё улежалось в желудке. Так и уснул, не раздевшись, сдавив в пальцах незажжённую сигарету.
Вскоре уже спал весь дом. Лишь Тамга отчего-то ворочалась возле печки.
6
Заструга – длинная узкая снежная гряда, упирающаяся в какое-либо препятствие (например, дерево или каменную глыбу) с подветренной стороны.
7
Привада – корм, который кладётся в определённое место с целью «привадить» – приучить зверя систематически приходить на данное место.