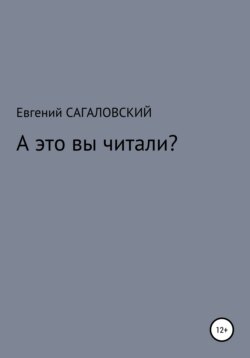Читать книгу А это вы читали? - Евгений Сагаловский - Страница 2
О книгах, их авторах и не только
Долгое возвращение Алданова
ОглавлениеАлданов М. Сочинения. В 6 книгах. – М.: Изд-во “Новости”, 1994.
Приступая к этим заметкам, я снял с полки Литературный энциклопедический словарь. Раскрыл на нужной странице – и не поверил своим глазам. В специализированном справочном издании, вышедшем уже в перестроечные времена, в 1987 г., – никакого упоминания об Алданове. Отсутствовали какие-либо сведения о писателе и в СЭС, издания 1988 г.
Свою ошибку я понял быстро: оба словаря сдавались в набор в 1984 г., за четыре года до первой публикации Алданова на родине. Разумеется, бесполезно было искать в советских изданиях имя писателя – принципиального противника социальных революций, утверждавшего, что “призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление”. Кто же мог осмелиться в стране победившего социализма даже упоминать о человеке, позволявшем себе задолго до нашей пресловутой гласности проводить параллели между Лениным и Сталиным – с одной стороны и Гитлером – с другой!
Марк Александрович Ландау (Алданов – псевдоним, анаграмма фамилии) родился в 1886 г. в Киеве, в семье сахаропромышленника. Получил блестящее образование: классическая гимназия, Киевский университет, который он закончил сразу по двум факультетам – правовому и физико-математическому (отделение химии). В том же году – первая публикация: научная статья в области теории растворов. (Вообще, к химии Алданов время от времени возвращался в течение всей жизни, утверждая, что периодическое переключение на научно-исследовательскую работу во всех отношениях полезно для писателя.)
Вскоре после окончания университета он уезжает в Париж для продолжения образования, однако с началом Первой мировой войны возвращается в Россию. Принимает участие в разработке средств защиты от химического оружия.
Когда грянула социалистическая революция, Алданов без колебаний сделал свой выбор, сразу и навсегда определив свое место в стане ее идейных противников. Если даже симпатизировавший Ленину и в свое время реально помогавший большевикам Горький в 1917 – 1918 гг. немилосердно бичевал новую власть в статьях, составивших впоследствии сборник “Несвоевременные мысли”, то уж таким, как Бунин, Мережковский, Гиппиус, Алданов, сам бог велел!
Острому аналитическому уму Алданова были в принципе чужды какие-либо иллюзии, причем, если, допустим, Бунин в “Окаянных днях” или Гиппиус в “Петербургском дневнике” писали главным образом о конкретике происходящего кошмара, то молодой ученый, неожиданно для самого себя превратившийся в политического публициста, в своей книге “Армагеддон” препарировал и анализировал революционные идеи, делая четкие, недвусмысленные выводы. Такие умники большевикам явно не годились, даже в попутчики. Крамольная книга была, естественно, уничтожена, а ее автору пришлось в 1919 г. навсегда покинуть родину.
“Эмиграция – не бегство и, конечно, не преступление. Эмиграция – несчастье”. Эти слова из алдановского очерка о дюке де Ришелье, легендарном первом градоначальнике Одессы, – одновременно обо всех русских эмигрантах первой волны, и не только первой, и не только русских. Но если Ришелье после долгих лет службы в России все-таки вернулся на землю любимой Франции и даже стал председателем совета министров, то Алданов, как и большинство его соотечественников, не по своей воле оставивших родину, мог возвращаться к ней только мыслями.
… Париж, Берлин, снова Париж, Нью-Йорк, Ницца.
Литературная известность пришла к Марку Алданову сразу после публикации в 1921 г. исторической повести о Наполеоне “Святая Елена, маленький остров” и уже не оставляла его до конца жизни. Достаточно сказать, что популярность Алданова среди читающей публики русской эмиграции была выше, чем у Бунина и Набокова, и это при том, что писатель всегда был далек от какой-либо конъюнктурности.
Свободно владея основными европейскими языками, Алданов, несомненно, мог бы значительно расширить свою читательскую аудиторию, став, допустим, франкоязычным писателем. Однако этот вопрос он, похоже, решил для себя сразу: по духу – космополит в лучшем значении этого слова, всю жизнь писал только на русском. Подстраиваться под кого-то, вообще что-то делать вопреки собственным убеждениям – нет, это был не его стиль. Объективный свидетель своего времени, Алданов с равно убийственной иронией писал о Сталине и Ллойд-Джордже, о большевизме и западном образе жизни. Да и предреволюционную Россию, мягко выражаясь, не идеализировал. В общем, всем сестрам – по серьгам. И по ушам заодно! Интеллигентно, не снимая белых перчаток. Кому же это понравится!.. Люди, подобные Алданову, обречены быть, в большей или меньшей степени, чужими даже среди своих. Вот цитата из воспоминаний об Алданове хорошо его знавшего музыковеда и мемуариста Л. Сабанеева: “Он был пережитком эпохи едва ли не шестидесятых годов прошлого века, и его культурный горизонт и идеалы ближе всего идеалам той России – либеральной, но умеренной, культурной и с высокими нравственными устоями, свободомыслящей в области умозрения и политики…” И далее: “Останется навсегда в памяти его моральный облик изумительной чистоты и благородства”.
Энциклопедически образованный человек, Марк Алданов выбрал для себя в качестве главной точки приложения своего литературного таланта русскую и европейскую историю ХIХ – ХХ столетий.
В русской литературе всегда было более чем достаточно исторических романистов – от Загоскина и Лажечникова до Пикуля. Среди массы откровенно бездарных, графоманских и конъюнктурных сочинений иногда попадается кое-что вполне приличное, а изредка даже – вершины, наподобие “Петра Первого” А. Толстого. Однако при всей несхожести манер письма и и масштабов дарования подавляющее большинство авторов исторических романов работали с материалом по известному методу А. Дюма, который, по его собственному признанию, рассматривал историю в качестве вешалки для развешивания своих сюжетов.
Такой сугубо беллетристический подход был для Алданова категорически неприемлем. Его основной принцип – полная историческая достоверность за счет максимального использования документов и свидетельств очевидцев, предельно возможное, выражаясь математическим языком, сужение доверительного интервала. Непревзойденный мастер исторического очерка, Алданов и в своей исторической прозе остается ученым, не позволяющим себе мало-мальски существенных отклонений от реальности. Эта характерная особенность не раз отмечалась видными историками- профессионалами. При этом писателю, принципиально избегающему исторической “клюквы” и тем более “клубнички”, столь любезной сердцу массового потребителя низкопробного “исторического” чтива, неизменно удается поддерживать читательский интерес к описываемым событиям (конечно, речь идет о серьезном читателе). Алданов умеет виртуозно строить сюжет, искусно вплетает в повествование интереснейшие исторические документы и детали. Недаром огромное количество времени он проводил в библиотеках, неустанно отыскивая и тщательно отбирая драгоценные находки для своих книг.
Однако Алданов не был бы Алдановым, если бы ограничивался лишь описанием внешней стороны событий. Это ему просто было бы неинтересно. И если Дюма использовал историю как вешалку для своих захватывающих сюжетов, то Алданов рассматривал ее в первую очередь с точки зрения философа и моралиста. Исторический материал давал возможность его отточенному уму ученого продуцировать глубокие рассуждения о непреходящих ценностях, о вечных человеческих проблемах. Свидетель своего жестокого и страшного века, “века-волкодава”, как его с достижимой лишь поэту точностью определил О. Мандельштам, Марк Алданов мучительно размышлял и внешне бесстрастно писал о Добре и Зле, Любви и Ненависти, Народе и Власти, Жизни и Смерти. Материалов для этого в человеческой истории всегда было с избытком. Он писал о Марате и Ганди, о Ленине и российских императорах, о Байроне и Бетховене… О ком только он не писал! И как же неожиданно современно звучат сегодня, например, строки, случайно выхваченные взглядом на странице раскрытого наугад тома: “…Воронцов-Дашков не верил в устрашающее действие казней в стране ингушей, чеченцев, кабардинцев и шапсугов”. Иди – такие, опубликованные впервые в 1927 г.: “В настоящее время в России к правителям предъявляются весьма пониженные требования… Это, разумеется, не всегда так будет. Но я боюсь, что это так будет еще довольно долго”.
Алданов успел сделать чрезвычайно много, и мы сегодня фактически только начинаем открывать его для себя.
Весьма любопытен разброс мнений по поводу того, что считать наиболее ценным в алдановском творчестве: одни отдают предпочтение романам, другие – очеркам и публицистике, сам же писатель на полном серьезе называл лучшим своим произведением научную монографию “Актинохимия”.
Первое в России собрание сочинений Алданова в 6 томах вышло в 1991 г. литературным приложением к журналу “Огонек” и включало, главным образом, крупномасштабные прозведения, рассчитанные на относительно широкую читательскую аудиторию. Новый шеститомник издательства “Новости” значительно более разнообразен по составу и уже поэтому гораздо более интересен. На этот раз из обширнейшего алдановского наследия (по приблизительным подсчетам, полное собрание сочинений писателя составило бы порядка 40 томов) отобраны, помимо двух романов и двух повестей, еще два тома исторических очерков, значительное количество рассказов, пьеса, сборник философских диалогов и статьи о литературе. Тираж нового издания – 15 тыс. экз. (для сравнения – “огоньковский” шеститомник имел тираж 760 тыс. экз.), и, видимо, это оправданно. Дело в том, что, как верно заметил Л. Сабанеев, произведения Алданова “по природе своей – произведения для немногих”.Разумеется, Алданов – не Пикуль. Нынешнему массовому читателю он, вероятно, и вовсе не нужен. Какое значение для него имеет то обстоятельство, что Алданова чрезвычайно высоко ценили Г. Адамович и Г. Иванов, А. Ремизов и Б. Зайцев, Р. Гуль и В. Набоков! Или – тот мелкий факт, что сверхвзыскательный И. Бунин неоднократно выдвигал Алданова на Нобелевскую премию! Да наш замечательный массовый читатель и имен-то этих не знает, ну, разве что Набокова (благодаря “Лолите”) да про Бунина, наверное, краем уха слышал. Остается только надеяться на то, что все еще может измениться.
Рискуя быть обвиненным в неумеренном цитировании, все-таки приведу еще слова из заметок Г. Адамовича “Мои встречи с Алдановым”: “… это был редкий человек, и даже больше, чем редкий: это был человек в своем роде единственный. За всю свою жизнь я не могу вспомнить никого, кто в памяти моей оставил бы след… нет, не то чтобы исключительно яркий, ослепительный, резкий, нет, тут нужны другие определения: след светлый и ровный, без вспышек, но и без неверного мерцания, т. е. воспоминание о человеке, которому хотелось бы в последний раз, на прощанье, крепко пожать руку, поблагодарить за встречу с ним, за образ, от него оставшийся”.
А что касается Нобелевской премии, которую Алданов так и не получил… Пожалуй, это лишнее подтверждение излюбленной алдановской мысли, неизменно проходящей чуть ли не через все его исторические произведения, – мысли о решающей роли случая в истории. Мало ли кому по разным причинам не суждено было написать и произнести Нобелевскую речь! Перечень таких не-лауреатов, как писателей, так и ученых, выглядел бы не менее внушительно, чем список лауреатов. И, наверное, открывался бы он именем боготворимого Алдановым Л. Толстого…
И напоследок – простые и горькие алдановские слова: “Через тысячу лет любой школьник будет знать в тысячу раз больше меня. Мир же станет еще непонятнее, даже если не спрашивать, зачем он существует… Чем больше будем знать, тем понятнее все будет глупцам, тем непонятнее умным и тем тяжелее”.