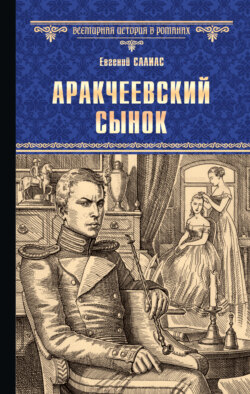Читать книгу Аракчеевский сынок - Евгений Салиас-де-Турнемир - Страница 5
Глава III
ОглавлениеНаутро в квартире Шумского было мертво тихо до полудня, так как хозяин, поздно, иногда с рассветом, ложившийся спать, вставал не ранее первого или второго часа дня. Обыкновенно, проснувшись, Шумский оставался по целому часу в постели, пил чай, принимал так, лежа, завернувшего по дороге приятеля и болтал с ним или читал книгу. Понежившись, он вставал и одевался. Копчик объявлял заезжим гостям двояко: или «барин почивают», или «барин нежутся».
На этот раз в небольшой горнице около передней, где стояли шкафы с платьем, мундирами и всякой разнообразной амуницией богатого офицера, было нечто особенное.
Обыкновенно горница эта бывала заперта, или же в ней возился, прибираясь, один Копчик. Теперь в ней сидела женщина лет пятидесяти, одетая как простая дворовая женщина: в ситцевом пестром платье и с повязкой на голове. Женщина только что приехала в это утро в Петербург. Около нее на полу лежал простой холщевой мешок с пожитками, а на стуле ваточная шубка. На столе пред ней стоял самовар и чайная посуда. Женщина с видимым удовольствием, почти не отрываясь ни на мгновенье, пила чай – чашку за чашкой. Уже около половины самовара перешло в чайник и было ею уничтожено в виде светленькой, желтенькой водицы, конечно, с блюдечка и в прикуску.
Изредка в комнату заходил Копчик и, перемолвившись, снова уходил хлопотать по дому. Хотя у Шумского в квартире было около полдюжины всех людей и два лакея в горницах, но всем заведовал Копчик, – один лакей был вечно в городе на посылках, справляя разные поручения барина, а другой неизменно сидел в качестве швейцара в передней и не имел права отлучаться из нее.
Приготовив все ко времени пробуждения барина, Копчик явился снова и спокойно сел около вновь приезжей.
– Ну, все справил… Теперь можно и хлебнуть с вами чайку, – сказал он, присаживаясь к столу. – Так как же, Авдотья Лукьяновна… Так-таки вам ничего и не ведомо… Аль скрытничаете?
– Чего мне, голубчик, от тебя скрытничать! Вот тебе Христос Бог – ничего не знаю, – отвечала женщина.
– И Иван Андреич ничего вам не сказывал дорогой. Ни, то-ись, ни словечка? – лукаво переспросил лакей.
– Говорю тебе, приехал в Грузино, побывал у Настасьи Федоровны. Меня вызвали, велели сбираться в дорогу… А наутро мы в тарантасе с Иван Андреичем и выехали.
– Чудно. Стало, и она тоже, Настасья-то Федоровна, не знает, зачем вас барин востребовал в Питер?
– Полагательно, и она не знает.
– А отпустила тотчас?
– Она по его слову, своего Мишеньки, дворец Грузи-новский в ящик уложит и пошлет. Только прикажи он.
Копчик не понял и рот разинул.
– Так она сказывает, Василий. Дворец графский готова-де гостинцем в ящике Мишеньке переслать.
Копчик хотел снова что-то спросить, но вдруг бросился со всех ног из комнаты… Женщина даже вздрогнула от неожиданности.
Через мгновенье Копчик вернулся, но оставил дверь раскрытой.
– Почудилось мне, что барин позвал… Нет, все еще спит.
– А строг он с тобой?.. Взыскивает? – спросила приезжая.
– Д-да! – протянул молодой малый.
– А ведь какой же добрый он, сердечный… Не чета нашим господам… Этот добрющий… Андел!
– Д-да…
– Что так сказываешь. Будто не по-твоему…
– Да как сказать, Авдотья Лукьяновна… он вестимо добрый… Но тоже и мудрен. Уж и так-то это мудрен, что, окромя меня, никто ему не угодит и всякого он ухлопает… Добрый, а вот Макара-то Сергеева в Сибирь сослал, а Егора рыжего… Сами знаете…
– Это по нечаянности… Иль не в своем виде был, подгулявши… Такой уж случай неприятный.
– Бутылкой по голове ахнул, в висок… Это же какая уж нечаянность, – вымолвил тихо Копчик.
– Говорю… Подгулявши был…
– От того не легче. И теперь он часто бывает не в своем виде. Меня иной раз, Авдотья Лукьяновна, мысли берут… проситься у него домой, в Грузино… У вас там не так страшно…
Авдотья замахала молча руками…
– Нет… Право… Не так там опасно. Здесь – ужасти! Там только графу не надо на глаза лезть да дело свое исправно делать. Настасья это Федоровна тоже нашего брата, молодца, мало обижает. Она больше девок и баб мучительствует. А здесь, у него вот… – показал Копчик на растворенную дверь… – беда! Здесь, Авдотья Лукьяновна, все одно что на войне!
– Э, полно ты врать! – с заметным раздражением отозвалась женщина. – Вы, холопы, завсегда господами недовольны. На вас Господь не угодит.
– На этого дьявола воистину сам Господь не угодит! – вдруг как бы сорвалось с языка у молодого малого.
Женщина окрысилась сразу…
– Слышь-ко, ты… глупый, – произнесла она громче. – Ты мне таких об Михайле Андреиче… речей не смей… И слушать-то я тебя не хочу. Дурак ты. Вот что! Нешто забыл, что я его кормилица, что я его вспоила и вскормила, выходила и на ножки поставила…
– А отблагодарил он вас за это много?..
– Да я не просила. Мне ничего не нужно.
– Сам бы мог… Да я что ж… Я ведь так, к слову. Все господа таковы. Он меня любит, привык, балует деньгами и платьем, и гулянками… Ну а случись… не ровен час. Чем попало убить, как Егора, может. Вот самовар эдакий, малость поменьше, уж в меня раз летал. Так с кипятком и пролетел на четверть от башки. Не увернись я – был бы ошпаренный в лучшем виде… А ведь это не розги! Не заживет в неделю. Эдакое на всю жизнь. Сказывали мне – без глаз мог меня оставить, кабы кипятком в рыло хлестнуло…
– Все-то враки… Не видали вы настоящих-то господ, грозных! – недовольным голосом отозвалась Авдотья. – Важность, самовар…
Копчик хотел ответить, но до горницы явственно донесся голос барина, звавшего из спальни. Лакей бросился со всех ног.
Авдотья тоже встала, оправилась, потом поправила платок на голове и, став у окна, задумалась, подперев рукой подбородок.
У женщины этой было правильное и выразительное лицо, и видно было, что когда-то она была очень недурна собой. В лице ее была тоже какая-то суровость и сухость, взгляд, когда она задумывалась, тоже становился проницательно черствый, точь-в-точь такой, как у ее любимца-дитятки, у которого она была кормилицей и няней и которого теперь обожала не менее своей барыни – Настасьи Федоровны.
За последние годы ее дорогой и «ненаглядный барчонок» Миша жил в Петербурге, она меньше и реже видела его. Когда он приезжал на побывку к отцу-графу в его именье, близ Новгорода, Грузино, то Авдотье с трудом удавалось раз в день повидать Шумского, и то все-таки издали. Пускаться в беседования с бывшей кормилицей Шумский не любил. Простая дворовая женщина, хотя и умная, хотя и обожавшая его, часто прискучивала ему когда-то своими вечными нежностями. И Шумский теперь не любил даже встречать глазами любящий взгляд этой женщины; видеть и чувствовать его на себе – было ему почему-то тяжело. Женщина, очень смышленая и даже проницательная, видела и понимала, что барин тяготится ее «глупой любовью», и поневоле старалась быть сдержаннее, не наскучивать ему ласковыми словами и прозвищами, как бывало прежде, когда ему было лет восемнадцать и он еще жил в Грузине.
Но с каждым годом холодность в отношениях бывшей кормилицы с бывшим питомцем все увеличивалась. Шумский уже, наконец, не делал почти никакого различия между прежней мамкой и другими дворовыми своего отца. Когда-то он звал ее «Дотюшка», переделав детским языком имя Авдотьюшка, данное ей его матерью. Теперь же он просто называл ее Авдотьей.
Часто женщина горевала, изредка и плакала, видя, что питомец совсем разлюбил ее, но обвиняла не его, а себя самою. Стало быть, она сама, глупая баба, не сумела сохранить любовь ненаглядного Миши. Иногда она утешалась мыслию, что все молодые люди «в господском состоянии» гнушаются своих мамок, когда подрастут и «выйдут на волю» и столичное житье-бытье.
– Что ему во мне, дуре-бабе? Ни сказать я ничего не умею, ни понять и разуметь его барских мыслей не могу. Он офицер, а я крестьянка.
Так утешала себя женщина, но чуяла сердцем, что лжет сама себе, желая оправдать неблагодарного.
За последний приезд молодого человека в Грузино среди лета Авдотья несколько раз виделась со своим питомцем, но он даже ни разу не поговорил с ней ни об чем, даже не спросил, что бывало недавно, как ей живется-можется. Он говорил при встрече в саду или на дворе: «А, здравствуй!» – и проходил мимо, не заглянув ей даже в лицо.
Однажды, при второй встрече, после своего приезда он даже кольнул нечаянно в самое сердце свою бывшую мамку. Сказав: «Здравствуй», он прибавил неуверенным голосом:
– Ты ведь Авдотья, кажется. Та, что к собачонкам Настасьи Федоровны приставлена?..
Женщина застыла на месте, ничего не ответила, в ней дух захватило от этих слов. А он прошел мимо…
«Я – та, что тебя грудью своей вскормила и выходила!» – смутно сказалось в ней и просилось на язык.
Но она не смогла и не сумела бы это сказать. Она прослезилась, утерла рукавом лицо и пошла в дом, где действительно были у нее на попечении две собачонки барыни.
Последствием этой встречи было то, что она возненавидела этих двух собачонок и уже более не могла их ласкать.
И вдруг, два дня назад, случилось в Грузино нечто очень простое, но для Авдотьи это было нежданным и загадочным событием, смутившим ее совершенно и даже испугавшим.
В Грузино приехал любимец и наперсник ее дорогого Миши, принявший при нем роль полуадъютанта-полурассыльного. Это был Иван Андреевич Шваньский, молодой еще, но старообразный, худенький и маленький человечек. Любимец Шумского, он был нелюбим всеми, начиная от самого графа Аракчеева и кончая последним дворовым, хотя бы тем же Копчиком, который даже ненавидел этого «баринова иуду», как он его звал.
Через час после приезда Шваньского в Грузино Авдотья была вызвана, и ей объявили, что молодой барин Михаил Андреевич желает, чтобы она явилась к нему в Питер на жительство недельки на две.
По объяснению Шваньского это была простая прихоть офицера.
– Так ему вздумалось почему-то, – объяснил он.
И прихоть была тотчас же исполнена. Авдотья собралась наскоро и села в тарантас к Шваньскому. Но дорогой умная женщина выведала все-таки у своего спутника, что есть что-то новое, есть «какое-то дельце», которое придется ей справить Михаилу Андреевичу в столице.
– И на эту затею баба нужна, скромная, не болтушка, – объяснил Шваньский. – Ну вот за тебя и взялись…
Разумеется, всю дорогу женщина была сама не своя от мысли, что может быть, услужив в столице своему питомцу, она вернет его любовь к себе. Может быть, думалось ей, он будет так доволен, что совсем оставит ее жить у себя и она будет заведовать его домом и хозяйством, станет опять «Дотюшкой» для него.
Вместе с тем Авдотья рада была путешествию в столицу, где жила месяца с два уже ее любимица-девушка, красавица, которую она считала почти дочерью, так как когда-то сама случайно спасла ее от смерти. Гуляя однажды со своим питомцем на руках по саду, около пруда, Авдотья услыхала крики… Какой-то ребенок барахтался в воде… В одно мгновенье няня положила на траву своего Мишу, вбежала по грудь в воду и вытащила девчонку лет трех на берег.
Спасенный ребенок оказался сиротой из соседней деревни, принадлежавшей графу. Девочку взяли во двор, и Прасковья понемногу стала любимицей всех, а в особенности Авдотьи, которой была, конечно, обязана жизнью. Эта Прасковья, теперь уже взрослая девушка девятнадцати лет, была отпущена в Петербург по оброку и жила где-то в горничных. Авдотья радовалась, что свидится с любимицей.