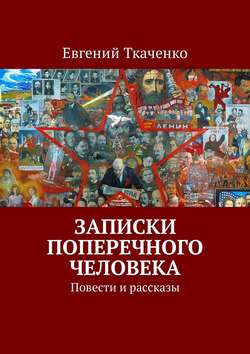Читать книгу Записки поперечного человека. Повести и рассказы - Евгений Ткаченко - Страница 4
Повести
Записки поперечного человека
Влияние культурной среды
ОглавлениеСейчас я убежден в том, что жизнь человека определяется не только талантами, которые он получает при рождении, но в большей степени семьей и той культурной средой, в которой проходит его детство, среда играет роль проявителя, выявляющего талант, или угнетателя, способного талант убить или сильно затормозить его проявление. А еще в семье закладываются основы взаимоотношения человека с этим миром.
Так вот мое детство прошло в маленьком промышленном городке, расположенном на берегу реки Невы в сорока километрах от Санкт-Петербурга. Городок этот сегодня называется Кировском, а когда я там родился, это был поселок Невдубстрой. Появился он в 1932 году рядом со строящейся электростанцией 8 ГРЭС по инициативе Сергея Мироновича Кирова. Понятно, что был этот городок чисто советским, пропитанным коммунистической идеологией и практически без наличия какой либо национальной культуры. Да и население городка сложилось искусственно, жесткой волей коммунистической власти. Основная часть мужского населения в послевоенное время – заключенные советского концлагеря, привезенные из концлагерей немецких, женского – в основном девушки из окрестных поселков и деревень. Таким образом, история моего родного города начала складываться, по сути, с нескольких предвоенных лет и Великой Отечественной войны.
А вот удивительно красивая история края, в котором я рос, ведущая свое начало еще со времен Александра Невского, советской властью была вычеркнута из моей жизни. Даже богатое прошлое крепости Орешек, которая находилась всего в восьми километрах от Кировска, и в которой я многократно бывал, представлялось в советских книгах и экскурсоводами только как история крепости в Великую Отечественную войну. О предыдущей многовековой истории и края, и крепости, определившей, по сути, все дальнейшее развитие государства Российского говорилось очень кратко и с фантастическими искажениями.
В такой среде очень уж малокультурной и пришлось жить. Был и еще один, как мне сегодня кажется негативный момент для поколения детей родившихся сразу после войны. Мы, в какой-то степени мешали празднику жизни родителей. Они все были еще молоды, эта страшная война отняла у них юность и упущенное они старались наверстать. Понятно, что этот негатив затронул всех по-разному, меня, например, очень сильно. Сердечного контакта со своими родителями вспомнить не могу. Я чувствовал, что отец меня любил, но был он не сентиментален и по отношению ко мне авторитарен, кроме этого видел я его в своем детстве очень мало. Отец много работал, а свободное время проводил в лесу на охоте, или на Неве, на рыбалке. Это было не только страсть и удовольствие, но в большей степени желание обеспечить продуктами ближних, поскольку еды тогда сильно не хватало. Очень хорошо помню редкие радостные моменты, когда он уделял мне внимание. Малышом, наверное, четырех-пяти лет всегда брал с собой в ванную купаться, мы гоняли по воде пластмассовые игрушки, смеялись, а потом я счастливый лежал на папиной, как мне казалось необъятной груди. А еще когда я болел, помню рядом только папу и его руки. Однажды на больничном был папа, и целый вечер посвятил мне, рисовал в мой альбомчик медведей, охотников, лосей. Отец рисовал хорошо, и я был в полном восторге. Этот альбомчик долго хранил, как особую ценность.
Для мамы я с самого детства был чем-то негативным, постоянно ее раздражающим, хотя по природе хулиганистым не был. Четырнадцать лет она не работала, зарплаты отца на жизнь хватало. Мне было очень неуютно дома, угнетала атмосфера постоянной ее агрессии в мой адрес. С малых лет домом моим была улица. Мамино угнетение и отцовская авторитарность сильно повлияли на мое взаимоотношение с миром. Я чересчур долго был неуверен в себе, смотрел на всех с некоторой робостью и снизу вверх. Это мешало мне жить, особенно учиться, как в школе, так и в институте, письменные мои работы оценивались, как правило, на хорошо и отлично, за устные же ответы я редко получал выше тройки. Чувствуя в моем голосе некоторую растерянность, преподаватели предполагали слабость знаний.
Как Чехов выдавливал всю жизнь из себя раба, так и я выдавливал из себя неуверенность. Удалось мне это только к пятидесяти годам. Процесс оказался таким долгим потому, что в интеллекте и умении что-то делать, необходимо было не только сравняться с окружающими, но и где-то их превзойти. Честно говоря, в зрелые годы, соприкоснувшись с реальной жизнью, осознал себя таким рабом, что Антона Павловича уже и не понял. Действительно, приходиться бороться с этим до сих пор. К счастью вижу, что этой рабской психологии в поколении моих детей, и особенно внуков намного меньше, чем в моем поколении.
Понятно, что, будучи ребенком, я воспринимал все как само собой разумеющееся и пытался утверждать себя в тех ценностях, которые среда мне предлагала. А предлагала она школу, спорт, летом работу вместе с родителями на картофельном огороде и рыбалку, осенью добычу грибов, в общем, было все кроме гуманитарного развития. Гуманитарное долго воспринималось мной как что-то несерьезное, вторичное что ли. Кого могла заинтересовать, например, история, которая в школе была представлена только как история КПСС и история последней войны, или литература, назойливо подававшаяся нам в виде каких-то политизированных образов? При поступлении в институт меня спасла свободная тема. Сочинение под названием «И на Марсе будут яблони цвести» – принесло мне оценку хорошо. Ну а первичным было служение комсомолу и партии, а если не хочешь, то приветствовалось еще физико-математическое восприятие мира и физическая сила.
Отец был для меня исключительным авторитетом. В партии он не был, причем никогда ее не осуждал, но я каким-то невероятным образом знал его истинное отношение к ней, окончив школу, уже понимал, что если буду делать карьеру с помощью партбилета, потеряю его уважение. На всем политическом я поставил крест еще в школьные годы и ставку сделал на физическую силу и профессионализм. Отрицание коммунистической идеологии тогда было у меня конечно на подсознательном уровне, сознанием я этого не понимал. Не понимал и того, что как раз подсознание и ведет нас по жизни. Все это так, но по правде говор я, еще будучи школьником, уже имел такую аллергию в душе к вожакам комсомольским и партийным, что к ним в компанию идти совсем не хотел. Сейчас мне понятно почему, я чувствовал искусственность и ложь в их речах, манерах поведения, что исключало доверие к ним, а высокое положение в социуме добываемое такими средствами меня совсем не привлекало. Вожаков пионерских я не упомянул потому, что они все же верили по-детски искренне и вели себя тоже искренне.
Школа у нас большая трехэтажная, и пионерская организация была громадной, может человек триста. Возглавляла ее девушка по имени Лида, очень симпатичная и фигуристая, думаю, школу она закончила и это была ее работа. Она мне, десятикласснику уже не пионеру и еще не комсомольцу нравилась, ведь я уже стал засматриваться на девушек. Себя-то со стороны не видел, но это было как раз время преображения меня из гадкого утенка в высокого стройного юношу. Мне была симпатична ее неуемная энергия и естественность поведения, а еще я видел, как любили ее дети. Мы, понятно, были знакомы, и она помнила меня еще гадким утенком. Однажды уходя с занятий, я встретил Лиду на первом этаже, она мне мило улыбнулась и предложила зайти в пионерскую комнату, а там спросила, не тороплюсь ли я. Я ответил, что нет. Она как-то немножко нервно улыбнулась и, показав на сумку, стоящую на столе спросила:
– Поможешь донести до дома.
– Конечно, запросто, – ответил я.
Помогая одеть ей пальто, я почувствовал, что она волнуется. Это волнение тут же передалось мне, оно было приятным, возбуждающим. Расшифровать его в полной мере я тогда не мог, опыта не было. Сейчас-то все понятно.
По дороге Лида что-то говорила, я механически поддакивал, а в ушах и голове была какая-то ватность, истома и постоянно сверлил тупой вопрос: «Зачем она попросила нести такую легкую сумку?».
От школы Лида жила недалеко, через пять минут мы уже зашли в дверь ее квартиры. Сумку я поставил на табуретку в прихожей, а Лида повернулась ко мне спиной, чтобы я помог снять пальто. Я вынужден был приобнять ее за плечи, взявшись обеими руками за отвороты. Она сразу обмякла и на мгновение прижалась ко мне. Почувствовав дрожь в ее теле, я тут же весь покрылся испариной. Лида сделала резкое движение вперед, ее пальто осталось в моих руках и я механически, как во сне повесил его на вешалку, которая оказалась рядом. Лида взяла отвороты моей куртки, прижалась ко мне и каким-то сладким-сладким голосом произнесла: «Раздевайся, чай будем пить». Своей плотной, совсем немаленькой грудью она буквально прижала меня к стенке, и я впал в какое-то полуобморочное состояние, ничего не понимал, только смотрел в приоткрытую дверь комнаты на аккуратно застеленную кровать с большой подушкой. Потом стал наплывать какой-то ужас, я отстранил ее, залопотал какие-то извинения, схватил свою сумочку и выскочил за дверь. Не помню, как дошел до дома. Целый месяц я ходил весь из себя рассеянный, как стукнутый пыльным мешком, даже учиться стал хуже.
Памятью своей иногда возвращался к этому случаю и всегда недоумевал откуда во мне, мальчике, было тогда это целомудрие. Красивым отношениям между полами нас никто не учил, зато двор учил, причем в самом грязном и циничном виде. Я не возмущался, слушал, ведь это было так интересно, притягательно и волнительно. А вот душа грязь не воспринимала, она хотела красоты и верила только в нее.
Я уверен, что это целомудрие и стремление к красоте присутствует в душе каждого. Вот только понятие красоты зависит от той среды, в которой человек вырос, оно не абсолютно и что для одного красиво для другого это может быть совсем не красотой. Так один из моих приятелей, кандидат наук, кстати, родился в деревне. Так вот для него счастье и красота спать на сене и чтоб обязательно вокруг прыгали блохи.
Но что особенно портит человека так это его эгоизм, который часто подавляет и красоту, и целомудрие. В неприкрытом виде мы его можем видеть у мальчиков-подростков. Пытаясь быть более значимыми в среде сверстников, они готовы на многое, порой на гадкое и мерзкое, причем важно, чтобы о содеянном зле знали, а еще лучше, чтобы видели. Удивительно, что эта зараза сегодня распространилась и на девочек. Как-то в новостях показывали избиение девочки группой ее подружек, записанное на телефон, причем били ее ногами. Ради лайков сегодня подростки массово гибнут в рискованных селфи, и даже устраивают самоубийство. У некоторых взрослых все тоже, только уже завуалированное и не так заметное на первый взгляд. Дети тонко чувствуют культуру среды, в которой существуют и невольно проявляют ее нам. Мы, взрослые, ахаем, ужасаемся, осуждаем своих детей и мало кто осознает, что видит в них свое истинное фото, без ретуши и прикрас.
Чем же определялся уровень культурной среды в послевоенное время, когда информационное поле было очень бедным? В первую очередь родителями, родственниками, семьями приятелей и соседей, а они, в то время, еще несли в себе традиционную бытовую культуру, наработанную нашим народом за тысячелетие. Это совсем не то, что мы наблюдаем сегодня. Девяностые годы и информационная революция серьезно изменили культурную среду, грубо внедрив в нее западную масскультуру. А тогда не было никаких заборов и обособления людей друг от друга. В некоторых женщинах еще просматривалась какая-то загадочность из прошлого девятнадцатого века, они еще носили шляпки, а одна моя тетя никак не могла расстаться с муфтой. Женщины не использовали ненормативную лексику и не курили, а мужчины, даже самые хулиганистые, в их присутствии вели себя смирно и старались грубо не выражаться. Недостаток информации успешно компенсировался обилием праздников, на которые собиралась родня, друзья, а порой и соседи. Существовало какое-то особое доверие друг к другу, все и все были на виду. Отношения строилось, понятно, на добром чувстве, но самое главное на терпимости. Ведь на этих искренних встречах выявлялись не только нравственные изъяны каждого, но и дурь, конечно. Удивительно, что тяга к общению, особенно у женщин была так велика, что прощали они друг другу все оскорбления высказанные сгоряча на предыдущей встрече. А в этаком стандартном диапазоне – вначале радость встречи, объятия, лобызания, а при расставании претензии и оскорбления друг друга – проходила значительная часть праздников. Мужчины за праздничным столом выпивали крепче, но вели себя обычно ровно и сдержанно. Инициаторами конфликтов, как правило, будучи существами более эмоциональными, были женщины. Мужчины в эти разборки не встревали. Помню часто повторяемую ими шутку: «На то они и гусыни, чтобы шипеть». Для меня это была удивительная школа познания человека, на моих глазах отношения препарировались до истинной сути, как в анатомическом кабинете.
То послевоенное время я охарактеризовал бы одним словом – терпимость. Она в полной мере проявлялась к власти, в отношении друг к другу и, кстати, в отношениях жены и мужа. Как-то вот я в детстве только это и видел, невероятную терпимость, но не видел настоящей любви и ничего о ней не знал.
Так уж получилось, что и прочитать об этом я нигде не мог. Опять же издержки культурной среды, в которой рос, порядка 80% бумаги тогда в стране тратилось на политическую литературу. Библиотека у нас в городе была бедная, на хорошие книги очередь. Несколько лет стоял в ней на «Трех мушкетеров», так и не прочитал. В школах я не встретил ни одного достойного преподавателя, способного увлечь своим гуманитарным предметом. Помнятся и поминаются мной добрым словом только два преподавателя – по физкультуре и математике.
Именно поэтому после окончания школы в большую жизнь я вышел в некотором смысле интеллектуальным уродом, был силен физически, с достаточно хорошо развитыми логическими мозгами, но почти нулем в самом главном, душевном и духовном развитии. К счастью, я мужчина, а потому имел шанс объективно оценить себя, переосмыслить, изменить собственную шкалу ценностей, и стать другим. Надеюсь, что мне в некоторой степени это удалось. Только вот путь этот был очень длинным, почти в целую жизнь.
Интересные, очень почтительные отношения у меня сложились к книгам. В доме их было не больше десятка, о природе и охоте. Их читал отец, страстный охотник. Зимой он не охотился и, наверное, чтением этих книг утолял свою охотничью страсть. В нашем доме жил книголюб по фамилии Лозовский, владелец достаточно большой библиотеки. По просьбе моего отца он позволил брать книги, при условии, что я никому их давать не буду. Было мне тогда восемь лет. Книги я брал регулярно и за 3—4 года перечитал все сказки народов мира и детскую приключенческую литературу. Потом в чтении моем наступил длительный перерыв. Школа, стадион и улица отнимали все время, и было не до чтения, да и ни один учитель литературой увлечь не смог, для положительной оценки достаточно было хотя бы что-то сказать про образ «Безухова» или «Ноздрева», например, изложенный в хрестоматии. Правда, был в моей школьной жизни момент, со школой, кстати, совсем не связанный, который, пожалуй, и зародил в душе любовь к литературе и отечественной истории. Когда гостил в Питере в семье моей тетушки, то непременно вечерами листал толстенные дореволюционные журналы «Нива», которых у них было несколько штук, передо мной открывался какой-то красивый неведомый мир. Мне было очень странно и непонятно то, что он был совсем недавно и, вдруг бесследно исчез. В студенческие годы иногда читал журналы «Наука и жизнь» и «Техника молодежи». Прочитанные книги помню только две «Денис Давыдов» и «Анна Каренина». Систематически и с интересом начал читать литературу только лет с двадцати пяти. Почти два года я отработал в командировке в Польше, там оказались хорошие магазины с русской книгой и, главное что мне удалось оттуда привести – это книги, больше двухсот томов качественной литературы. Собственно с этих книг и началась моя библиотека.
В целом, семейная культурная среда, в которой я произрастал, была странная и противоречивая. Основу ее составляли шесть женщин-сестер из деревни Сологубовка, самая младшая из них моя мать. Сестры были организаторами встреч нашей родни на протяжении многих лет. Все они были крупными, сильными и в некоторой степени напористыми дамами, хорошо усвоившими правила игры в социуме навязываемыми нам коммунистами. Из войны извлекли однозначный урок, что самое беспроигрышное находиться рядом с кухней и продуктами. Четверо из них работали при столовых и буфетах. Конечно, все они любили сладко поесть и выпить. В детстве мне это нравилось, только у тетушек меня всегда угощали чем-то вкусненьким, для меня невиданным. В гостях у них я впервые попробовал буженину, оливки, твердую колбасу под названием «Советская», маринованные миноги и много еще других вкусностей.
Образование у сестер, понятно какое, выучены были только считать и писать. Их мужья образованы были значительно лучше, культуру имели более высокую и разнообразную, кто-то писал стихи и любил Беранже, кто-то хорошо играл на гармони, отец профессионально разбирался в ботанике, знал большое количество украинских стихотворений и иногда по просьбе гостей читал их. К женам своим относились они терпимо и очень снисходительно. Из всех сестер развелась с мужем только одна, но у них не было детей. Загадка для меня то, что шесть таких крепких женщин родили на всех всего-то только шестерых детей. Но что удивительно, в них таких вроде бы примитивных и не имеющих в душах настоящей культуры, она эта культура где-то на поверхности присутствовала и была очень заметна. Дело в том, что сестры выросли в православной старообрядческой семье, подчиняясь советской пропаганде верующими не стали, но какие-то основные красивые понятия: аккуратности в быту, почтения старших, отрицания табакокурения и ненормативной лексики, знание ритуала многих православных праздников несли по жизни. Все сестры были, по сути, ленинградцами еще с довоенных времен. Культура Питера не могла не отразиться на их поведении. Деревенский же примитивизм в них проявлялся в полной мере только тогда, когда сестры расслаблялись, встречаясь в своей родной деревне Сологубовке. Мой отец сестер называл лизоблюдами, сологубовские праздники не любил, старался их избегать, но уж если мать сильно наседала, то всегда поддавался. Ну, а я им очень благодарен. В детстве часто ездил в гости к ним в Питер и каждый раз это была для меня серьезная культурная программа.
На примере своих тетушек я увидел, что может сделать с человеком семья, традиции и культурная среда, в которой он существует. Оказывается, может сделать почти невозможное, из необразованного и не совсем умного человека сотворить личность достаточно культурную, хотя бы внешне.