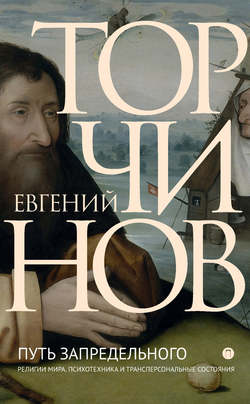Читать книгу Путь запредельного. Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния - Евгений Торчинов - Страница 3
Введение
О понятии «религия»
ОглавлениеКогда мы говорим о религиозном опыте, оба слова, формирующие это сложное понятие, нуждаются в определении. Иначе говоря, необходимо пояснение, что будет пониматься в исследовании под «религией» и что – под «опытом». Это, конечно, не означает, что здесь будет дана всеобъемлющая дефиниция того и другого, скорее речь идет о том, как эти слова понимаются автором и в каком смысле они будут употребляться ниже.
Существует огромное количество определений религии, и поэтому, вероятно, нет смысла пытаться просто преумножить их в надежде предложить нечто исчерпывающее и всеобъемлющее, но поясним читателю, что имеет в виду автор, когда он употребляет слово «религия». Разумеется, у нас есть (или мы считаем, что у нас есть) некое интуитивное понимание того, что такое религия. Сколь бы ни отличались религии Дальнего Востока от православия, русский казак, попавший в Пекин XVII в., прекрасно понимал, где находится храм, и отнюдь не принимал последний по ошибке за трактир или университет. Но как только с обыденного уровня мы переходим на уровень теоретический, сразу же появляется масса проблем и вопросов.
Обращаясь к проблеме дефиниции религии, сразу же следует сказать, что мы не будем рассматривать сущностные определения, то есть определения, претендующие на характеристику самой сути религии. Дело в том, что такие определения, как правило, несвободны от идеологических коннотаций и предполагают ту или иную вполне определенную мировоззренческую позицию автора такого определения, равно как и человека, его принимающего. Например, марксистское понимание религии как иллюзорной формы отражения действительности приемлемо только для человека, стоящего на атеистических материалистических позициях. Напротив, гегелевское определение религии как формы самопознания Абсолютного духа в представлении приемлемо только для гегельянца. Это справедливо и для различных теологических определений, часть которых приемлема для верующих большинства конфессий, а часть – только для последователей группы близких конфессий. Поэтому эти сущностные или идеологические дефиниции вряд ли пригодны для объективного (в той мере, в какой объективность, конечно, возможна, ибо у любого исследователя, поскольку он является человеком, а не абстрактным познающим субъектом, имеются определенные предпочтения, симпатии и антипатии, которые, впрочем, следует делать предметом собственной научной рефлексии и держать под контролем) научного исследования.
Гораздо более привлекательными представляются эмпирические дескриптивные (описательные) определения, которые обычно стремятся выделить некое общее свойство, присущее всем, с точки зрения автора определения, формам религии, и поэтому в наибольшей степени и наилучшим образом характеризующие религию и религиозное сознание.
Из определений такого типа наиболее известным в нашей стране является определение Г. В. Плеханова, который считает наиболее важной, если угодно, сущностной чертой наличие веры в сверхъестественное. И для обыденного сознания это утверждение представляется вполне весомым и основательным. Действительно, какая же религия может не включать в себя веру в сверхъестественное? Однако, увы, как только мы приступаем к теоретическому анализу этого утверждения, то сразу же сталкиваемся с рядом проблем. Во-первых, слово «сверхъестественное» употреблено здесь вполне внерефлективно и само нуждается в разъяснениях и определении. Во-вторых, возникает вопрос, возможны ли некие нерелигиозные формы духовной культуры, которые также предполагают веру в сверхъестественное. И наконец, в-третьих, следует посмотреть, действительно ли все учения, квалифицируемые обычно без тени сомнения как религии, предполагают эту веру в сверхъестественное.
Начнем именно со сверхъестественного. Само это слово уже по своей внутренней форме предполагает в качестве своего референта нечто трансцендентное естеству, то есть природе. Это есть нечто сверхприродное, сверхнатуральное, как говорили в старину, а следовательно, неподвластное законам природы и стоящее над ними. Сверхъестественное трансцендентно, потусторонне, оно «не от мира сего».
Так можно ли сказать, что во всех религиях и во всех религиозных верованиях мы встречаемся с этим сверхъестественным? Никоим образом. Прежде всего, критерию «наличие веры в сверхъестественное» не удовлетворяют феномены духовной культуры, обычно относимые к примитивным или ранним формам религии. Наиболее характерный пример – магия. Совершенно очевидно, что когда первобытный охотник наносил удар по изображению быка или когда колдун наводил порчу на врага, воздействуя на символизирующую его фигурку, то они отнюдь не прибегали к помощи каких-то сверхъестественных сил. По существу, они просто неправильно (строго говоря, не соответствующим современным научным представлениям образом) истолковывали принцип причинности, причинно-следственных отношений. Еще точнее, они усматривали причинную связь между явлениями, но заменяли отношения причин и следствий при ее интерпретации отношениями симпатии (подобное к подобному). Аналогичная интерпретация причинности сохраняется иногда и в высокоразвитых культурах: принцип сходства видов (тун лэй) в традиционном Китае. В магии, таким образом, мы встречаемся не с верой в сверхъестественное, а с неправильным (не соответствующим нашим научным представлениям) пониманием естественных связей и отношений. Другими словами, магия коренится в определенной картине мира, существующей в примитивных культурах, но картине мира природного, естественного. Сказанное, однако, нельзя полностью переносить на поздние формы магии, например на средневековую европейскую магию, в которой исходный субстрат (естественная магия) оказался дополненным представлениями и образами христианской демонологии и ангелологии. Таким образом, существуют некие культурные феномены, относимые обычно к сфере религии, в которых, однако, нет веры в сверхъестественное. Отсюда следует вывод: нужно или перестать относить магию и другие аналогичные представления к сфере религии, или изменить критерий, определяющий сущностное качество религии.
Необходимо также отметить как курьезное то обстоятельство, что в качестве представлений, предполагающих веру в сверхъестественное (вариант: мистичных, оккультных), могут выступать не только архаичные представления о мире, связанные с попытками его осмысления, но и научные представления, резко выходящие за рамки общепринятой научной парадигмы. Вполне возможно, что рационалистический XVIII в. воспринял бы положения теории относительности или квантовой физики (особенно без их математического аппарата) как сплошную мистику и фантастику. Нечто подобное имело место и в нашей стране в период гонений на генетику и кибернетику.
Посмотрим, как обстоит дело со сверхъестественным в развитых религиях. И здесь нас ждут сплошные сюрпризы. Обратимся к двум религиям Индии – буддизму и джайнизму. Изучая их тексты, мы с удивлением убеждаемся в том, что признаваемые ими божества и демоны всего только определенные типы живых существ (наряду с людьми и животными), что они так же рождаются и умирают, хотя срок их жизни может быть измерен только астрономическими числами. Достижение их состояния отнюдь не является религиозной целью двух названных учений, и значительной роли признание их существования не играет. Более того, в основах доктрины буддизма и джайнизма не произошло бы никаких существенных изменений, если бы их последователи вдруг решили отказаться от веры в богов и демонов, – просто двумя классами страдающих живых существ стало бы меньше. Таким образом, в буддизме и джайнизме, во-первых, существа, наделенные божественным статусом, рассматриваются как вполне посюсторонние, то есть, строго говоря, не сверхъестественные, а во-вторых, их роль в данных учениях вполне ничтожна.
Религии Китая обнаруживают еще меньше склонности к вере в сверхъестественное; не совсем даже понятно, как можно было бы перевести само слово «сверхъестественный» на древнекитайский язык. Вполне показательно, что идеалом даосской религии является не что иное, как естественность, естественное. Как гласит «Дао дэ цзин» (№ 16): «Человек берет за образец Землю, Земля берет за образец Небо, Небо берет за образец Дао (Путь, первопринцип. – Е. Т.), Дао берет за образец самоестественность (цзы жань)». Идеал даосизма в конечном итоге сводится к следованию своей изначальной природе и к единению с природой как таковой. По справедливому замечанию синолога и миссионера-иезуита Л. Вигера, в религиозном даосизме мы встречаемся с описанием самых невероятных и фантастических событий и превращений, но все они объясняются естественным образом, что свидетельствует о том, что представление о чуде как некоем событии, принципиально нарушающем законы и нормы природы, было не только неизвестно даосизму, но и абсолютно чуждо ему. Да и все бессмертные, божества и гении даосской религии пребывают в пространстве Неба и Земли, в пределах сакрализованного, но вполне чувственно-конкретного космоса.
Даже в политеистических религиях Ближнего Востока древности, а также античных Греции и Рима идея сверхъестественного отсутствует. Древние египтяне были последовательными «монофизитами», пребывая в убеждении, что боги, люди, животные и другие существа обладают одной и той же природой.[3] Поэтому, в частности, и животные обожествлялись ими не за сверхъестественные, а как раз за самые естественные свои качества и свойства, что вызывало одобрение Джордано Бруно, видевшего в египетском культе животных лучшее выражение понимания всеприсутствия божественной природы.[4] Для греков и римлян также было вполне чуждо представление о богах как о трансцендентных сущностях.
По существу, только религии библейского корня (иудаизм, христианство и ислам) полностью удовлетворяют рассматриваемому критерию. Им присуще представление о трансцендентности Бога, о тварности и принципиальной иноприродности космоса и населяющих его живых существ, о чуде как божественном вмешательстве, нарушающем Богом же установленные законы природы.
В заключение следует с сожалением констатировать, что слово «сверхъестественное» зачастую употребляется в религиеведении не как однозначный термин и вообще не как понятие, а как слово обыденного языка, передающее интуитивное и внерефлексивное понимание чего-то как фантастического, не имеющего места в действительности и т. п. Помимо нетерминологичности такого словоупотребления оно опасно еще и потому, что нечто, представляющееся фантастикой и небывальщиной сегодня, может оказаться вполне реальным завтра (достаточно вспомнить о современной теоретической физике с ее теорией искривления пространства-времени или о генной инженерии; более спорные примеры, связанные, например, с парапсихологией, можно не приводить).
Вместе с тем существуют нерелигиозные формы духовной культуры (формы общественного сознания в марксистской терминологии), предполагающие если не веру в сверхъестественное, то по крайней мере признание его существования. Любая форма философии, обосновывающая или декларирующая существование некоей трансцендентной (в онтологическом смысле) реальности, как раз и является таковой. Достаточно вспомнить о мире парадигматических платоновских идей, чтобы убедиться в справедливости высказанного тезиса. Конечно, вопрос об отношении религии к философии весьма сложен, и рассмотрение его выходит за пределы настоящего исследования, однако автономность от религиозных представлений многих существовавших в истории философии концепций трансцендентного вполне очевидна.
Таким образом, можно констатировать, что ни само понятие сверхъестественного не является адекватным для характеристики религии, ни наличие веры в сверхъестественное не является достаточным критерием для отнесения того или иного феномена духовной жизни к религии.
Другим распространенным критерием для определения религиозного характера того или иного представления, верования или доктрины является проверка на наличие в нем оппозиции (или дихотомии) «сакральное – профанное», считающейся фундаментальной для религии. Эта идея восходит к трудам М. Вебера и Э. Дюркгейма, однако широкое распространение в религиеведении она получила благодаря работам М. Элиаде. На первый взгляд этот критерий имеет ряд преимуществ по сравнению с рассматривавшимся выше. Действительно, сакральным (священным) отнюдь не обязательно должно быть нечто сверхъестественное, потустороннее, надприродное. Сакральностью может быть наделено любое существо, любая часть природы или же природа в целом. Наконец, учения, декларирующие тотальную сакральность существования, тем не менее имплицитно также не лишены данной дихотомии на бытовом или практическом уровне: пусть вся тотальность бытия во всех его проявлениях сакральна, но сакральность стирки семейного белья настолько ниже сакральности посещения храма или медитативного созерцания священного единства, что ее, по существу, можно счесть делом вполне профаническим. Следовательно, без понятия сакрального, точнее, без отношения к чему-то как к сакральному ни одной религии быть не может. Но понятие сакрального бессмысленно само по себе, без его соотнесения с чем-то отличным от него, то есть оно обладает содержательностью только относительно понятия профанного, являющегося его смысловым и идейным антонимом. Итак, для любой религии характерен дуализм «сакральное – профанное». Наличие этого дуализма – верный критерий для отнесения того или иного явления духовной жизни к религии.
Однако, думается, и этот критерий, несмотря на его несомненные преимущества, не является полностью удовлетворительным. Рассмотрим основания этого утверждения.
Прежде всего следует еще раз сказать о религиях тотальной сакральности. Как уже говорилось выше, древние египтяне были «монофизитами», считавшими, что все существа и даже вещи наделены одной и той же природой и различия между людьми и богами – это не различия по природе, а лишь по степени проявления этой природы. То есть речь идет не о сакральности и профанности, а лишь о степени сакральности. Таким образом, данной оппозиции в чистом виде в воззрениях египтян и, добавим, других древних и примитивных народов не наблюдается.
Достаточно непросто обстоит дело с противопоставлением сакрального и профанного и в высокоразвитых религиях. Так, буддизм Махаяны декларирует принципиальное тождество нирваны (сакральное) и сансары (профаническое существование), причем сама сансара оказывается плодом неведения, фундаментального или трансцендентального заблуждения (авидья), членящего единую и недвойственную (адвая) реальность. Некоторые школы Махаяны также провозглашают недвойственность (недихотомичность) сансары и нирваны, причем интуитивное переживание (праджня) этой недвойственности оценивается как просветление или пробуждение. Типологически близкие идеи существуют и в рамках брахманско-индуистской традиции (адвайта-веданта). Интересно также, что именно недихотомичное видение реальности, снятие оппозиции «сакральное – профанное», элиминация дихотомичности мышления вообще рассматривается в качестве религиозного идеала. Более того, в буддийской традиции Ваджраяны (уровень тантр наивысшей йоги – аннутара-йога тантра) даже подношения Будде часто совершаются не цветами или иными благообразными предметами, а отбросами и нечистотами – для более наглядного и демонстративного выражения идеи недихотомичности реальности и иллюзорности оппозиций типа «прекрасное – безобразное», «священное – профаническое» и т. д.
На сказанное выше можно возразить, что здесь, при отказе от теоретического противопоставления сакрального профанному, сохраняется противопоставление по этому принципу на практическом уровне. Например, махаянисты, отвергающие дуализм сансары и нирваны, тем не менее живут в монастырях, отправляют определенные обряды, читают молитвы, занимаются медитацией и совершают подношения Будде (пусть даже и в виде нечистот). Вот эта-то деятельность и будет формировать сферу сакрального в буддизме, резко отличающуюся от профанного существования индийского крестьянина с его постоянной заботой о хлебе насущном и прекрасным пониманием отличия монастыря (где сакральное) от своей хижины (где профанное).
Однако на этот аргумент можно ответить контраргументом. В рамках той же тантрической традиции буддизма сложилась традиция так называемых махасиддхов (великих совершенных), то есть подвижников-йогинов, которые стирали грань между сакральным и профанным, так сказать, самой своей жизнью, причем они не сакрализовали профаническое, как можно было бы предположить, а профанировали сакральное, что, понятно, было более шокирующим, а потому и более наглядным. Махасиддхи принципиально противопоставляли свой образ жизни образу жизни не только монахов, но и благочестивых мирян, вызывающе нарушая нормы буддийской морали и индуистской ритуальной чистоты. Они могли жить вместе с париями, есть не просто мясо, а тухлое мясо, пьянствовать, посещать дома терпимости и тем не менее слыли великими святыми и чудотворцами. Внешне такое девиантное поведение роднит их с юродивыми, однако только внешне, ибо сходные типы поведения базируются на принципиально различных установках. Для юродивого это идея кенозиса, «рабьего зрака Сына Божия» и слова евангельского текста о том, что получающие награду на земле уже не получают ее на небесах. Для махасиддха основанием его поведения является прочувствованное признание принципиальной недуальности, недихотомичности и неиерархичности реальности. Понятно, что при подобном подходе любое противопоставление по принципу «сакральное – профанное» будет восприниматься как проявление неведения, иллюзорно членящего (викальпа) недвойственную реальность.
Другое дело, что позднее религиозная традиция (особенно на ее низовом, «популярном» уровне) может сакрализовать и подобный тип поведения для особых представителей духовной элиты. Так, между прочим, был сакрализован шафранный цвет одежд буддийского духовенства, первоначально бывший цветом низших варн индийского общества и париев, а следовательно, и цветом смирения и отречения от мирских благ и ценностей. Но это имеет отношение уже к социологии религии, к проблеме функционирования тех или иных традиций в разных социумах или к процессу социализации и рутинизации религиозного опыта (по аналогии с веберовской рутинизацией харизмы), а отнюдь не к проблеме «сакральное – профанное» как фундаментальной характеристике религии.
Более того, поскольку само понятие «сакральное» значительно шире понятия «сверхъестественное», то и элементы дихотомии «сакральное – профанное» («священное – обыденное») мы можем найти и за пределами религии, в гражданских церемониях и ритуалах, в почестях, оказываемых символам государства, и т. п. По сравнению с этими ритуалами вся обыденная деятельность (семейные дела, работа, хобби и т. д.) также будут нести на себе оттенок профанического. Кстати, именно по этой причине нельзя не только поставить знак равенства между понятиями «религия» и «культ», но и рассматривать наличие культа как фундаментальный признак религии, поскольку культ может быть и вполне секулярным. Сказанное относится не только и не столько к метафорам типа «культ личности», сколько к таким явлениям общественной жизни, как мемориалы, мавзолеи, поскольку самое их использование и связанный с ними церемониал имеют культовый характер, тем не менее остающийся вполне секулярным. Именно с этим обстоятельством связано недоразумение с конфуцианством, часто относимым популярной религиеведческой литературой к религиям. В действительности конфуцианство является вполне светской идеологией, будучи этико-политическим учением. Конфуцианские же ритуалы совершенно справедливо сравнены известным синологом В. Эберхардом с почестями, оказываемыми государственному гербу и флагу.[5] Это хорошо понимали уже миссионеры-иезуиты XVII–XVIII вв., разрешавшие новообращенным китайцам отправлять конфуцианский культ как имеющий гражданский, а не религиозный характер. И тем не менее встречаются работы (написанные, правда, в основном не синологами), в которых конфуцианство рассматривается как религия.
Из всего сказанного выше следует, что наличие дихотомии «сакральное – профанное» никоим образом не может считаться определяющим признаком религии.
Еще хуже обстоит дело с определением религии как веры в Бога или в богов. Хорошо известно, что существуют учения, единогласно относимые к религиям, в которых подобная вера отсутствует. Иногда их называют даже «атеистическими» (т. е. «безбожными») религиями, что, впрочем, вряд ли удачно, ибо в современных языках слово «атеизм» означает безрелигиозность, а не безбожие, почему религии такого типа лучше называть нетеистическими, какими являются буддизм, джайнизм и даосизм. Что касается Китая, то даже и в самом китайском языке отсутствует слово «бог», на что обратил внимание еще А. Шопенгауэр.[6] Слово шэнь означает: психическое начало в человеке (ср.: шэньсюэ – «теология»), дух в его отличии от тела (дух умершего), нечто необычное, сакральное, стихийное, природное божество (божество ветра, дождя, горы и т. п.). Поэтому христианские миссионеры так и не могли решить, как переводить слово «бог» на китайский язык, а первые проповедники-иезуиты вообще предпочитали транскрипцию тэусы (от лат. deus и греч. theos).
В буддизме и джайнизме, как уже говорилось, так называемые божества (дэва) просто вид живых существ, подверженных заблуждениям, страстям, рождениям и смертям. Обе религии отрицают существование единого Бога, творца и промыслителя, считая веру в него серьезным заблуждением. При этом джайнизм верит в существование вечных субстанциальных и несотворенных душ, спасение которых (точнее, освобождение, нирвана) – его цель, а буддизм отрицает и это, проповедуя доктрину анатмавады об отсутствии неизменного субстанциального «я» или души.
Таким образом, наличие веры в Бога или богов также не может считаться сущностным признаком религии. Религии многообразны, и мы не можем подходить к ним, исходя из такого европоцентристского критерия, как наличие веры в Бога. Действительно, для человека, воспитанного в традициях европейской культуры и не имеющего достаточно основательного знания иных культур, вера в Бога кажется естественной основой религиозных представлений, поскольку она является таковой для иудео-христианской традиции, но профессиональный религиевед, разумеется, не может проявлять такую узость подхода и игнорировать материал как примитивных форм религии, так и великих религиозных традиций иных, нежели средиземноморская, цивилизаций.
Собственно, именно имплицитное отождествление религии вообще и христианства, приводившее к проецированию выводов, сложившихся на иудео-христианском материале, на другие традиции (что в целом было естественно для европоцентристской установки ученых прошлого), оказало негативное воздействие на философию религии XIX столетия. В качестве характерного примера можно привести антропологическую философию религии Л. Фейербаха, считавшего, что в религии человек обожествляет свою собственную сущность и гипостазирует ее в виде всеблагого и всесовершенного Бога, которому и поклоняется. Но для универсальной значимости такой теории необходим и универсальный теизм, который, однако, в истории религий наблюдается отнюдь не часто. Даже И. Кант, говоря о постулатах практического разума, называет в качестве основ нравственности веру в Бога, бессмертие души и свободу воли (правда, Кант оговаривается, что место личного Бога может занимать и представление о безличном нравственном законе типа античного возмездия). Между тем буддизм в самых основах своей доктрины провозглашает отказ от веры в Бога, душу и достаточно специфически трактует свободу воли, одновременно демонстрируя весьма высокий нравственный стандарт, на что именно в связи с кантовской формулировкой обратил внимание академик Ф. И. Щербатской.
Уверенность в том, что в основе религии лежит вера в Бога или богов (то есть в некое абсолютно совершенное Существо или в могущественных сверхъестественных существ), была настолько присуща старому религиеведению, что ему казалось, будто специфика всех религиозных представлений (по крайней мере, всех развитых религиозных учений) может быть выражена при помощи терминов, включающих в себя греческое слово theos: теизм, пантеизм, деизм, панентеизм и т. д., и даже слово для обозначения безрелигиозности звучит как «безбожие» (атеизм), что позволило Марксу не без остроумия назвать атеизм последним этапом разложения христианской теологии.
Из всех этих терминов самым неудачным является «пантеизм», поскольку, во-первых, это слово прилагается к учениям едва ли не противоположного характера, а во-вторых, ему в истории религии, кажется, ничто не соответствует. Здесь, в частности, уместно вспомнить весьма содержательную критику этого термина Гегелем в заключительных пассажах «Философии духа». Позволим напомнить читателю: Гегель отмечает, что из самого понятия «пантеизм» («всебожие») следует представление о Боге как обо всем, то есть как о некоей совокупности эмпирических объектов. Однако такого представления Гегель вполне справедливо в «пантеистических» религиях не находит, хотя обращается и к индуистской традиции (Бхагаватгита), и к суфизму (Джалал ад-дин Руми).
Когда применительно к какому-либо учению (религиозному или философскому) прилагают термин «пантеизм», то обычно исходят из тезиса, согласно которому пантеизм – это учение, провозглашающее тождество мира и Бога (Абсолюта). Такого рода учения бывают двух типов: первые говорят об имманентности божественности чувственному космосу как целому и в предельном варианте приходят к идее divina materia (божественной материи), самый яркий пример – Джордано Бруно; тогда как вторые говорят о полной нереальности и даже иллюзорности мира и единственной реальности Бога как безличного Абсолюта, самый яркий пример – адвайта-веданта Шанкары.
Если Джордано Бруно утверждал, что природа – это Бог, воплощенный в вещах, и практически воспринимал Бога как мир в качестве единого целого или же как внутреннюю суть универсума, то Шанкара, напротив, утверждал, что хотя мир и Абсолют (Брахман) тождественны, мир является чистой иллюзией (майя), кажущейся реальностью лишь в силу неведения (авидья): «Брахман реален, мир ложен, душа неотлична от Брахмана». К натуралистическому холизму типа учения Бруно будет тяготеть, например, стоическая философия, а из новоевропейских учений – система Спинозы, тогда как к иллюзионистскому монизму веданты будет приближаться суфийская доктрина вахдат-ал-вуджуд (единство существования), разработанная Ибн ал-Араби (это учение рассматривает все уровни универсума как различные ступени или аспекты самоопределения Абсолютного духа).
Понятно, что эти учения настолько радикально отличаются друг от друга, что относить их к единой рубрике «пантеизм» достаточно бессмысленно. Если же мы попытаемся сделать это, то понятие «пантеизм» станет просто бессодержательным.
Что касается буддизма и джайнизма, то, как уже говорилось, они могут быть названы теизмом только с отрицательным префиксом «не» или «анти». Нельзя квалифицировать через понятие «бог» и даосизм, в котором оно вовсе отсутствует.
Таким образом, вера в Бога или богов также отнюдь не является сущностным признаком религии.
Еще менее удовлетворительны попытки свести религию к культу и рассмотреть культ в качестве определяющей характеристики религии. О причинах этого сказано выше в связи с рассмотрением феномена конфуцианства.
Пока мы пришли к чисто отрицательному результату, ибо потерпели неудачу в попытках подобрать адекватное дескриптивное определение религии и выделить некое свойство, которое могло бы характеризовать сущность религии как таковой. Но может быть, поисками определения религии не стоит и заниматься и достаточно ограничиться тем фактом, что все мы владеем некоторым интуитивным пониманием того, что есть религия, или по крайней мере набором тех признаков, которые ее характеризуют. Как писал У. Джеймс, слово «религия» следует рассматривать скорее как собирательное имя, нежели как обозначение единого и цельного явления. С точки зрения Джеймса, попытка создать некое отвлеченное понятие, в котором все особенности конкретных религий стираются, больше затемняет явление, чем проливает на него свет.
Разумеется, для религиеведческого исследования, ставящего своей целью описание и упорядочение некоего эмпирического материала, то, о чем говорит У. Джеймс, вполне приемлемо. Однако при исследовании в области теоретического религиеведения все-таки следует задаться вопросом, что же лежит в основе нашего интуитивного знания о природе религии, каким бы аморфным оно ни было, или, говоря кантовским языком, каковы трансцендентальные основания этого знания. Поэтому следует все-таки стремиться выделить тот признак или группу признаков (возможно, образующих определенную структуру, вне которой они ни по отдельности, ни все вместе не обладают характеризующей понятие «религия» функцией), являющихся общими для известных нам религий или позволяющих нам считать их таковыми. Выделение этих сущностных признаков, однако, возможно лишь в рамках определенной, четко сформулированной методологии (парадигмы): информация такого рода вне интерпретирующей модели останется просто информацией, материалом и не приобретет даже статуса научного факта, не говоря уже о какой-либо теоретической функции. Потому попытки найти положительный ответ на вопрос о природе религии и о ее сущностных свойствах мы предпримем ниже, после того как будут сформулированы методологические принципы настоящего исследования. Пока же обратимся к аналогичному рассмотрению термина «религиозный опыт» и определим, в каком смысле мы будем его употреблять.
3
Об этом см.: Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. М., 1984. С. 71–78.
4
Подробнее см.: Yates F. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. L., 1964.
5
См.: Эберхард В. Китайские праздники. М., 1977.
6
Шопенгауэр А. О воле в природе. Синология // Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2. М., 1993. С. 100.