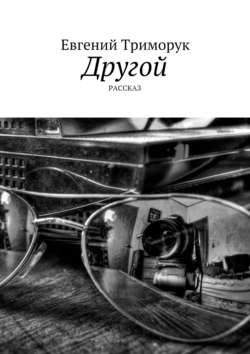Читать книгу Другой. Рассказ - Евгений Триморук - Страница 3
ДРУГОЙ
Рассказ
ОглавлениеКаждый имеет право на убийство.
(Из разговора с девственницей).
Автору следовало бы умереть, закончив книгу.
Умберто Эко.
Со стороны казалось, что они давние знакомые. Присмотрись кто-нибудь из персонала, то, помимо ярлычного «залетные» или «случайные», припомнили, что двое, немало выпившие и изрядно дымящие, отстранились в какой-то неопределенный момент неопределенного времени в неопределенном темном углу, куда редко заглядываешь, но посматриваешь, когда неторопливые официанты все-таки решили обслужить тот столик.
Тот – это очень частое условное обозначение тех мест, которые как ни называй, какую не приписывай им нумерацию в пределах ресторанного зала, все равно останется прежним, как самое непривлекательное. Его попросту сложно обслужить из-за столба, который прикрывает большую часть стола, и к нему неудобно пробираться, когда зал полон гостей. Любой в порыве эмоционального разговора о рыбалке махнет наотмашь или дернет локтем, так что весь поднос полетит к чертям. Никто ведь не думает, как принято убеждаться, о персонале, об официанте, проходящего мимо вас.
Никто позже и не скажет, как и с кем те двое за тем столиком объявились в кафе «Тир» с убитыми двумя первыми буквами. И к тому моменту, как их мог услышать посторонний, перестукивающий словно азбуку Морзе по миниатюрным клавишам, и, видимо (действительно видимо, не как вводное слово) вздрагивающий в неоновом свете, идущем от монитора, видимо вздрагивающие на резкие выбросы скрипящей музыки, они двое, те за тем столиком, вплотную, приговорив несколько бутылок водки, подошли к важному, может быть для обоих, вопросу. Они заговорили об убийстве.
Ни заговор их не прельщал, ни убийство ради наследства старушки Ростовщикиной, ни мировое равновесие – чистое решение морального или аморального права. Как будто у аморальности есть права.
Точнее, заговорил один, другой, намеренно мужиковатый и тяжелый, с типичной татуированной стрелой, прикрывающей порез под левым глазом, слушал, перебивая говорливого собеседника настолько редко, что его ответы не преодолевали созданный ими обоими пространственный вакуум.
Это была одна из тех по истине поэтических атмосфер, в которую погружаются художники. Это было то место силы, которое притягивает сочинителей. Это был мир вне этого мира.
Знаки приветствия, как водится, – и чтобы не вдаваться в подробности, обширные и навязчивые, – давно прошли. Первый момент опьянения преодолен. Поговорили о том, что чаще всего обсуждают взрослые люди: солдатчину, супружество, отцовство. Коснулись различных анекдотических случаев: в офисе, во дворе, в гараже. Зацепили похмельный синдром, наливающийся своей абстрактной плотью и кровью в своих циклически повторяемых и повторяющихся мыслях. Притерлись в откровениях более интимных, где приврав несколько, где недоговорив достаточно; где пошлых, где нежных, где дерзких, где трогательных и где, в общем, скучных и уверенно благих байках. Кое-что приметили. Кое-кого пропустили. Что-то забыли. О чем-то и вовсе не вспоминали.
В общем, в меру пошловатый, в меру откровенный, в меру искренний разговор. И настолько увлеклись, что как будто даже перестали пьянеть. Отвлеклись от киргизки со славянским именем на бедже, неоднократно сойдясь на том, что «они» быстро стареют; от молдаванки, взгляд которой как будто говорил, что все мужики – ишаки, при этом отходившей от столика с намеренной медлительностью, от чего грушевый таз, укорачивающий ноги и удлиняющий спину, утратил былую привлекательность своей тяжеловесной перекатывающей назойливостью, бросающейся в дремучие глаза посетителей; от русской, не отличающейся вкусом и опрятностью в повадках и выражениях, небрежно что-то смахнувшей, но так и не убравшую две-три попадающие под ладонь крошки. Оценили, прихвастнули, сравнили, прикинули, завлечь ли красиво, или с претензией, как бы между словом, вновь провожая и упуская то одну, то другую виду. Приметили двух «студенток», то хихикающих, то по-умному поглядывающих на других, более претенциозных гостей.
Размеренная обстановка «Тира» в тихом г. Рабнеры располагала к неторопливому разговору.
Более солидные представительницы по-детски улыбались или вели себя смиренно. Изредка доносились весомые слова, полные смысла и обозначения, но как они связаны были с содержанием какого бы то ни было разговора, уже не сообразишь. Такое слышишь очень часто, и порой хочешь подсесть и поговорить по, как говорится, человечески, тет-а, так сказать, -тет. Но обычно не хватает смелости.
Гости в том углу затянулись, выпили, закусили, забыли.
Тимофей Трамм, в окончательной редакции по прозвищу Шерлок Хармс, тот, который говорил за двоих, относился к одному из тех типов гостей, которые по своему странному обыкновению (или совпадению) знают всюду весь персонал и посетителей. Или они попросту так себя ведут, словно давно со многими перездоровались за руку, воздушно крест-накрест в обе щеки перецеловались, крестили их детей и знают родословную до третьего колена. Тимофея не страшили условности, потому что он их порой не замечал; как не знал, что есть нормы приличия средневековый аристократ, облегченно вздыхающий, опустошив урчащий и тяжелый желудок в присутствии рабыни.
Тимофей, прочитав нацарапанную на поверхности стола надпись с исчезающими многоточиями, про себя обозвал своего собеседника «Эттон», хотя вслух настраивался его называть иначе. Как-нибудь по-дружески, по-приятельски, по-свойски.
Надо сказать, что у Трамма были очевидные комплексы, которые, безусловно, произрастали из дремучего детства. К нему очень легко цеплялись различные прозвища вообще. Они, как ветрянка или весенняя аллергия, не обходили его стороной очень долгое время, за что он носил звание Тимофей Штамм, а не Трамм. За неуместное нагромождение в речи шипящих, где их не должно было быть, Трамма величали то Штормом, то Шаурмой. Кто-то из острословых однокурсников и заметил эту особенность. Сравнив удивительную способность Тимофея ко всякого рода лингвистическим несуразицам, неизвестный признал в нем эволюционный «нюх сыщика», за что Тимофея настойчиво, беспрекословно и грубо тут же переименовали в Шерлока. И ведь озорник не прогадал, потому что, учитывая абсурдность подобной трансформации, которая так легко на лету не ловится, все признали очередного Шерлока Шрама убедительным и вполне себе достоверным. И даже приди насмешникам в голову добить своего приятеля, дав законную фамилию известного персонажа, как вдруг бывший Тимофей и пожелай возмутиться, но, видимо, так переволновался, что вместо «я не Шрам, а Трамм» у него вырвалось «Срам». К счастью, его друг был милостив, учтив и лишен пошлости, поэтому, насмеявшись от души и до боли в челюсти, он, может быть, еще ощущая ледок конфеты от кашля «Холмс», благосклонно нарек свою жертву Хармс.
В кафе «Тир» Шерлок Хармс, отстранившись в сторону, несколько вбок, чтобы рассмотреть себя в сумеречном зеркале за спиной «гостя», мысленно улыбнулся, словно осознавая, что, во всяком случае, ведет монолог с самим собой, если напоминать себе, что за массивной фактурой напротив находится его собственное улыбчивое отражение.
«Так вот, – разливал он водку на две трети рюмки, – представь себе самого грязного, гадкого, самого мерзкого человека на свете, внешность которого и поступки полностью соответствуют его отрицательной сущности. Некоторые, как бы их назвать, пытались создать абсолютно положительный, идеальный, собственно, персонаж. Многие знают, что большинство героев сами по себе отрицательные. Если подумать, то преподавать стоит только… – Слегка поперхнулся. – Но в любом случае, выпьем, – осушил, закусил, затянулся, – в любом случае, по-настоящему отрицательного героя нет. То ли в силу того, что автору, да, не хватает воли, то ли попросту персонаж наделен стандартной совестью. Без чрезмерно избыточной фантазии здесь не обойтись. Создать героя без совести очень сложно».
Подошедшая киргизка, слегка наклонившись, предложила повторить. Тимофей, научившись естественной грации, чтобы ее и себя больше не отвлекать, заказал бутылку «Статичной», отметив, чтобы принесли непочатую; попросил несколько порций лимона, клюквенный морс и томатного сока на всякий случай. (Любил запивать). Замысловатым жестом официанту обозначил, что соль кончилась. Девушка кивнула.
Естественный бросил несколько незначительных реплик, кинул несколько двусмысленный взгляд на ее полуобнаженную грудь, и как будто брезгливо ухмыльнулся ей вслед, пока пьяная фигура, затесавшись между ними, не прервала и без того тонкую грань чистого воображения.
– И словно молотом незнакомка пробила его мозг. – Пробормотал Тимофей. – Так о чем я? – Разливал он оставшееся с прошлого раза. – Шапочное знакомство. Естественный, мой друг призрак, тушит окурок. – Гостю. – Нужно оправдание. Иначе неувязка. Как это человек может стать не человеком без видимых причин? Да хоть и невидимых. А они должны быть. И под это «они» может подпадать что угодно. Тяжелое детство, первая любовь, психологическая травма, крушение грез, неудачный брак, нелепый развод, и т. д. и т. п. Перечислять можно до бесконечности. Возьмем стереотипный вариант, так сказать, горревудский. Выпьем. – Оглушил, запил, подкурил. – Возьмем, и опять же, это все условность, тихого и серого семьянина, обожающего свою жену и детей. Живущего в этом уюте и довольстве. К примеру, достаточно усидчивого, чтобы считаться хирургом, химиком, или инженером, или, на худой конец, программистом. Говорю же, – затянулся, – стандартная ситуация. Но не суть. Не это важно. Это платформа. Предисловие. Фасад. – Осмотрел зал. Бармен что-то нашептывал русской официантке, на что та, сдерживаясь, хихикнула, обнаружив на себе строгий взгляд менеджера. – Жена как жена. Дети как дети. – Продолжал, почти не задумываясь, или отстраняясь по ходу дела на что-то свое, невыраженное. – Его оболочка. Его халат. Его диван. – И словно бы проснувшись. – Я говорил, что вещь назвал «Цикл»? Нет.