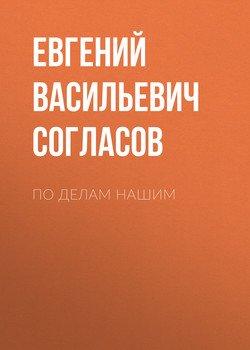Читать книгу По делам нашим - Евгений Васильевич Согласов - Страница 1
ОглавлениеЛюбачёвский детектив
В году, который нам сейчас, пожалуй, и осмыслить-то сложно, в 1598-ом от Рождества Христова, а от сотворения мира и того представить страшней, в 7106-ом, ехал в село Любачёво человек по имени Никодим, губной целовальник. То, что целовальник губной, оно как бы и естественно, но губа в этом случае не то чтобы не дура или дура не закатанная, а совсем иного рода и к поцелуям не зовущая. А целовальнику, хоть и приходилось по обязанности челомкать, совершая присягу, крест, скорее всего серебряный, но сами обязанности иметь незавидные.
Везла Никодима на своей спине красно-пегая кобыла, неказистая, но достаточно справная. Дорога, петляя между полями и перелесками, походила на брошенный впереди кушак, пояс, и сулила заботы. Подъезжая к селу, Никодим перевёл кобылу с рыси на скорый шаг, и она бодро закивала головой и гривастой шеей в такт хода, словно благодаря седока за послабление.
Свою голову Никодим держал на плечах твёрдо, только она у него была заморочена предстоящим делом, приведшим его в это село. Другой заботой являлось собственное хозяйство, о котором Никодим задумался, проезжая ржаными полями с работающими на них крестьянами: мужиками, бабами и их детьми. Стояла середина августа и жатва была в разгаре. Вскоре Никодим поздоровался со знакомым любачёвским мужиком Тарасием, человеком лет сорока, как и Никодим, только в отличие от коротконогого Никодима, Тарасий казался долговязым. Оба худы. Ну и по обычаю всех мужиков того времени – оба бородаты. Правда, Тарасий носил бороду густую и чёрную, а Никодим реденькую, рыжеватую и уже с проседью.
Тарасий, почёсывая в затылке, вышел к дороге почесать язык со знакомцем и, заодно, дать отдых уставшей спине. Кстати, рубаха его на спине и плечах вымокла от пота. В руке он держал серп.
"Помогай Бог, – первым заговорил Никодим, останавливая лошадь. – Здорово, Тарасий. Как хлебушко?"
"Спаси Бог, Никодим, этот год, кажись, с хлебом будем, – с охотой откликнулся Тарасий. – Я, чаю, и вы не в убытках?"
"Так, считай, в одних палестинах проживаем. Слава Богу, слава Богу".
"Добро, добро, – Тарасий невольно прищурил один глаз и задал вопрос, который и подстегнул его выйти к дороге, лишь только он издали увидел едущего целовальника. – А ты проездом, Никодим, или к нам, в Любачёво?"
"Как же! Вас не проедешь, ни на кривой кобыле не объедешь. Творите дела". – "Это ты про Митрия?" – легко догадался Тарасий. – "Про покойника вашего. Так его ещё и Митрием кликали? Одно к одному".
Тут из несжатой ржи выскочила лохматая собачонка и облаяла Никодима вместе с его лошадью. Лошадь дернулась вперёд, Никодим едва не выпал из седла.
"Тпру-у-у, холера", – остановил лошадь Никодим, натягивая поводья. Он нахмурился и на неожиданность звонкого лая, и на рывок лошади, и на свои последние слова, не совсем осторожные, не для постороннего уха.
"Пшёл! Пошёл, Трезвонка, – заставил замолчать кобелька Тарасий. – Ишь, перед хозяином выкобенивается". Трезвонка, как ни в чём ни бывало, улёгся тут же в траву и принялся, делая быстрые движения кудлатой головой и щёлкая зубами, ловить мух.
"Это он правильно, – похвалил целовальник. – Всяка сволочь норовит перед хозяином показать себя".
"А ты и не знал, что его Митрием звали?" – попытался вернуться к разговору Тарасий.
"Знал, – вяло ответил Никодим. – Про то в бумаге прописано было. Забыл. Ладно, Тарасий, у тебя дело и у меня наказ. Поеду. И тебе ведь вёдро не век стоять будет".
Никодим тронул лошадь, ударив ей в бока каблуками сапог.
"Известно, до Ильи и поп дождя не умолит, а после Ильина дня и баба фартуком нагонит, – жалея о прерванной вдруг беседе, говорил Тарасий вслед Никодиму.
"Тпру-у, – остановил лошадь целовальник и обратился к Тарасию. – А что, нового батюшку вы себе выбрали?"
"Точно, выбрали. Как раз перед Ильиным днём. И рукоположение принял. Отец Офонасий ". – "Офонасий? Не тот ли, который при отце Ларионе в помощниках ходил?"– "Верно, он самый”. – "Смышлёный, помню. Но с чудинкой. А?" – "Ну, это на чей глаз". – "Так оно. Бывай, Тарасий". – "Бывай, бывай, Никодим. Трезвонка, пойдём, робить надо".
Тарасий, с послушно побежавшим за ним кобельком, отправился, помахивая серпом, к своей полосе, где трудилась, не разгибая спины, его семья. "А что вроде бы как и невеселы, – обратился он к родным, подходя. – А ну, Фёклушка, заведи песню".
Сноха, жена среднего сына, затянула красивым голосом:
Жали мы жали,
Жали пожинали.
Жнеи молодые,
Серпы золотые.
Хор голосов подхватил:
Ой и чье это поле
Зажелтело стоя?
Иваново поле
Зажелтело стоя
Жницы молодые,
Серпы золотые!
Песня полетела над полями и приятно затронула Никодима. "Хорошо поют, – похвалил про себя Никодим. – Побыстрее уж разделаться с этой чертовщиной, да облегчить душу. Пожалуй, тогда и сам запою".
Улицы села оказались пусты, народ работал в поле. Целовальник увидел в одном дворе старуху, спросил у неё квасу, квасу не оказалось, или старуха пожалела. Спросил воды, напился и поехал через село мимо серых изб на другой его край, где находилось, он знал, поле старосты. Староста, хоть и поджидал целовальника, не смог полностью скрыть свою досаду от его приезда. В страду каждый час работы дорог. Староста, мужик лет пятидесяти, сухой, жилистый, с седой окладистой бородой, неторопливо подошёл к Никодиму.
"Доброго дня, Иван, Бог в помощь", – усмехаясь про себя на недовольство старосты, поздоровался Никодим. – "И тебе доброго дня, Никодим, – утирая пот с лица, ответил староста. – Быстро к вам вести приходят". – "Быстро доносят. Собирай всех, Иван. Хошь, не хошь, а дело надо справить. Покуда до Москвы не дошло". – "Да я ничего, – приводя себя в ровное состояние, сказал староста. – Дело так дело. Давай только для начала пожуём чего-нибудь. Не евши и блоха не прыгает". – "И то. Беда – бедой, а еда – едой", – целовальник в таких случаях никогда не перечил.
Никодим выехал из уезда поутру, теперь близился полдень, и он охотно согласился перекусить. Пока староста с целовальником дома у первого обедали щами да пирогами с кашей, собрались вытребованные для дела люди, за которыми староста загодя послал. Первым пришёл сотский, благообразный пожилой мужик, за ним вскоре явился десятский, моложавый, неприветливый, хмурый человек. Да и неудивительно, щека его была подвязана по причине больного зуба. Последним появился сельский священник, отец Офонасий. Священники в то время, помимо всего прочего, участвовали в расследовании преступлений. Забавный факт, не правда ли?
"Гляди-ка, батюшка ваш на мерине сивом приехал"', – смеясь, подивился целовальник. – "Отец Офонасий наш и время, и ноги бережет. У него ведь тоже надел, тоже сжать надо", – пояснил староста. – "Семья большая у него?" – "Попадья да трое деток". – "И то, время дорого, давайте уж и наше дело сожнём".
Дело, всполошившее уезд, состояло в следующем. Погиб, живота лишился, житель села Любачёво Митрий, младший сын домовитого крестьянина Луки. Погиб-то погиб, не первый и не последний, да чересчур загадочно. Да и леший бы с ним, что загадочно: погадали-порядили б, да и забыли. Но, к тому же, совокупилось происшествие с рядом совпадений, о которых кумекали, кое-кто и подмигивая уже, соображая, а спроста ли эти совпадения?
Лишился жизни упомянутый Митрий от ножевого удара, а нож тут же в его руке и обнаружился. Сам себя порешил? Может оно и так, потому что больным человеком знали Митрия, с детства. С детства болел чёрной болезнью или, попросту, падучей. Упадёт наземь, глаза закатятся, тело трясётся, словно бес в нём поджариваемый мечется, а изо рта пена идёт. В таком припадке человек себя не сознает, и всякое с ним приключиться может. Но вот способен ли он себя ножом порезать?
Однако не сам этот вопрос беспокоил власти жгуче. В уезде всполошились из-за поразительного сходства происшествия с событиями семилетней давности в Угличе. Как известно, тогда погиб царевич Дмитрий, последний сын самого Иоанна Васильевича, царя Ивана Грозного, и младший, единокровный, брат тогда царствующего Фёдора Ивановича, царя болезненного да бездетного. Что ж, тут же поползли ядовитые слухи о причастности к смерти царевича ближайшего и влиятельнейшего помощника царя боярина Бориса Годунова. Мол, царь бездетен, есть возможность вскочить на престол выскочке. Сразу же из Москвы снарядили особую комиссию во главе с боярином и князем Василием Шуйским для "обыска", то бишь расследования. Дело так и предстало: то ли царевич сам себя жизни лишил в припадке эпилепсии, играя в ножички, "в тычки", то ли все-таки бедняга убиен был злоумышленниками. Хотя толком никто не видел, как и что случилось, поскольку, по тогдашнему славному русскому обычаю, угличане предались послеобеденному сну. Только представьте, пробил послеобеденный час, и почти вся тогдашняя Россия почивает. В первый момент после пробуждения подозреваемых в злом умысле разъярённые угличане бездоказательно растерзали на месте. Из простодушия, наверное. Ой, быстро наш народ ярится, особо, когда ему есть или спать не дают. Растерзали, убили до смерти. Концы в воду? Так что комиссия московская могла смотреть только на трупы, допрашивая лишь свидетелей. Правда, трупами сильно не любопытствовали, допрашивали свидетелей, "послухов". При этом совсем не допросили мать царевича, Марию Нагую. С одной стороны, оно, конечно, понятно, царской семьи дама, пусть и вдовствующая, да в черноте горя, а с другой – как интересы дела? В общем, вывод следствия оказался таков: зарезался царевич, полоснул себя ножичком по горлу и приказал, уже даже и не пользуясь своим положением в обществе, долго жить. Вывод комиссии утвердил Освященный собор во главе с патриархом Иовом. Да. Царицу Марию Нагую за учинённые по её истерике беспорядки в Угличе и расправу постригли в монахини. Братьев её сослали туда, куда Макар телят не гонял и не собирался. Туда же, а то и подальше, отправили впавших спросонья в ярость мужиков-угличан, тех, кого не повесили. Даже колоколу Углича, бившему набат, язык вырвали и отправили в Тобольск. И ничего, что боярин и князь Василий Шуйский менял впоследствии свои показания несколько раз, в зависимости от ситуации в стране, дело так и осталось тёмным, даже когда судьба-изменница повернулась к Шуйскому просветлённым насмешливым лицом на целых четыре года, в которые он прозябал на царском троне. Но это мы уже вторгаемся во времена смутные, страшные для России.
И вот эта история про царевича Дмитрия неожиданным образом вылупились в захолустном сельце Любачёво, со всеми названными подозрительными совпадениями. К тому же в такое время. Речь не о том, что страда, крестьянам хлеб убирать, молотить да засыпать в закрома амбарные. Речь о государевом деле. Зимой, в феврале, Земский собор избрал боярина Бориса Годунова, царского шурина, царём всея Руси. Сбылось! Не оставил Фёдор Иванович деток, наследников престола после себя, прервалась династия Рюриковичей. А скоро, почти через две недели, на первое сентября (начало нового года по тем временам) назначено венчание Бориса Годунова на царство. И тут он, тутошний Митрий, Лукин сын, окочурился. Да так же загадочно, да с теми же подробностями. А как до Москвы дойдёт, неровен час? Как там рассудят? Умысел? Такой переполох может начаться, что святых выноси и сам беги. Так и пришлось целовальнику Никодиму ввергнуться в разбирательство о душегубстве, а так он всё по разбойным делам лихих людей ловил.
С разбойным людом оно, конечно, опасно, однако, чаще всего, проще. Изловил лихого такого или татя, вора то есть, к примеру, с поличным или указал на него кто из добрых людей – и всё ясно. Не сознается – под пытку его. Даже если и после этого не сознается, выдержит пытку, хоть и избежит смерти, а всю оставшуюся жизнь в темнице проведёт. В этой же чертовой любачёвской истории требуется до истины добраться, размотать клубочек. А ещё важнее отчёт. И чтоб комар носа не подточил, если из Москвы дознаваться станут. Так губной староста наставлял.
Вошедший в избу отец Офонасий, человек лет тридцати, долговязый, русоволосый, одетый в старую рясу, подпоясанную тонкой верёвочкой, широко и сосредоточено перекрестился, как и все входящие в дом, на образа в красном углу. Затем внимательным взглядом больших серых глаз обвёл присутствующих и поздоровался со всеми и как бы с каждым в отдельности.
"Доброго дня и здоровья", – сказал он и при этом повёл своим довольно длинным носом, словно принюхиваясь. Целовальнику это принюхивание почему-то не понравилось, остальные не обратили внимания.
"И тебе не хворать, – поприветствовал священника староста. – Отведай пирога, отец Офонасий".
Священник не отказался от пирога, поблагодарил, но при этом совершил следующее: сунул пирог в глубины рукава рясы, где тот и пропал. "Детям отдаст", – догадался целовальник. Увидев же перевязанного десятника, отец Офонасий, сделав обтекаемый жест рукой у своей щеки, воскликнул: "Ох! Ефим, или какая хворь приключилась?" – "Зубы", – кратко ответил десятник и приложил руку к перевязанной щеке, словно вопросом ему причинили боль.
"Чеснок прикладывай, – посоветовал сотник. – Мне помогло и моему куму тоже помогло, и куме". – "Я прикладываю", – поморщился десятник.
"От переживаний, Ефим", – сказал отец Офонасий, подошёл к десятнику и стал участливо с ним шептаться. – "Погибший – брат десятника, Ефима", – пояснил староста целовальнику. – "Ну?!" – только и выдал тот.
Все вместе обсудили дальнейшие действия: осмотр покойника, места происшествия, опрос свидетелей.
Покойник лежал смиренно на столе в отчем доме. Распоясанный, готовый к пути в мир иной. Сегодня же его предстояло отпеть и захоронить. Опять же, потому что большинство трудились в поле, с покойником сидело лишь несколько старух, да дьяк Тихон читал из толстой книги псалмы и молитвы. Десятник Ефим, войдя в дом, коротко переговорил со скорбящими, и старухи вышли, оставляя покойника следствию. Дьяк остался из любопытства, и на него никто не обратил внимание. Мёртвый Митрий лежал в гробу, казалось, совершенно умиротворенный, без затаённых обид. Шею его обмотали платком, который и скрывал рану с левой стороны.
"В таком месте и малого пореза может хватить для смерти, – заметил целовальник Никодим, опытный в таких делах. – Кровь ключом бьёт". Все в очередь осмотрели поперечную рану. "У него и верхняя губа разбита", – заметил сотник. "Когда в припадке упал, мог разбить, – предположил Никодим и обратился к Ефиму. – А?" – "Наверное, – пожал плечами Ефим. – Бывало". – "А синяк на руке?" – спросил отец Офонасий.
Руки покойника, сложенные на груди, держали горящую свечу. На левой тыльной стороне кисти виден был кровоподтёк.
"На руке? – переспросил Ефим, подошёл к гробу и посмотрел на руки мертвого брата. – А, это. С отцом колесо у телеги чинили, о ступицу ударился".
"А Митрий, помню, левшой был", – уточнил отец Офонасий. – "Да… был, – последнее слово Ефим едва выговорил. Отец Офонасий вплотную подошёл к Ефиму и сказал ему тихо что-то, видимо, утешительное. Даже взял его за руку. Ефим тихо же отвечал священнику.
Осмотрели нож убийства, уже возвращённый в домашнее хозяйство по причине дороговизны изделий из железа. Нож ничего особенного не рассказал, кроме неоспоримого – принадлежал Митрию.
Из избы вышли скопом и направились было к овину, где встретил свою смерть Митрий. Но в это время во двор вошёл малый лет двадцати пяти с копной волос соломенного цвета и раскрасневшимся веснушчатым лицом. Звали его Пётр, он оказался тем человеком, который и нашёл за овином хрипящего, отходящего в мир иной Митрия.
"Как кличут? – вцепился с ходу в него Никодим. – Так вот, Петруша, сейчас нам обстоятельно расскажешь, что да как. А мы записывать будем, Петруша. Так что, думай хорошо, когда говорить будешь. Что писано пером, потом не вырубишь". – "А что мне думать, – почёсывая живот, отвечал Петруша. – Что видел, то и обскажу". – "Правильно, только что видел, что было, а придумывать не надо, Петруша, – наставлял Никодим. – А отец Офонасий всё точно запишет. Так, батюшка?"-"Так, сын мой". – "Одним делом, пошлите за овин, – предложил староста, – на месте и обскажет. Так даже яснее получится. А записать и потом можно".
Отправились за овин, в который свозились снопы хлеба для просушки. Пётр, заложив одну руку за пояс на животе, взялся "обстоятельно" описывать случай.
"Позавчера, значится, иду я от речки, уже вечер, солнышко садилось. Поднимаюсь, значится, от речки посюда тропой, глядь, лежит кто-то вот здесь, на этом месте, и руки раскинул. Заснул, думаю, кто, умаявшись. Не пьян же, кто в страду пьет. Глядь, а это Митрий, в крови. Тронул. его, он захрипел. Смотрю, в руке нож. Испугался я, хотел убежать. А потом к Митрию, к дяде Луке домой, побежал. Да на Ефима с дядей Лукой и наткнулся. Вот и весь мой рассказ". – "А не видел ли ты кого, Петрушка, когда шёл сюда или после?" – спросил Никодим. "Нет, никого", – уверенно ответил Петр.
"Может, слышал что?" – спросил сотник. На этот раз Пётр задумался, но потом опять отрицательно замотал головой: "Нет, ничего. А Митрий лишь хрипел. Ни слова, кто его так".
"Ладно. А вот, Петя, такой вопрос, – опять взялся Никодим. – Видно было, что перед смертью, у Митрия пена изо рта шла?"
"Да, была пена, – припомнил Петр, наморщив лоб. – Я и сам тогда подумал, что он сам себя ножичком полоснул".
"Ну, это не твоего ума дело, Петрушка, – властно окоротил Никодим. – Постой в стороне, может ещё пригодишься, а слова твои потом запишем".
"Что же, селяне, по-моему, дело ясное, – обратился ко всем целовальник. – Сам себя Митрий лишил живота. Запишем все складненько да ладненько, да и с плеч долой".
"Рановато, Никодим, курей загоняешь, – заартачился староста. – Ещё место не осмотрели".
"На месте мы. Что даёт?' – немного раздраженно ответил Никодим, обижаясь за свою должность.
"А ты посмотри вот сюда, целовальник", – предложил отец Офонасий, указывая прямо себе под ноги. Никодим посмотрел, куда указывал перст отца Офонасия. Ничего особенного не увидел, на всякий случай осмотрел пыльные сапоги священника. Тот вдруг притопнул одним, притопнул другим, обозначая танцевальные движения. Все засмеялись, кроме Ефима, едва улыбнувшегося, и Никодима, которого поведение священника задевало неприятно.
"Да нет, земляк, не совсем так", – присаживаясь на корточки, сказал сотник."Конечно, – поддержал его староста, – трава помята и вырвана, земля местами взрыхлена".
"Может, вчера или сегодня. И вообще, скотина потоптала", – не сдавался целовальник, оглядываясь на пасущееся за рекой стадо.
"Скотина следы бы оставила, а их нет. А что до травы, то она вон уже как подсохла. Так что, скорее всего, позавчера. Молодец, батюшка".
"Хорошо, позавчера, – гнул своё целовальник, – но могли до или после случая натоптать".
"На все воля Божья, – улыбнулся отец Офонасий, – только кому здесь бороться. А ведь это следы борьбы".
Целовальнику не нравилось, что начала расшатываться уже почти сложившаяся версия дела. А отец Офонасий не унимался. "И ещё здесь", – он подошел к стене овина. "Чёртов поп, когда успел рассмотреть?", – подумал целовальник. Из стены овина торчал небольшой сучок, ничем особенно не примечательный, кроме того, что оказался в крови, засохшей, конечно.
"Так, и что ты из этого выводишь, святой отец?"
"Полагаю так. Боролись двое у стены. Вот и трава тоже потоптана. И одного головой приложили к бревнышку, а он себе о сучочек и ободрал кожу".
Целовальник расстроено оглядел ещё раз сучок в бревенчатой стене овина, подумал и сказал, покачав головой:
"Не скажу, что обрадовал ты меня своей наблюдательностью и рассудительностью, отче. Теперь, понятно, надо убийцу искать. А как его искать, если никого не видели и не слышали? А если и слышали что, никогда не скажете не своим. Так ведь?"
Вытянуть сведения из общины против своих, действительно, было почти невозможно. Здесь целовальник вспомнил о Петре, повернулся к нему и стал внимательно его рассматривать, раздумывая о чём-то тяжело. Пётр, почувствовав недоброе для себя во взгляде целовальника, забеспокоился, а веснушчатое розовое лицо его стало бледнеть.
"Ты что так смотришь на меня, целовальник?" – немного с запинкой спросил он. "Кроме тебя никого здесь не было, получается. Что скажешь?" -"Не я ли убил Митрия? Не душегубец я. За что убивать?" – "И под пыткой тоже самое скажешь?" – допытывался Никодим. "Под какой пыткой?" – кровь прилила Петру к лицу. – "Погоди, Никодим, стращать парня", – вступился староста. "А как нам его слова проверить?"
"Легко проверить, – вставился отец Офонасий. – Стоит лишь проверить, есть ли у него рана на голове от сучочка. У Митрия ведь нет такой?" – спросил он у Ефима.
"Как будто нет", – ответил Ефим.
"Думаю, и у Петра нет", – предположил отец Офонасий.
"Это почему же?" – не поверил Никодим.
"Да росту он маловатого. Не достать ему до сучочка, не подпрыгнув. Вот Митрий мог бы".
Целовальник подвел Петра к "сучочку", примерил – не достаёт. На всякий случай, проверил голову парня под соломенной шевелюрой – чисто, ни ранки тебе, ни царапинки.
"Гуляй, Петя", – сказал ему целовальник.
"Ты бы, брат, расчесал свои снопы, – посоветовал Петру сотник, – а то ходишь, как тот же овин. Кум мой…"
"От ваших проверок волосы дыбом встают", – огрызнулся Петр, хватаясь двумя руками за поясок.
"Что дальше-то делать будем? – закручинился Никодим. – Как убивцу искать?"
Тут все почему-то посмотрели на отца Офонасия, впрочем, больше с любопытством, чем с надеждой. Отец Офонасий перекрестился к чему-то и молчал. Сказал староста: "Для пользы дела надо бы ещё местность осмотреть, пошире. Может, какие следы и найдутся. Кто-то ведь был здесь кроме Митрия".
На этот раз без пререканий и разногласий принялись за осмотр. При этом отец Офонасий, казалось, начал не только осматривать, но и вынюхивать, поводя носом. И почти сразу на тропинке, ведущей от реки, остроглазый сотник обнаружил ореховую скорлупу.
"Это я орешки грыз", – признался Петр и опять забеспокоился.
Тут староста в стороне от тропинки, за кустом, нашёл грязный девичий поясок, утерянный.
"Не твой, Петрушка?" – шутливо спросил целовальник Петра. Пётр шутки не принял. "Поясок ни к чему. Выбрось", – велел целовальник старосте.
"Не выбрасывай, Иван, – попросил вдруг отец Офонасий. – Отмою его, и Настёне-дочке, авось, сгодится. Может, сама будет носить, может кукле отдаст".
Сотник с улыбкой протянул поясок батюшке, и вещь исчезла в рукаве рясы, куда прежде отправился пирог.
"Верно говорят, в поповский карман с головой спрячешься"' – засмеялся Никодим.
"А ещё говорят, – поддержал сотник, – из поповского рукава мужику семеро штанов выходят".
Дружно рассмеялись.
"Стыдно должно быть насмехаться, – покачал головой отец Офонасий, впрочем, без осуждения. – Греха не боитесь".
"Попу лишь палец покажи – а уж он найдёт, какой в том грех", – поддел вновь сотник, расходясь.
"Ну, будя, – оборвал целовальник. – Я вот чего нашёл в траве".
Он поднял обломки переломанной надвое палки. Сгрудились вокруг него, разглядывая находку. С первого же взгляда им, связанным с крестьянским трудом, стало ясно, что это не просто палка, а часть цепа, орудия для обмолота зерна. То, что часть сломанного цепа нашлась у овина, являлось делом обычным, но вот слом дерева выглядел довольно свежим и вписывался в предположение о драке.
"Да-а, – обобщая общую мысль, выразился целовальник. – С кем же ваш Митрий мог подраться? А, главное, из-за чего, чтобы до смертного боя?"
"Ефим, Митрий с кем-нибудь ссорился в последнее время?"
"Нет, не помню, чтобы ссорился", – Ефим приложил руку к щеке и сильно поморщился. – "Что, больно?" – "Да не так… больно", – снова поморщился Ефим.
"Мне-то как больно, – признался Никодим. – Голова кругом. Разберись тут, попробуй".
Он обвел всех взглядом и остановился на отце Офонасии. Тот, запрокинув голову, смотрел вверх на проплывающие облака и улыбался.
"Что увидел, святой отец, уж не ангелов?"– внутренне раздражаясь, спросил Никодим.
"И ангелов вижу, бывает, – не стал спорить священник. – А вон облако на голову барана похоже, а вот это на козла".
"Нам только на облака и осталось смотреть, – усмехнулся староста. – Всё осмотрели. Только вот где убивцу искать?"
"А я знаю где", – сказал вдруг отец Офонасий, опуская голову и смотря теперь себе под ноги.
"И где же?" – спросил ошарашенный целовальник, пытаясь увидеть что-нибудь под ногами священника. Остальные были также под впечатлением.
"У нас в селе", – смиренно ответил отец Офонасий. Сотник со старостой не удержались и громко хмыкнули. Целовальник, закипая, но ещё сдерживая себя, спросил ещё:
"Может, знаешь, кто убил?"
"Знаю, мужик", – сказал отец Офонасий и опять стал смотреть на облака.
"Небеса подсказывают?" – все ещё сдержанно предположил целовальник.
"Не богохульствуй", – строго вдруг заговорил отец Офонасий. Все замолчали и, не двигаясь с места, чего-то ждали.
"Не мог Митрий сам себя порешить. Когда человек в припадке, он роняет вещи из рук. Так я мыслю. Ладно, не выронил он нож, но тогда поперечная рана должна бы быть справа, а не слева. Он же левшой был. Так Ефим?"
"Нож ведь Митрия", – заметил сотник.
"Его же ножом, с которым он кинулся на супротивника своего, его же и порешили".
"А как нож Митрия оказался у убийцы?"
"А вот этой палкой, – отец Офонасий указал на сломанный цеп, – хрястнули Митрия по руке, нож он и выронил. Вот вам и синяк на его руке".
"Так ведь Ефим говорил…", – начал было староста.
"Ну так что ж, что Ефим говорил. Неделю назад о ступицу ударился, а надысь ещё и палкой получил по больному".
"Складно у тебя получается, складно, – согласился целовальник и все с ним. – А дальше-то что?"
"Схватил убийца нож, и не стало Митрия", – догадался сотник.
"Не совсем так, – сказал отец Офонасий. – Сначала они схватились бороться, и Митрий того припёр к стене, и тот ободрал себе что-то там… А потом тот, убийца, от боли и злости влепил зуботычину Митрию. Помните, губу разбитую?"
"Помним, помним, – торопил целовальник. – Дальше".
"А дальше, я мыслю, у Митрия падучая началась. И когда он упал, убийца его и прикончил. А нож в руку Митрию вложил". – "Ясно. Дальше". – "Все на этом".
"Ты что, поп, издеваешься?! – почти заорал целовальник. – Может и не так складно и без подробностей твоих, но и я мог бы уже рассказать, что ты нам расписал. Убийца кто?"
"Не горячись”, – сказал отец Офонасий Никодиму так мягко, что целовальник в нем сразу остыл. А батюшка продолжил: “Убийца тот, кто имел ссору с Дмитрием, дрался с ним, и казанки на правой руке имеет сбитые и рваную рану на голове".
"То есть ты предлагаешь осмотреть всех мужиков в селе и так найти убийцу?" – догадался целовальник.
"Работёнка! – покачал головой сотник. – Петра вон…"
Что хотел сказать про Петра сотник, так и осталось неизвестным. Сотник запнулся, потому что Петра не оказалось, исчез незаметно Пётр, очевидно, от греха подальше.
"Можно и таким путём пойти, – продолжил отец Офонасий, – всех людишек перебрать. Убийца ведь сейчас мучается. Такой грех на душе лежит и давит её. От переживаний у него даже зубы, может быть, ломит. А, может, и не ломит, а только повязка рану от сучочка скрывает".
Все, кто слушал напряжённо отца Офонасия, почувствовали вдруг, как в наступившей тишине набухает страшная догадка, готовая прорваться осознанием истины, словно набухшая почка, вот-вот готовая с лёгким щелчком выбросить лист. Первым щелчок в голове ощутил сотник:
"Ах, ты! Мать честная! – он первым нашёл взглядом почерневшего Ефима. За сотником защёлкало в головах и у старосты, и у целовальника, и у Петра, выползшего из-за куста. Последний и произнёс почти шёпотом, тыча пальцем в Ефима: "Вот убивец. Мамочки родные".
Ефим, пребывающий в ледяном оцепенении, с ужасом посмотрел на устремлённый к нему палец Петра. Ефим содрогнулся всем телом, попятился, поднял руки, закрываясь от этого страшного для него пальца. Судорога исказила его лицо, он сделал движение в попытке бежать, но вдруг рухнул на землю, лишившись чувств.
"Вот как грех человека измучил, – сказал на это отец Офонасий. – Душа согрешающая да умрёт. Кто усмотрит прегрешения свои? От тайных моих очисти меня".
Ефима подняли и привели в сознание. Сняв повязку со щеки, обнаружили рваную рану на ухе.
"Давно ты его заподозрил?" – спросил целовальник.
"Он сказал, что зубы болят, и что он чеснок прикладывает. Когда же я подходил к нему, не почувствовал запаха чеснока. Вот Вавила, – отец Офонасий кивнул на сотника, – сегодня ел чеснок".
"Ишь ты, нюхач", – усмехнулся сотник Вавила.
"Так, нюх у меня острый, – согласился отец Офонасий. – Но про чеснок Ефим мог сказать, чтоб только отделаться от советов, а вот казанки на правой руке у Ефима сбиты. Я это сразу увидел, когда про разбитую губу Митрия узнал".
"Во как! – воскликнул Никодим. – А я-то думал, ты Ефима утешаешь в горе, подходя к нему".
"А я и утешал перво-наперво, – признался отец Офонасий. – Только сначала я думал, что утешу ему боль утраты, а потом вдруг понял, что совесть его мучает. Совесть она ведь тоже уличает. Надо только увидеть". – "Значит, не совладал с собою Ефим полностью".
"С совестью не совладал. Не смог молчать её заставить. Это в его пользу. А теперь, когда таиться не надо, ему легче станет. Хоть и тяжело".
Ефима отвели в избу к старосте, где и учинили допрос.
"За что же ты, Ефим, брата единокровного порешил?"– прозвучал главный теперь вопрос.
"Я? За что?.. Да в последнее время постоянно лаялись с Митрием. А в последний раз сцепились нешуточно… Слово за слово. Он прямо осатанел. С ножом кинулся. Потом всё так было, как отец Офонасий рассказал. Словно рядом стоял".
"Эх, Ефим, кабы я стоял рядом. Не случилось бы горе", – посетовал отец Офонасий.
Ефим с тоской посмотрел на священника и продолжил: "Значит, тыкает он в меня ножом. Я палку от цепа схватил и по руке ему ударил, попал. Он нож-то выронил, взвыл, за руку схватился. Я подумал, что остановится, а он вдруг с рыком звериными на меня кинулся, к стене припёр, к горлу тянется, да об стену головой меня. Ухо порвал. Тут я взъярился. Ударил его. Тут у него падучая и начнись… Плохо помню дальше… Схватил я нож… Знаете дальше".
"Как же ты брата в падучей?"
Ефим долго молчал, потом выдавил из себя: "Не хотел я, не мог я Митьку убить… Осатанел я тоже, наверное… Одно слово, осатанел". – "Знаешь, что теперь тебе казнь будет?" – "Знаю, – Ефим уронил голову. – Нет мне прощения".
"Собирайся в уезд", – велел целовальник. Ефим поднял голову и попросил: "Дозволь мне брата похоронить. Попрощаться". Никодим задумался: "Времени хватает. Ладно. А не убежишь?"
"Не убегу", – пообещал Ефим. Староста вскинул брови: "Как же ему бежать? Общество, мир, подведёт".
В те времена, в случае бегства преступника, вина перекладывалась на мир, общину, вынужденную в таком случае платить огромный штраф, пеню.
Но это ещё не вся история. Не вся? Нет, не вся. Вперёд, читатель!
Отец Офонасий исполнял службу отпевания по Митрию. Отпевание происходило в старой сельской любачёвской церкви. Отец Офонасий, находясь ещё под впечатлением от результатов следствия, проводил отпевание и усердно, и вдохновенно. Его усердие молилось о лучшей доле для убиенного раба божьего Дмитрия. Его вдохновение вознаграждало Ефима за глубину раскаяния в виновности в смерти брата и молило изведать её сполна. Ефим стоял недалеко от гроба, спокойный, отрешённый от всего, кроме безмолвного разговора с братом. Отец Офонасий проникался их беседой.
Отпевание закончилось, и родственники и близкие стали прощаться с покойником. Отец, крестьянин Лука, попрощался сдержанно и даже сурово. Видимо, случай с братьями ошеломил его и загнал чувства в тёмную клеть, как загоняют собаки в нору перепуганную лисицу. В суровости Луки виделась растерянность. Он ни разу не взглянул на Ефима. Мать Митрия страдала над гробом тягостно, её чувства были растерзаны случившимся, и отцу Офонасию было ясно, что она убивается по обеим сыновьям.
Пошли прощаться многочисленные родственники: сваты, сватьи, зятья, снохи, шурины, деверя, свояки и свояченицы, кумовья. Они прощались уже с различной степенью участия, помня, что и у них есть сыновья, и судьба их в воле Божьей, которая нам неведома.
В свою очередь подошли свояченицы покойного, жена Ефима, Олёна, и жена среднего брата Матвея, Марья. У тела покойника Митрия обе пробыли недолго. Марья после бросила взгляд на Ефима и покачала головой. Олёна украдкой смотрела на мужа и до этого, а теперь посмотрела на него долго, словно запоминая. Ефим ответил ей взглядом, в котором угадывался вопрос, но вопрос так и не прозвучал.
У отца Офонасия сердце сжалось при виде подошедшей к гробу Ульяны, красивой девки с роскошной косой. Впрочем, девкой она называлась по понятиям того времени, а для нас – девчонка. Ульяне шёл четырнадцатый год и недавно её сосватали за Дмитрия, покойно лежащего в гробу и не помышляющего больше о свадьбе. Свадьбу собирались справить осенью. Ульяна долго смотрела на покойника, поцеловала его в лоб, а потом, уже уходя, находясь к Ефиму вполоборота, бросила на него такой молниеносный и… чёрный взгляд, что отец Офонасий не побоялся назвать его дьявольским. Отец Офонасий посмотрел на Ефима и вздрогнул. Ефим безотрывно смотрел вслед Ульяне, и в этом взгляде было… Что? Отец Офонасий не мог назвать, не осмеливался, потому что… Страх? Раскаяние? Ужас? Ужас чего? А Олёна?
"Себе на уме, что-то на уме у этой девки, – осмысливал отец Офонасий. – Что? Ефим боится её. Не натворила бы она чего. Ох!" Само понятие ужаса не выражало полностью того, что увидел в глазах Ефима отец Офонасий. Требовалось какое-то уточнение. Мысль эта не давала ему покоя все оставшееся время обряда похорон. Он отбрасывал одно предположение за другим. А когда его вдруг пронзила догадка (в это время заканчивали зарывать могилу), догадка, расставляющая все, как ему казалось, яснее ясного, отцу Офонасию самому сделалось страшно.
Поэтому, исполнив старательно свои обязанности, отец Офонасий кинулся к целовальнику. Они беседовали о чем-то в стороне довольно долго, тихо, но, видно было, горячо. Особенно горячился отец Офонасий, целовальник же, похоже, старался отбиться от него, отделаться, однако, поп одолел. После этого целовальник повёл Ефима в дом к отцу Офонасию и вызвал туда и старосту, и сотника. Дело продолжилось. Ефим покорно выполнял все требования и к своей судьбе оставался безучастным.
Дом священника оказался таким же старым, как и церковь. Дом, довольно тёмная изба-пятистенок, служил пристанищем уже не первой семье священнослужителей и перешёл к отцу Офонасию от прежнего, отца Лариона. Семью отец Офонасий, по важности происходящего, отправил во двор.
"Вот как оно, Ефим, – начал целовальник, – батюшка говорит, не до конца наш разговор доведён".
Ефим никак не откликнулся на слова Никодима, с безразличием глядя в пол.
"Ответь-ка, Ефим, – продолжал целовальников, – когда… произошло у вас с Митрием, ты в эту рубаху, что на тебе, был одет?"
Ефим медленно поднял голову и несколько удивленно взглянул на Никодима. Потом, немного подумав, ответил: "Нет, скинул ту. Грязная она". – "А как бы нам на неё посмотреть?" – "Не знаю… У супружницы узнать если, у Олёны". – "А вот мы сейчас за ней и пошлём, – обрадовался Никодим. – За ней и за рубахой".
Ефим выпрямился, собираясь сказать что-то, но тут же обмяк и вновь равнодушно поник головой. Никодим мигнул сотнику, тот ушёл за женой Ефима. Сотник и Олёна явились нескоро, так что отец Офонасий и Никодим успели даже попить молока с хлебом. Ефим от еды отказался.
Вошли сотник и жена Ефима. В руках Олёна держала какой-то свёрток, наверное, рубаху. Она бросила быстрый, жёсткий взгляд на Ефима, перевела его на целовальника и выжидательно, даже затаённо, замерла.
"Как звать тебя, селянка?" – почти ласково обратился к ней Никодим. "Олёна", – коротко ответила та, оставаясь всё в том же состоянии. "Что ты нам принесла, Олёна?" – "Да вот же, рубаха Ефима. Сотник велел". – "Правильно велел. А точно ли это та рубаха, в которой он позавчера был?" – "Она и есть, а то какая ещё".
Олёна говорила спокойно, но, казалось, успевала обдумать каждое слово.
"Ты её не мыла?" – "Не успела ещё". – "Ну так давай нам её, Олёна".
Целовальник взял у Олёны рубаху, развернул её, положил на стол и вдвоём с отцом Офонасием они взялись осматривать её.
'Ефим, – заговорил целовальник, – а всё ли ты нам поведал о деле?"
"Чего ещё?" – недобро откликнулся Ефим.
"А вот что оно получается, Ефим. От той раны, что у Митрия, кровь брызжет во все стороны, а твоя рубаха, конечно, грязная от пота и пыли, но крови на ней нет. Что же выходит из этого? " – "Что выходит?" – как-то глупо спросил Ефим. – "С тобой ещё кто-то был у овина. Кто? А ведь он и убил".
Ефим молчал. Вперёд выступил отец Офонасий.
"Молчишь ты, Ефим, потому что выдавать не хочешь своего сообщника. Почему? Потому как сообщница?"
При этих словах отец Офонасий запустил руку в свой, неизвестной глубины и неисследованного объёма, рукав рясы и явил на свет Божий женский поясок, тот самый. "Его ведь не просто так обронила там его хозяйка".
Ефим посерел лицом, Олёна сделалась бледной. "Ну!" – грозно так потребовал целовальник. "Не знаю, о чем говорите", – тихо вымолвил Ефим. "А тебе, Олёна, не знакома вещица?" – спросил отец Офонасий. "Нет"' – твёрдо ответила Олёна.
Целовальник усмехнулся недобро, закусил нижнюю губу и заходил по избе, как бы в раздумье, как дальше поступить.
"А мы вот что сделаем, – предложил отец Офонасий. – Мы пойдём к бабке Калинихе". – "Что такое?!" – опешил целовальник. Староста с сотником были огорошены ещё сильнее. – "Гадалка наша любачёвская. Говорят, всё видит. И что будет с человеком, и что было, и скот пропавший находит". – "Так, так, – с готовностью поддержал сотник, – я ходил к ней, помогла и жене моей помогала, и куму моему, и куме". – "Ну, начал", – проворчал староста.
"Я, конечно, как христианский священник, не приветствую общение с ней, – отец Офонасий строго посмотрел на сотника, – но знаю, крестьяне ходят к чародейке тайком. А мы её сейчас испытаем для дела. Вот по этому пояску она нам скажет, кто был с Ефимом".
Ефим поник головой, но молчал.
"Не боишься, отец Офонасий, – живо заинтересовался Никодим, – от тех, кто над тобою, понести наказание, если узнают про гадалку? А как с нечистой силой знается?"
"Под Богом хожу, Богу себя вверяю, его власти и его защите, – ответил отец Офонасий, перекрестившись. – А кого убоюсь после этого?"
"Думаешь, польза будет?” – не унимался целовальник.
"Думаю, – сказал отец Офонасий и обратился к старосте и сотнику. – Согласны, поможет Калиниха?" – "Да ведь оно всяко… А Калиниха, она, конечно, того”, – замялся сотник. Староста хмыкнул: "Дело, так дело".
"Раз так, то и пойдём, – распорядился целовальник. – Все пойдём. И ты, Олёна".
Собравшись, отправились на другой конец Любачёво. Бабка Калиниха жила на том краю села, что находился ближе к лесу. Дом её стоял немного на отшибе, так как рядом с ней селиться побаивались из-за молвы о ней как о гадалке-ведьме. Кроме предсказаний она жила за счёт того, что вправляла вывихи и пользовала любачёвских, да и всю округу, различными травами и отварами от всяких болезней.
Старуха оказалась дома и встретила незваных гостей спокойно, словно знала заранее об их приходе. Гости перекрестились на иконы в доме Калинихи настолько тёмные, что разобрать, чей лик изображен на них было невозможно. Сама изба была тоже тёмной, но чисто прибранной. По всей единственной комнате висели пучки трав. Ефима с Олёной усадили на лавку, сотник остался у двери. Никодим и отец Офонасий подступили к ведунье, худой, почти высохшей старой женщине, но державшейся молодцом.
"Здравствуй, бабушка, – начал отец Офонасий. – Есть, бабушка, у нас поясок, а чей – неизвестно. Можешь ли ты нам поведать, с чьих чресл он соскользнул?"
Старуха зыркнула на отца Офонасия, скользнула взглядом по кресту на его груди, чему-то усмехнулась еле заметно. Она была седа, худа, стара, но легка в движениях.
"Коли наш поясок, любачёвский, то скажу наверно, какая потеряла".
В её глазах, с хитринкой, проявлялись в то же время и толковость и сообразительность.
"Тогда приступай. Вот тебе поясок".
Старуха взяла поясок рукой, похожей на птичью лапу, положила его на стол и стала готовиться к гаданию. На столе стали появляться вещи: глиняная кружка, набитый чем-то холщовый мешочек, деревянная миска, в которую Калиниха налила воду.
"Бабушка, а мы тебе мешать не будем?" – спросил Никодим.
Калиниха криво улыбнулась на левую сторону, снова зыркнула на отца Офонасия и ответила: "Сидите, только тихо. А он, – она ткнула пальцем в отца Офонасия, – пусть крест снимет".
Отец Офонасий, поколебавшись, послушно снял крест и спрятал его во всё тот же волшебный рукав. Усмешка старухи с лёгким шипением. Затем, туго смотав поясок, она поместила его в центр стола, взяла кружку и резким движением высыпала из неё на стол мелкие кости, вроде мышиных. Внимательно рассмотрела их, бормоча какие-то слова. Повторила действие три раза. Из мешочка вытянула пучок травы, подошла к печке и, убрав заслонку, от углей воскурила траву. Шепча заклинания, обошла с дымящейся травой вокруг стола, затем, взяв поясок, повязала его себе на голову. Вновь подошла к печи и бросила остатки травы на угли. От вспыхнувшего огня зажгла лучину, а на подхваченный совок выловила в печи уголек. Калиниха сделала несколько шагов к столу, и уголек зашипел в миске с водой и, казалось, забегал по поверхности воды. Старуха, подсвечивая себе лучиной, стала всматриваться в только ей видимые глубины в воде. "Яви-и-сь!" – низким голосом промолвила гадалка.
Присутствующие в избе неотрывно, заворожено, с напряжением следили за Калинихой. Вот она сорвала с головы поясок и бросила на стол. Наклонившись к миске вплотную, вперилась взглядом во что-то там. И вдруг гримаса удовлетворения исказила лицо Калинихи. Старуха выпрямилась и погасила лучины, сунув её в воду. Некоторое время в доме стояла полная тишина. Первым не выдержал целовальник.
"Ну, говори. Узнала?"
"Узнала", – ответила старуха как бы нехотя, и посмотрела на Олёну. Та вздрогнула.
"Поясок этот, – опять заговорила старуха, – дочки печника Саввы, Ульянки".
При словах Калинихи Ефим соскочил с места и уставился на старуху диким взглядом, переведя его потом на свою жену. Олёна медленно, словно не осознавая себя, поднялась, посмотрела на Ефима и вдруг плюнула ему в лицо. Так и не сказав ни слова, она пошла из избы. Никто не посмел её остановить. Целовальник подошёл к Ефиму.
"Вывели тебя на чистую воду, соколик. Не ожидал я от бабуси такого умения, признаюсь. Придётся менять точку зрения. Кайся теперь, Ефим. Как дело было?"
Ефим, подавленный разоблачением, да ещё в присутствии жены, глухо заговорил: "Встретились с Ульянкой за овином…" – "Зачем?"– "Зачем мужик с девкой встречаются?"
Староста крякнул. Сотник изумился: "Пакостник же ты, Ефим".
"Продолжай, Ефим", – сказал отец Офонасий. "Только… встретились, Митрий выбегает, давай лаяться…" – "Я бы тоже лаялся, если б с моей невестой кто за овином жухался, – со смешком вставил целовальник. – Щупались?"
Ефим отвернулся от целовальника и замолчал.
"Продолжай, Ефим, продолжай", – опять подтолкнул отец Офонасий.
"Пробовал успокоить его, да разве ж его успокоишь".
"То-то оно, что…", – вставил целовальник опять со смешком.
"Выхватил он нож и ну кидаться на меня. Вас, говорит, порешу и себя не пожалею. Тут я… как батюшка говорил, схватил палку, по руке ему…"
"Знаем, – не утерпел целовальник, – выбил ты нож, Митрий тебе о стену уши надрал за твои пакости. Ты ему хрястнул, он в падучую. Так? Дальше-то что?"
"Упал Митрий на землю, пена изо рта… И вдруг Ульянка… выскочила из-за спины, нож подхватила с земли и… прямо Митрию по горлу… Я и обомлел". – "Пошто же она убила Митрия?" – первым спросил сотник. – "Говорит, со страху. Если бы прознали в селе про…" – "Ваши шашни, твои и Ульяны, печниковой дочки", – помог целовальник. – "Да… Сраму было бы. Её бы собственный отец со свету сжил".
"Как же вы так? – с какой-то тоской произнёс отец Офонасий. – Сначала бесчестие великое творите, прелюбодействуя, а потом, чтобы покрыть его, душу свою бессмертную губите. Ох-хо-хо!"
"Не мог я Митьку, – залепетал Ефим, – брат он мне".
Отец Офонасий тяжко вздохнул, шагнул расслабленно назад и тяжело сел на лавку, держась за грудь.
"Что, батюшка, плохо? – целовальник подскочил к отцу Офонасия. – Ну-ка, бабка, дай батюшке травки какой или настоя", – потребовал он от ведуньи.
"Не надо ничего, – остановил отец Офонасий. – Сейчас на воздух выйдем, и лучше станет".
"Нето, водицы испей, – предложила бабка Калиниха. – У меня ключевая".
"Спаси Бог, – ответил отец Офонасий и действительно выпил с четверть ковша холодной воды. – И вправду, хороша водица".
Старуха молча кивала головой и опять же хитровато улыбалась, понимая, в чём истинная благодарность отца Офонасия, а может это была всего лишь её неосознаваемая привычка.
"Раз в порядке, отец Офонасий, пойдём к печнику, – стал торопить целовальник. – Будем от Ульянки признание принимать".
Время уже наступило вечернее. Стадо, пригнанное пастухом, шло по улице, хозяйки встречали своих коров, готовились к дойке. Но большинство крестьян все ещё продолжали трудиться в поле на жатве. Придя во двор печника, Саввы, следователи с Ефимом присели на завалинку, поджидая хозяев, за которыми послали. Посреди двора высилась просушиваемая груда колотых берёзовых дров. Из-за этой груды выглядывали коза с козлёнком. Возле хлева в земле копошились куры во главе с радужным петухом. Петух время от времени, замерев, подозрительно оглядывал незнакомцев в своих владениях.
Ульянку с отцом ведущие розыск заметили ещё издали и смотрели, как не торопясь, они идут по улице. Когда Савва и Ульянка подошли к дому, ожидавшие их, кроме Ефима, поднялись навстречу. Ульянка, на удивление, держалась спокойно, хотя поглядывала на окружающих своими карими глазами исподлобья. Савва, её отец, казался растерянным и в то же время настороженным.
"Доброго здоровьечка, – начал он. – С чего это мы вам понадобились? Живём тихо, никого не трогаем".
"Здравствуй и ты, Савва, – поздоровался Никодим, а за ним и все остальные. – К тебе-то, Савва, иску нет. С дочкой твоей хотим поговорить".
Закончил целовальник строго. Ему нравилось, что Савва побаивается его, того же он хотел и от Ульяны.
"Да вот ведь она вся перед вами", – Савва обеими руками указал на дочь, как бы преподнося её, сам же находясь всё в той же растерянности.
"Такое дело, Ульяна, – сурово начал целовальник. – Ефим во всём сознался. Теперь твой черёд".
"Не знаю, в чём вам Ефим сознался, а мне признаваться не в чем, – совсем не испугалась Ульяна и с презрением посмотрела в сторону Ефима. – Мало ли ему что померещилось".
"Брось, девка, отвертеться не получится", – ещё более посуровел целовальник.
"В чём же вините?" – встрял Савва.
Следователи переглянулись, и староста взялся объяснить Савве суть дела. В результате у Саввы челюсть, что называется, отвалилась. Он так долго стоял с открытым ртом, что целовальнику хотелось сказать, используя слова из запаса речи самого же Саввы-печника, "закрой хайло", где хайло, как было известно в те времена и совершенно забыто сейчас, есть отверстие русской печи. Но никто Савве ничего не сказал, а сам он употребил другое словечко, против дочери: "Ах ты ж, курва!"
Однако Ульяна не дрогнула и перед отцом: "Брешут они, тятя. Не знаю, о чём говорят". – "А если не брешут? Сам тебя на части порву!"
"Вот твой поясок, Ульяна, – отец Офонасий показал находку. – А бабка Калиниха по нему только что указала на тебя".
"Ведьме этой поверили? Да она давно из ума выжила. А Ефим уж год как меня тайком домогается, охальник. Вот и мстит мне. Мой поясок на мне, батюшка".
"Поясок-то новый на тебе, Ульяна, да больно ты распоясалась, – покачал головой отец Офонасий. – Поясок поменять можно легко, а вот с совестью потяжельше будет".
"Покайся, Ульянка, не то…", – пригрозил Савва.
"Покайся и ступай на плаху? Вы что, тятя? Не виновата я", – упрямо гнула своё Ульяна.
"Не хочешь по-хорошему? – вздыбился целовальник. – Под допрос с пристрастием пойдешь, девка".
Первый раз в глазах Ульяны серой птицей мелькнула неуверенность. И всё же она, сжав губы, не сдавалась, продолжала смотреть исподлобья. Тут вдруг отчебучил святой отец. С весёлым взвизгом он подпрыгнул на месте, пошёл вприсядку. Подскочил и поочередно, путаясь в рясе, шлёпнул себя по пяткам, а в завершение стукнул себе кулаком в лоб. Естественно, все выпучились на батюшку. Уж не умом ли вдруг тронулся?
"Есть ещё способ, – совершенно успокоившись, заявил он. – Если ты убийца, Ульяна, то на тебе не только поясок новый, но и рубаха свежая и сарафан. Кто убивал, на том и кровь. Коли так, ты тот сарафан спрятала или сожгла. Нет, спрятала, в укромном месте. Так незаметней".
"Сейчас мы, Никодим, – обратился отец Офонасий к целовальнику, – вернёмся к гадалке, а она нам скажет, куда сарафан окровавленный с рубахой скрыт. Как пить дать, скажет! Вот прихватим землицы с этого двора, и она скажет".
С этими словами отец Офонасий, став на четвереньки, действительно нацарапал горсть земли и зажал её в кулаке. Целовальник собирался что-то сказать или возразить, также как и староста с сотником, но отец Офонасий, проявляя упорство, прямо-таки вытолкал их всех со двора Саввы. Отец Офонасий пошёл быстро, остальные едва поспевали за ним. Когда же они зашли за ближайшие от двора Саввы избы, отец Офонасий резко повернул влево.
"Куда? К бабке прямо", – воскликнул целовальник недоуменно. "Пока мы ходим, Ульянка перепрячет или сожжёт, – надоумливал староста. – Надо было кому-то остаться". "То-то и оно, – согласился отец Офонасий. – Быстро надо поворачиваться. Теперь без бабки. Оврагом. Ульянка, если не выдюжит, кинется от окровавленной одёжки избавляться. Тут мы её и должны прихватить".
Оставив сотника с Ефимом, поспешая, стали оврагом возвращаться к дому Саввы.
"Ловок ты на выдумки, батюшка, – подивился Никодим. – А как Ульянка выдюжит и не кинется к потаённому месту?" – "Может. У них вся семья такая, – согласился староста. – Порода!" – "Значит, она ловчее, – сказал отец Офонасий. – Только ведь она тогда к твоим мастерам дел заплечных попадёт". – "Ну, это и к гадалке не ходи", – хохотнул целовальник. "А я этого не хочу", – признался отец Офонасий.
В овраге в настоявшемся за день теплом воздухе густо пахло травами. Отец Офонасий потягивал в себя воздух носом, поводы им из стороны в сторону. "Пустырником пахнет".
"Вот их дом", – сказал староста. Они осторожно выглянули из зарослей оврага. "Могла Ульянка уже и убежать", – предположил староста. "Так, – согласился отец Офонасий. – Но ей от отца ещё надо отделаться". – "Вот она!"
Из избы вышла Ульянка и скорым шагом, оглядываясь, пошла за амбар. Когда отец Офонасий, староста и целовальник появились неожиданно за амбаром, Ульянка суетно вытаскивала из развороченной ямы сарафан и рубаху. Увидев мужчин, Ульянка, вскрикнув, бросилась было бежать, но споткнулась, упала лицом вниз, сильно ударившись о землю, и безвольно затем перевернулась на спину. Она поднялась и оскалилась на своих преследователей, то ли вымученно улыбаясь таким оскалом, то ли безмолвно рыча в бессильной злобе. А ведь всего лишь девчонка.
Крестьянские семьи возвращались после трудов из полей домой, когда следователи заканчивали с делом, в том числе и с бумажной его частью. Поужинав у отца Офонасия гречневой кашей, целовальник собирался обратно в уезд. Он был доволен. Дело прояснилось. Никакого тайного умысла на события в Угличе не обнаружилось. Перед Москвой можно будет легко объясниться. Туда же. в уезд, на телеге отправлялись и Ефим с Ульяной в сопровождении недовольного сотника.
"Счастливо оставаться, отец Офонасий, – говорил целовальник, садясь на свою кобылу. – Надолго я запомню наше приключение и твой нюх, и твои смекалистость и ловкость".
"Что ты, Никодим, не расхваливай меня. С Божьей помощью вместе дело сладили".
"Конечно, – усмехнулся целовальник, – и с ведьминой тоже. Знаешь, отец Офонасий, теперь я тоже буду к гадалкам обращаться, если загвоздка выйдет".
"Попробуй, может и получится, – улыбнулся с хитрецой отец Офонасий. – Смотри, не окарайся".
"Не понял, – поднял бровь Никодим, почуяв подвох. – Объясни-ка, батюшка".
"Думаешь, бабка Калиниха сама высмотрела в своей миске Ульянку? Не знаю, как там у неё обычно получается, потому что говорят, что в самом деле предсказывает, но в этот раз я ей помог, кого увидеть надо. Заподозрил я Ульяну во время отпевания Митрия. Она такой взгляд на Ефима бросила, что заставила подумать меня. Вот я и подумал. Мог ошибиться, но не ошибся, как видишь”, – излагал отец Офонасий ввергающемуся в изумление целовальнику.
"Вот ты огрел меня, святой отец, так огрел, – признался Никодим. – Вот почему старуха так спокойно встретила нас, а потом всё ухмылялась да усмехалась".
Не менее ошеломлены оказались признанием отца Офонасия как сотник, так и Ефим с Ульяной. Последняя и предъявила Ефиму: "Э-эх, он тебя вокруг пальца обвёл, а ты всё и разболтал, баба".
А потом Ульяна поворотилась к отцу Офонасию: "Ты не поп, ты чёрт изворотливый, чтоб тебе…" – "Охлони, девка, – окоротил её Никодим, – тебе сейчас уже о другом надо думать". На это Ульянка ничего не ответила, лишь отвернулась от всех. О чем-то подумав, она прижалась к Ефиму: “Ефимушка, я ведь всё равно люблю тебя. И до самой смерти любить буду”.
"Трогай”, – велел Никодим сотнику. Тот стегнул лошадь кнутом, телега тронулась и дальнейшего разговора Ефима с прильнувшей к нему Ульяной не стало слышно.
"Прощай, отец Офонасий, – сказал Никодим напоследок, отъезжая на своей кобылке. – Тебе бы у нас, по сыскному делу. Откуда ты такой ловкий?".
"Всё от Бога, Никодим, всё от Бога. И езжайте с Богом”, – ответил отец Офонасий и перекрестил всех в удаляющиеся спины.
В воскресенье, во время церковной службы, проповедуя и помня о недавнем происшествии, отец Офонасий с амвона обратился к своим любачёвским прихожанам с такими словами: "Братья и сестры, ведомо вам о печальных событиях, произошедших в нашем Любачёве в прошедшую седмицу. Мирная жизнь нашей общины отягчилась тягчайшими грехами, человекоубийством, братоубийством. Грехи эти, братья и сестры, оказались к тому же замешаны на ещё одном грехе, прелюбодеянии. Антихрист, этот враг рода человеческого, не жалея трудов, сеет семена порока среди христиан. И горе тому, у кого почва душевная окажется благодатной для посева сатанинского, и не высушит их солнце любви к Христу, и не побьёт их град гнева нашего против зла. Ибо один порок не только разрушает душу, но и влечёт за собой следующие пороки. А во первую очередь – ложь. Нашим любачёвским грешникам, Ефиму и Ульяне, пришлось вослед греху лгать и изворачиваться, и страх погубить свою душу оказался слабее дьявольских соблазнов. Вот об этом не надо забывать, братья и сестры. Мы радеем о нашем урожае, который есть хлеб наш насущный, мы тщимся быть рачительными хозяевами и хозяйками, чтобы иметь достаток в доме и уважение в обществе. Ефим и Ульяна были хорошими работниками и, казалось, добрыми христианами. Что же произошло? Не забываем ли мы в заботах дня о хлебе духовном для души нашей? Радеем ли мы о крепости души нашей против пороков антихристовых? Давайте же, братья и сестры, купно и в одиночку не забывать о противлении злу и пороку денно и нощно. Давайте, братья и сестры, трудиться в приращении и преумножении добрых всходов и сохранении их в наших житницах. Жнущий да получит награду. И да пребудет с нами в этих трудах благодать Божья и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь".
Коготь оборотня
Семья Любачёвского священника отца Офонасия мылась в бане. Мылась, как и положено было "Домостроем", в субботу. Полдня баня топилась. Топилась по-чёрному. Таким способом, по-чёрному, то есть без трубы, дым выходит в открытую дверь или особое волоковое окно, в шестнадцатом веке топились не только все бани, но и избы. “Горечи дымныя не претерпев, тепла не видати”. Копоть оседала на потолке и на стенах. Немного неудобно, но, как было замечено, в прокопченные дома труднее было пробраться любой, из огромного числа, заразе тех лет, той же чуме. Ну так вот, отец Офонасий мылся в бане со своей семьей. Мылся, млея от удовольствия. Уже сам отец Офонасий, снимая первый жар, два раза, покряхтывая, березовым веником парился, уже и супружница его, попадья Наталья, парила его, а после небольшого роздыха подверглась, растянувшись на полке, тому же истязанию. Затем берёзовой порке подверглись дети отца Офонасия и Натальи, Нестор, Семён и Настя.
Наталья и дети уже ушли, баня остывала, а отец Офонасий собирался, не торопясь, смакуя последние "банные" минуты и вдыхая с удовольствием горько-сладковатый, сырой запах продымленных стен. Отец Офонасий в чистой рубахе и портах вышел на свежий осенний воздух и пошёл к дому, предвкушая ядрёную прохладу кваса и вечернее общение с семьей. Неожиданно из сгущающейся темноты навстречу отцу Офонасию вышла Наталья. "Батюшка, к тебе ходоки". – "Какие ходоки, матушка?" – "Из Калиновки, вон на завалинке сидят. Просила в дом, не идут. Разговор, говорят, к тебе, батюшка". Отец Офонасий подошел к трём тёмным фигурам на завалинке. Они поднялись навстречу священнику, разом снимая шапки. В скупом освещении чётко выделялись только их очертания. "К тебе, батюшка, – начал самый высокий из них густым грудным голосом, – обществом направлены. Беда у нас". – "Что такое? Какая беда?" -"Скот у нас стал пропадать, батюшка. А надысь козла увели". – "Татьба? Воровство? Так ведь к губному…" – "Хуже, батюшка". – "Хуже? Что же будет хуже татьбы?" – "Оборотень батюшка". – "Что? Оборотень? Что за напасть?" – "Оборотень в медвежьем обличии. Просим тебя, батюшка, защитить. Отслужи, будь добр, особую службу, охрани от нечистой". – "Вот оно как, – задумался отец Офонасий. – Завтра, мужики, Воскресная служба. А вот через день буду у вас в Калиновке. Тебя как зовут?"– спросил вдруг отец Офонасий у того, что стоял слева от него. "Власом, – ответил тот немного удивленно и от этого, наверное, давший в конце петуха. "Брагой своей угостишь, Влас?" – "Брагой? Откуда тебе известно про мою брагу, батюшка?" – "Запах, сын мой. Запахи вокруг нас, и они многое про нас рассказывают". – "А разве можно попу брагу пить?" – немного дерзко высказался третий из мужиков грубым голосом. "Я дара Божьего не порицаю, но порицаю тех, кто пьет без удержу", – цитатой ответил мужику отец Офонасий. А Власа спросил: "Так угостишь?" – "Угощу, батюшка, приди только". – "Приду, приду, через день", – ещё раз пообещал отец Офонасий.
И действительно, через день, на телеге с запряжённым в неё Соловком, конём семьи священника, проехав несколько вёрст по грязной от дождя дороге мимо сжатых полей, отец Офонасий появился в Калиновке. В том, что отец Офонасий отправился в Калиновку без лишних расспросов, не было ничего необыкновенного. Кикиморы, оборотни, черти, домовые частенько наведывались тогда в общество людей, и те люди не зазнавались и признавали нечистую, а не называли суеверием. Священника встретили представители общины, среди которых были и Влас, и высокий мужик, которых отец Офонасий опознал, в первую очередь по голосам. После положенных приветствий, недолго размышляя, приступили к делу. Взяв с телеги мешок, отец Офонасий вынул из него ризы, в которые тут же и облачился. Также из мешка появились кадило, кропило, берестяная фляга с освященной водой и чаша. В то время, как отец Офонасий начал облачаться в свои одежды и готовиться к исполнению требы, деревенские, глядя на него, уже стали проникаться духом таинства. На церковные богослужения они ходили в любачёвскую церковь, но случалось им там бывать довольно редко, обычно по большим праздникам, и теперь они почувствовали эту свою оторванность, а присутствие действующего священника настраивало на торжественный лад. Задача отца Офонасия состояла в освящении места, на котором стояла деревня, для чего нужно было совершить богослужение, обойти деревню, создав священный защитный круг. Особого труда это не представляло, так как деревня состояла из семи дворов, правда, разбросанных друг от друга. Отец Офонасий справлял службу чинно, не торопясь, обходя Калиновку размеренным шагом, от сердца произнося слова молитвы и с удовольствием вдыхая присовокупившийся к запаху воскуренного ладана запах из смеси увядающих трав под его ногами. После того, как служба закончилась, и отец Офонасий произнёс "Аминь", деревенские вздохнули облегчённо и уже не чувствовали себя совершенно оторванными от церкви и посещение её по большим праздникам, может и не всем, казалось достаточным. А отец Офонасий был уверен, что калиновские, для верности, тайно принесли дары и поганому богу Велесу, языческому скотьему богу.
"А все же любопытно узнать подробности о вашем оборотне, – попросил любопытный отец Офонасий. – Как он вас окрутил?" – "Поперву появился, – взялся рассказывать Трофим, высокий худой мужик, борода лопатой, – у моего загона скотьего, коша". – "Почему же за оборотня принял, а не просто за медведя?" – "Вот то-то и оно. Поперву смотрю, в сумерках, человек незнаемый идёт. Да чудно идёт, всё ближе и ближе к земле прогибается. Занемог или прячется? А враз гляжу, кувыркнулся по земле, а потом встаёт – и медведь уже, хозяин косолапый. И прямо ко мне в кош. И глаза горят – сжелта. Оробел я. А он хлоп моего козла лапой и уложил одним ударом. И взвалил на себя, и утащил в тот вон лес". – "Всё?" – "Всё, как было". – "Ой ли? Не от лукавого ли байка?" – засомневался отец Офонасий. "Мы тоже не поверили Трофиму, – сказал стоящий рядом с Трофимом мужичок, кривой на один глаз, – пока сами не узрели". – "Тебе только и подтверждать, – глядя на его кривизну, подумал отец Офонасий. – Один глаз на мельницу, другой на кузницу". Но кривого Егора поддержали. "У кривого Егорки глаз шибко зоркий", – вспомнил начало пословицы отец Офонасий. "Так. Ещё два раза появлялся. У Власа козла унёс и у Нефёда овцу. И всё по слову Трофима случилось. Человек кувыркается, а потом медведь встаёт". – "А скотину пропавшую искали?" – "Искали. Напрасно. Ни ножек, ни рожек". – "У помещика своего защиту искали?"– "Искали. Не поверил он. Да и нет его теперь. На смотр вызвали, конно, людно и оружно".
Отец Офонасий понимающе кивнул. "Конно, людно и оружно", это ему хорошо знакомо. Много раз являлся на военные смотры с прежним помещиком, отцом нынешнего, его, отца Офонасия, отец, боевой холоп. Помещику земля давалась не за красивые глазки, а за службу государю. Военную службу. Свой помещичий надел помещики отрабатывали ранами, увечьями, потерянным здоровьем, а то и жизнью. Прежнего помещика, Акинфия сына Аникеева, как и отца священника Офонасия Якова, свели в могилу болячки, набранные в военных походах. А их при государе Иоанне Васильевиче Грозном оказалось достаточно и более того. И нынешнему помещику Алексею сыну Акинфиеву следует по первому зову являться на смотр конно, людно и оружно и выступать в походы. Иначе землю отберут в казну. Правда, помещики, как люди, наделённые разумом, находили порой причины не явиться по требованию: идучи не идяху, по выражению летописца.
"В таком случае показывайте, христиане, где оборотень шастал, – попросил отец Офонасий, надеясь прощупать случай с другого боку, а больше из любопытства. Найти какие-либо следы после прошедших дождей отец Офонасий не надеялся, но с чего-то начать хотелось. Да вот хотя бы у того же Власа. Влас показал место за своим загоном, где кувыркнулся в бурьян человек и обернулся медведем. А на одной жерди загона увидели следы глубокие от когтей косолапого. "За какие грехи напасть эта?" – вздохнул Влас. "Может, и есть какие, – мрачно произнес кривой Егор. – В старину предки наши хозяина косматого почитали". Но тут же Егор прикусил язык, встретившись со взглядом отца Офонасия. На других местах "шастанья" оборотня, кроме того же потоптанного и поломанного бурьяна, следов не обнаружили.
"Тёмное дело, – подвел итог отец Офонасий. – И всё время в сумерках появляется? Ну да, так и положено". Отец Офонасий засобирался домой, однако его не отпустили, не покормив. Затем же сложили в телегу причитающуюся плату зерном, мёдом, яйцами, гусем за богослужение. Пришёл и Влас с ковшом браги. "Не обидь, батюшка, обещался отведать". Батюшка не обидел и выпил брагу всю до донца. "Хороша брага, Влас. Овсяная". – "Так". – "Ну, бывайте, христиане". Отец Офонасий дёрнул вожжами, и Соловко послушно потянул телегу в сторону дома. Да видно не суждено было отцу Офонасию добраться скоро в Любачёво.
Началось с того, что как только телега выехала за околицу Калиновки, дорогу, прямо перед копытами Соловки, перебежал заяц. "Что за напасть", – подумал про себя отец Офонасий и перекрестился. Перебежавший дорогу заяц – плохая примета. В то время в приметы верили даже священники. Это в наше время во всякую чертовщину верят просто не религиозные люди или неверующие. А не проехал отец Офонасий и версты, как его настиг верховой. Они переговорили, и батюшка, как тогда выражались, поворотил оглобли, направившись в сторону деревни Почайки, пять дворов. Верховой ускакал вперёд. К этому времени в голове у отца Офонасия загуляла во всю силу овсяная брага Власа, и священник, не печалясь по поводу новой загогулины в своём пути и не замечая недовольного гоготания гусака в лукошке, затянул песню:
Повадился, повадился вор-воробей
В мою конопельку, мою зеленую
Летати, летати
Мою конопельку, мою зеленую
Клевати, клевати
Уж я его, уж я его изловлю, изловлю
Крылья-перья, крылья-перья ощиплю, ощиплю.
Возможно, на священника нашла весёлая пора, а, возможно, он всё-таки размышлял таким образом о краже скота, и песня помогала ему в каких-то размышлениях об оборотне. Что за напасть в Почайке? Верховой рассказал, слух по деревне вдруг пошёл, будто сегодня в Почайке оборотень появится. История приобретала новый оборот и осложнения. Отец Офонасий даже подумал, а хватит ли ему сил бороться с нечистью? Но сам же себе и ответил: "Богу вверяю себя. А после этого кого убоюсь". И, озираясь вокруг, запел:
Ой, поля мои поля, ой, леса мои леса…
"Здорово, здорово, Пахом, – поприветствовал отец Офонасий совершенно седого почаевского старика, народившегося внука которого священник крестил на днях. – Не живётся вам спокойно". Почаевские, человек пять, встречали батюшку, сняв шапки, когда он остановил телегу. Здесь же был и сын Пахома Глеб. Молодой ещё, стеснительный, с ясным взглядом. "Мы, батюшка, безвредно живём. Нечистой неймётся, гоношит поганая против добрых христиан". – "А скажите, добрые христиане, откуда слух взялся об оборотне?" – спросил отец Офонасий. "Дык… Таво… Откуда?" – старик Пахом в замешательстве обернулся к стоящим за ним. Те озадаченно переглянулись и стали чесать в затылках. Чесали долго, отец Офонасий не торопил, давая им время пораскинуть умом.
"Дык, – заговорил, наконец, один из них, начиная с почаевского "дык" вместо "так", – вона Акулина давеча сказывала". И он указал на бабу у колодца. Впрочем, у колодца их стояло три. "Какая же?" – "Дык, тучная, в синем платке". Отец Офонасий узнал Акулину, недавно отпевал умершего деверя её. Позвали Акулину, и выяснилось, что ей об оборотне сказала Агафья, оказавшаяся здесь же у колодца. Подошедшая Агафья точно помнила, что услышала об оборотне от Василины, жены Богдана-пасечника. Ни Василины, ни Богдана среди присутствующих не нашлось, но третья баба, не преминувшая подойти, Глафира, точно знала, что Василине об оборотне стало известно от Катерины по прозвищу Сычиха или от Федьки Занозы, или Егора Кривого из Калиновки. "Егор Кривой что у вас потерял?" – "Брат у него здесь сродный, частенько наведывается". – "Дык, Егору Кривому я об оборотне сказала", – призналась Акулина и накинулась на Глафиру. "А ты, Глашка, не знаешь, не мели". – "А что мне? – вскинулась Глафира. – Что люди говорят, то и я". Бабы начали перебранку, и мужики прогнали их к колодцу.
"Дык что, христиане, будем службу служить?" – посмеиваясь, спросил отец Офонасий. "Дык, будем", – ответил Пахом, а остальные дружно закивали головами, соглашаясь. И состоялось то же самое: отец Офонасий облачился в ризы, воскурил кадило, служил службу и обходил деревню по осеннему полю, вдыхая травные запахи. И теперь уже почаевские, начиная с облачения священника, обещали себе чаще приходить в церковь, а в завершение службы эта мысль уже не так сильно вдохновляла их. Особенно, когда во дворе Пахома они укладывали "подарки" в телегу отца Офонасия за совершенную службу. Среди подарков, кстати, была молодая гусыня, в пару гусаку из Калиновки.
"Дык, а как, если всё же явится оборотень?" – засомневался Пахом, то поглаживая свою бороду, то поглядывая на "подарки", то чеша в затылке. "Так мы проверим", – подмигнул ему отец Офонасий. "Дык, как?" – "Сегодня обещал явиться? Вот мы и поглядим".
И договорились. Дождавшись сумерек, спрятаться мужикам недалеко от скотьего загона дедушки Пахома. Их семья самая домовитая, разжились добром, скота немалое количество. И козлы есть, до которых медведь-оборотень так охоч. Из остальных загонов в деревне скотину увели в хлева. Сговорились, когда оборотень подойдёт к загону, призвав крестную силу, кинуться скопом на него и попортить шкуру хозяину косматому, чтобы, если и не одолеть его, то отвадить от Почайки. Засаду устроили перед загоном с двух сторон, улегшись в бурьян. Мужики сжимали в руках вилы, рогатины и топоры. "У нас ещё случай, отец Офонасий, – устраиваясь рядом с батюшкой, сказал Глеб, сын Пахома. – Баженка пропал. Ушёл в лес сегодня раным-рано поутру на охоту и не возвращается. Обещался после полдня. Олеся, жена, переживает". – "Вернётся, авось", – равнодушно пообещал другой мужик, Андрей, с лицом в бородавках. Отец Офонасий промолчал, в голове только покружилось: " В тёмном лесе, в тёмном лесе…"
Затем священник, помучившись некоторое время, усадил себя в бурьян так, чтобы не выдать своего присутствия, но и ясно обозревать окрестности. Ожидали оборотня от леса. Ждать пришлось долго. Вот подступили сумерки, вот они стали сгущаться, а никто из леса не появлялся. Мужики заскучали и даже стали впадать в дремоту. "Брехня всё. Да и молебен отслужили". А он всё же появился. Маленький человек в серой одежонке. Выйдя из леса немного правее от засады, маленький человек суетливо заходил вдоль опушки, как бы ища след. Странно и жутко выглядело его лицо. Даже в сумерках плоское и неестественно белое. Вдруг он замер, навострился на загон и быстрыми, мелкими шагами засеменил к нему. Поначалу его тело было напряжено и вытянуто в палку, но чем ближе он подходил, тем более расслабленным становилось тело. Оно стало сгибаться, скрючиваться, скручиваться и совсем припало к земле. Густота ли сумерек, волнение ли отца Офонасия, ещё ли чёрт знает что, заставляло видеть движение этого маленького человека то в обычном порядке, то прерывистом, словно он, шагая мелко-мелко, вдруг делал мощный рывок вперёд сразу на пару-тройку саженей. И всё это во все более и более скрюченном положение. И вот произошел ожидаемый кувырок. Тело исчезло в бурьяне и тут же из него… поднялся на двух лапах огромный, преогромный медведь. Росту он казался больше трехаршинной сажени, невероятно мохнат, шерсти тёмно-бурого, почти чёрного цвета. Оборотень заревел, глаза его блеснули желтым светом, он упал на четыре лапы и, отмахивая куски расстояния, ринулся к загону. Его тяжёлое дыхание, наводя ужас, растекалось по округе. У отца Офонасия кровь застыла в жилах, а сердце словно кто-то схватил ледяной рукой. Он как сидел, так и не мог пошевелиться. Медведь, вмиг оказавшись у загона, ударом лапы сбил верхнюю жердь. Раздался треск дерева. Мужики правой засады вскочили и, недолго думая, бросились наутёк без оглядки. Кто-то из них заверещал паскудно. Медведь рыкнул в их сторону, и из его пасти полыхнул огонь. Засада, в которой сидел отец Офонасий, вся вжалась в землю. Бородавчатый Андрей, плотно припадая к земле, быстро работая коленями и локтями, уползал в сторону, оставляя след сорванного дёрна.
Об оружии и отпоре не вспомнил ни один человек. А оборотень уже орудовал в загоне. Налетев на перепуганное и тоже застывшее в ужасе стадо, оборотень одним ударом уложил белого козла, закинул его себе на спину и ринулся обратно, с легкостью перепрыгнув заграждение загона. Он теми же огромными скачками достиг леса и скрылся в нём. Только после этого, оставшиеся на месте мужики, а с ними и отец Офонасий, стали приходить в себя.
"С нами крестная сила", – широко перекрестившись, произнёс священник. – "У меня, кажись, волосы на голове зашевелились," – признался Глеб. – "А у меня всё застыло и остановилось", – признался отец Офонасий. Во всем теле он чувствовал холод. Особенно холодными были ступни ног и пальцы рук. Левая рука судорожно сжимала вырванный пучок травы, весь смятый в ком. "Что же теперь будет, батюшка?" – непонятно спросил Глеб. "Утро вечера мудренее, сынок", – был ответ отца Офонасия.
Переночевал отец Офонасий в доме у Пахома. Его, как гостя, уложили на самое лучшее место, на печи. Сами хозяева улеглись на полатях да по лавкам. Проснулся отец Офонасий рано, заслышав, как возится в своем бабьем куте, у печи хозяйка, готовя завтрак. За завтраком Пахом скорбел об утерянном козле, пенял, что не оборонили. Сильнее досталось Глебу. Глеб оправдывался: "Оробел я, тятя. Очень уж он страшной". – "Все мы приужахнулись. Едва Богу душу не отдали," – помог Глебу отец Офонасий. Подумав, он сказал: "Надо с начала начинать". – "Чего начинать-то, батюшка? Козла не вернёшь," – сердился Пахом. "Козла, думаю, не вернешь. А вот впредь не допустить… Надо посмотреть". – "Чего смотреть? Смотри, не смотри, нет козла".
Идти осматривать место происшествия отказались что Пахом, по причине переживаний о бедном белом козле, что Глеб, из-за пережитого ужаса, от которого пока не оправился. Не сказать, что и отец Офонасий совсем забыл о пережитом страхе, только причитания Пахома заставляли чувствовать его, отца Офонасия, какую-то вину и ответственность за произошедшее.
Священник вышел к скотьему загону. Загон был пуст. Животных вывели на пастбище. Отец Офонасий подошёл к тому месту, где оборотень сломал жердь. Хозяйственный Пахом уже починил изгородь. Священник внимательно огляделся. Что это? Клок шерсти на жерди, что пониже сломанной. Медведь зацепился за сучочек, когда перепрыгивал изгородь. Отец Офонасий спрятал черно-бурый клок в рукав. А это что? Священник поднял с земли костяной крючок. "Что нашёл, батюшка?" Глеб все же пришёл. "А погляди. Коготь?" – "Коготь. Это он, когда по жерди ударил. Большой. Большой зверюга". – "Это хорошо," – задумчиво произнёс отец Офонасий и сунул коготь в рукав. "Что ж хорошего, батюшка?" – удивился Глеб, невольно озираясь по сторонам. "А на один коготь у оборотня теперь меньше. А? Теперь он не так страшен. А, Глеб?" Глеб криво усмехнулся. "А что, Баженка вернулся?" – вспомнил отец Офонасий. "Нет, не вернулся". – "Угу. Пойдём дальше, Глеб".
Глеб неуверенно потоптался, однако вслед за отцом Офонасием перелез через изгородь. У них было чувство, словно они проникали во владения оборотня. Вдвоём проследили путь оборотня до места его появления. Видно было, что чудовище двигалось огромными скачками, взрывая когтями землю и вырывая траву. Место его обращения в медведя нашли легко. Здесь бурьян был сильно помят и поломан. "Вишь, сколько намял травы, злодей, словно раза три кувыркнулся, а то и по земле катался. А ведь только раз. А, Глеб?" – "Не помню, – признался Глеб. – Только ведь огромный он. Враз может все перемять". – "Огромная орясина, верно. А ещё говорят, у страха глаза велики, да ничего не видят. Верно?" – "Я его, батюшка, на всю жизнь рассмотрел. Огромный". "Огромный и страшный, что есть, то есть".
Ползали по месту прямо на коленях, так велел отец Офонасий. Он, похоже, что-то искал, что-то определённое, но не находил. Глеб же с торчащего обломка чертополоха снял ниточку и подал её отцу Офонасию. Священник внимательно рассмотрел её: "Тонюсенькая. Серенькая. Все правильно. С одежонки того человечка. Молодец, Глебушка". И ниточка, конечно же, отправилась в глубины рукава рясы священника. А вот как потянуть за эту ниточку отец Офонасий, похоже, не представляет пока, показалось Глебу.
В глубоком раздумье и с чувством вины перед почаевскими уезжал отец Офонасий из деревни. Жители провожали его угрюмо и недовольно, косились на увозимые телегой попа харчи. Отец Офонасий будто и не замечал этих взглядов. На него как раз напала икота.
Вернувшись домой, отец Офонасий порадовался встрече с семьёй, по которой соскучился, и вникал в заботы домашние и церковные. Но в разговоре с дьяком Тихоном был рассеян, а на вечерней службе чуть не допустил глупую оплошность. И только на следующий день, справляя утреннее богослужение, он смог сосредоточиться и по-настоящему проникнуться значением произносимых священных слов.
Вот как раз после утренней службы его и огорошили почаевские. Вернулся Баженка из леса, но сам не свой. Говорит, леший обморочил и водил по лесу. Кое-как выбрался. Ну, выбрался, и слава Богу. Это первое, но не главное. Новый слух пошёл по деревне. Медведь-оборотень, косматый хозяин, Велесов посланник оказался сильнее христианского священника. И если Почайка покорится Велесовой воле, то оставит их оборотень. Нужно будет всего раз в год одну скотинку жертвовать Велесу, оставляя у леса. Вести эти мрачно рассказывал Глеб, избегая смотреть отцу Офонасию в глаза.
"И что же общество?" – спросил отец Офонасий. "Дык, боятся косолапого хозяина, батюшка". – "А ты, Глебушка?" – "Дык… я тоже боюсь. Но я на твоей стороне, батюшка". – "Спаси Бог тебя, Глеб". Священник задумался. "Дык, что передать обществу, батюшка?" – "Погоди, Глеб. Мне поразмыслить требуется. Вон дьяк Тихон в колокола звонить собрался. Так и я с ним. А ты пока посиди. На облака посмотри. Вон какое, на зайца похоже. А рядом, на твоего отца Пахома. Или на красоту полюбуйся окрестную. Гляди, лес так и полыхает". – "Чудной ты, батюшка", – только и сказал Глеб.
Когда отзвонили колокола, отец Офонасий вернулся к Глебу. "Ну, Глеб, я не спрашиваю, по бесполезности, от кого новый слух родился. А ты к обществу с иным вернёшься. Скажешь людям, что отец Офонасий опять будет в Почайке. И в этот раз точно защитит деревню. Причём, не только словом Божьим, но и делом, шерстью и когтем оборотня Велесова. И без всякой платы. Ты понял Глеб?" – "Понял. Дык.." – "Если понял, так всё и передай в точности. А я завтра у вас буду. Сегодня в Любачёво дела улажу. Ступай". И не давая больше Глебу времени на вопросы и раздумья, отец Офонасий отправил Глеба перебивать новым слухом старый.
Отпустив Глеба, отец Офонасий отправился к старосте Ивану и имел с ним разговор. Поэтому староста отправил верхом нарочного в уезд. А вечером в Любачёво появился губной целовальник Никодим с четырьмя сопровождающими, мужиками разного возраста, роста и сложения, но крепкими на вид и надёжными. “Какие новости, Никодим?” – “У нас хлеб дешевеет, да помер купец Стасий, да кошка моя окотилась. А на Москве, говорят, царь свою дочь Ксению за шведского королевича выдает. Такие новости. У вас-то что?” Собрались во дворе у старосты, куда пришли и сотник Кирилл, и новый десятник Кирьян. Если кто из любачёвских проходил в это время мимо двора старосты, тот человек обязательно останавливался, привлечённый любопытной картиной. Никодим, его люди, староста, сотник, десятник стояли кругом, в середине которого лицедействовал отец Офонасий. Священник, согнув ноги в коленях, присев низко, изображая маленького человека, мельчил шагами, скрючивался, разгонялся, кувыркался, вскакивал, вздымая руки вверх, изображал зверя и рычал, потом крался, кого-то хватал и скручивал. И всё это время что-то важное втолковывал мужикам, отчего те смущенно переглядывались. Похоже, если о чём-то мужики до "представления" отца Офонасия и не имели понятия, то теперь они этого стали побаиваться. Да и сам священник чего-то явно опасался. Ночью, прежде чем лечь спать, он долго и усердно молился перед ликом Спаса. Мы можем с полной уверенностью сказать, что отец Офонасий молитвой укреплял дух свой для предстоящей борьбы с оборотнем. Сон священника оказался тревожным.
На следующий день, отслужив утреннюю службу, собрав свой разъезжий мешок, расцеловав по очереди жену Наталью, сыновей Нестора и Семена и дочурку Настю, отец Офонасий, понукая жеребца Соловко, вновь затрясся в телеге по направлению деревни Почайки. За телегой, на веревке, бежала единственная коза семьи отца Офонасия. Проехав с версту, отец Офонасий повстречал ходоков из Калиновки, мужиков Власа и Трофима. Те поведали Калиновский слух. Якобы, явится скоро в Калиновку Велесов посланник, медведь, косматый хозяин, и будет великое разорение и убыток крестьянам, если они добровольно не подчинятся ему. И не надо, де, надеяться на защиту церкви, она, де, в Почайке, в лице священника Офонасия, обделалась, де. Так говорят… Проблеяла коза.
Отец Офонасий выслушал Калиновский слух спокойно, как наперёд ожидаемую им весть. "Кто из вас, миряне, может отправиться со мной в Почайку оборотню противостоять?" – спросил он. Мужики оба замялись. "Ладно, – не стал давить на них отец Офонасий, – без вас обойдемся. Боязно? Или молотить зерно спешите? Слов много, а дел на вершок. Кто виноват? Ступайте. А своим передайте, отец Офонасий поехал в Почайку супротив оборотня стоять. Всё будет хорошо. Или худо. Но оборотень у нас хозяйничать не будет. Так и скажите. Ступайте".
Батюшка тронул коня, телега заскрипела, и её колеса покатили по размытой дождями дороге, оставляя глубокие колеи. Коза опять проблеяла и подалась вслед. Мужики, Влас и Трофим, понуро посмотрели на удаляющуюся сутулую фигуру священника. Они перекинулись парой слов, пожали плечами, почесали в затылках, махнули каждый рукой и, развернувшись, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее зашагали в сторону Калиновки. Влас и Трофим возбуждённо обсуждали слова батюшки и при этом иногда одаривали его язвительным словцом, вроде, знаем и без попа, что воскресный день свят.
В это же время поп думал о мужиках так: "Ловки, кабы локти не цеплялись. Издали и так, и сяк, а вблизи ни то, ни сё. Да и то. Кого медведь драл, тот и пенька в лесу боится. Прости их, Господи. И прости меня, грешного, если их осудил".
В Почайке священника никто не встретил. Крестьяне молотили зерно, управлялись по хозяйству. Отец Офонасий подъехал к дому Пахома. К нему вышли сам Пахом, расстроенный и приужахнутый, и Глеб, сдержанный и угрюмый. Увидев козу у телеги, Пахом несколько приободрился. Но отец Офонасий, перехватив взгляд Пахома, тут же разочаровал его: "Коза для оборотня. Вернее, приманка. А ещё вернее, если всё ладом пойдёт, она ему не достанется. Я хочу доказать. И то доказать, что и твой, Пахом, козёл не напрасно жизни лишился, а за общее дело". – "Дык, едак оно, – вяло согласился Пахом. – Дело общее. Козёл мой. Не воротишь козла. Вот незадача". – "Ну как, Глеб, сделал, что я просил?" – "Все в точности, батюшка, исполнил. Толкуют по деревне… Только…" – "Не верят?" – "Шибко сомневаются". – "Понятно. Ужас они видели и верят в него. Наша задача и есть исправить положение. Службу буду служить. Но сперва я хочу на Бажена взглянуть". – "Я проведу", – вызвался Глеб.
Бажен жил неподалёку от двора Пахома, в большой семье своего отца, пожилого мужика Никифора. Всю семью застали за работой на гумне. Баженка, парень лет семнадцати, ещё не женатый, невелик ростом, но и не мал, русоволосый, чистый лицом, проворный и ловкий в работе, на разговор с отцом Офонасием пошёл безрадостно. Нового ничего не сообщил: леший попутал, заплутал, ночь провёл в чаще, продрог и оголодал, с рассветом начал выбираться. Чтобы лешего обмануть, как и положено, вывернул рубаху наизнанку. Кое-как набрёл на знакомое место. Всё. Отец Офонасий, правда, и не надеялся узнать что-либо новое от Баженки. Он наблюдал самого парня. А когда отец Офонасий и Глеб возвращались, священник сказал: "Ой, о чём-то не договаривает Баженка. Есть у него что-то на уме… или на душе… И каким-то страхом от него пахнет". – "Разве у страха есть запах, батюшка?" – удивился Глеб. "Пахнет. Страх изнутри идёт, и у человека дух тяжёлый становится". – "На что же он похож этот запах, батюшка?" – "На что? Гм. У каждого свой, а у Баженки… Как есть болотный гнилой запах. Погоди". Отец Офонасий уставился взглядом на Глеба. "Что, батюшка?" – "Да ведь я такой запах уже чуял надысь от кого-то". – "От кого?" – "А вот и не припомню".
Наконец, отец Офонасий приступил к службе. Сначала он совершил всё, как и в прошлый раз: молебен, крестный ход вокруг деревни. Крестьяне, в большинстве державшиеся поначалу в стороне, в завершение службы всё-таки дружно вывалились к месту события, хотя больше походили на любопытствующих, чем участников. Вот в конце-то и произошло самое таинственное. Правда, и отец Офонасий несколько отстранился от действа, а главным лицом стал Глеб. Глеб, на том месте, где происходило преображение оборотня, развел большой костёр из заранее приготовленных хвороста и дров. Огонь взметнулся высоко, выше человеческих голов. Когда же костёр разгорелся особенно жарко, отец Офонасий извлек из своего рукава на белый свет тот самый клок чёрно-бурой шерсти и серенькую ниточку и передал Глебу, громко произнеся слова: "Пусть сгорит, как и память о самом оборотне развеется дымом, чтоб ни духу, ни слуху о нем больше не было". Глеб взял шерсть и ниточку, бережно донёс до огня и со старанием определил их в пламя, чтобы, невзначай, не подхватил семена оборотневы ветер-шалун и не унёс, не посеял у деревни страшными последствиями. Действо вызвало среди крестьян непонятный гул волнения. Но Глеб и отец Офонасий ещё не закончили. Дождавшись, чтобы костёр прогорел, Глеб разгреб лопатой угли, а в середине пепелища вырыл яму, по колено в глубину. В эту яму он уложил, сломав пополам, принятый от отца Офонасия медвежий коготь. Коготь Глеб закопал, захоронил, притоптал, а сверху насыпали угли и пепел. Крестьяне напряжённо молчали. Отец Офонасий, завершая весь этот странный обряд, прочитал охранительную молитву от нечистой силы.
Крестьяне не расходились. "Как же, святой отец, можно ли спать нам теперь спокойно?" – "Утро вечера мудренее", – отвечал отец Офонасий. "А вот в вечер-то оборотень рыкнет, как запоём утром? Чем мы умнее дедов наших? А они косматого за хозяина почитали", – выразил, наверное, не только своё мнение мужик Силантий, тощий, с впалой грудью и язвительным, едким взглядом. Отец Офонасий с интересом посмотрел на него: "А не ты ли, мил человек, будешь сродный брат Егора Кривого из Калиновки?" – "Дык, я, – неохотно ответил Силантий. – Чего?" Отец Офонасий принюхался в сторону Силантия. Это ещё больше не понравилось Силантию. "Чего вынюхиваешь?" – "Признавайся, кожи сегодня мял?" Силантий немного растерялся. "Ну, мял". – "Как ему не мять, – вступился мужик Никанор, отец Баженки, – когда он скорняк известный". – "Вот-вот, руки и пахнут на всю округу кожами, – посмеялся отец Офонасий. – Мни кожи, Силантий, а не молоти языком попусту. У вашего Егорки глаз шибко зоркий, одна беда, глядит не туда". Вокруг рассмеялись. Крестьяне не хотели расходиться, но отец Офонасий задал им вопрос, смутивший мужиков и баб. "Детей крестить у медведя будете? А покойников ему на съедение отдавать?"
Перед сумерками Глеб и отец Офонасий вывели в скотий загон приведённую отцом Офонасием козу. Кстати, её звали Белка. Сами же отец Офонасий и Глеб вышли вперёд к лесу и стали ждать, не таясь. Осмелится ли теперь оборотень появиться в Почайке? "Боишься?" – спросил отец Офонасий Глеба. "Боюсь, отче". – "И я боюсь".
Оборотень вызов принял. Только сумерки стали опускаться на Почайку, на опушке леса, словно из-под земли, появился маленький человек в серой одежонке. Он быстро заходил, опустив к земле голову, влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Суетливый, но тревожащий до дрожи вид его сразу напомнил прошлый случай. У отца Офонасия закололо под левой лопаткой, а тело затрясло от озноба. Священник посмотрел на Глеба. Глеб побледнел и оцепенел. Маленький же человек, не сбиваясь, продолжал своё дело. Вот он замер на месте, обратившись плоским, неестественно бледным лицом к загону, повёл носом, улавливая нужные ему запахи и вновь, как и в прошлый раз, навострился, выпрямился, сорвался с места и быстро-быстро замельчил, замельчил ногами в сторону козы в загоне, всё ниже и ниже пригибаясь к земле. В этот раз он начал ещё не громко, однако сильнее и сильнее, издавать рык. Как ни напуган был отец Офонасий, а страх рос вместе с приближением маленького человека, он в лихорадке восприятия всё-таки отметил, что оборотень по ходу забирает немного вправо от пепелища с захороненных когтем, метя в густой бурьян. Отец Офонасий опять посмотрел на Глеба. Его состояние не изменилось, те же бледность и оцепенение, лишь глаза необычно расширились. А маленький человек уже нырнул в бурьян, кувыркнулся, и сразу же поднялся на задних лапах огромным медведем, который зарычал жутко и раскатисто и уставился горящими жёлтыми глазами на людей, то есть на отца Офонасия и Глеба. Страх пробрал отца Офонасия до самого низу и превратился в каменный комок внизу живота. Что-то похожее, очевидно, переживал и Глеб. Оборотень сделал шаг в сторону Глеба и отца Офонасия и напрягся для прыжка. Они затаили дыхание. Позади медведя из бурьяна вылетела толстая веревочная петля и накинулась на его шею. Два крепких человека, люди Никодима, вскочили на ноги и попробовали затянуть аркан. Медведь, почувствовав затягиваемую петлю, резко развернулся назад, ударом лапы и когтей порвав толстую верёвку, словно серенькую ниточку. Тянущие упали в траву, а когда медведь рыкнул на них страшно, и из пасти его вырвалось пламя, они, на карачках, шустро поползли прочь. Из бурьяна поднялся Никодим с палашом в руке, но с места не двигался. Тогда с другой стороны поднялись из травы староста Иван, сотник Кирилл, десятник Кирьян и двое из людей Никодима. Эти двое в очередь и очень ловко метнули по аркану. Обе петли достигли цели и стали затягиваться. Оборотень теперь крутнулся в другую сторону и также перерубил ударом одну из верёвок. Однако на вторую силы удара не хватило. Верёвка начала тянуть медведя вниз, затянувшись на шее. На это оборотень ответил неожиданным кувырком вперёд, вмиг оказавшись перед теми, кто управлялся с верёвкой. Рыкнув, медведь нанёс им два страшных удара, от которых они, отлетев, попадали на землю. Староста, сотник и десятник, выставив вперёд вилы, попятились назад. И тут раздался истошный крик Глеба, сорвавшегося вдруг с места и бросившегося к оборотню. Оборотень развернулся к Глебу и рыкнул странным звуком: "Оргх!" Медведь расчетливо подпустил к себе Глеба и махнул своей убийственной лапой. Но высокий рост подвел его, а Глеб в последний момент немного подсел, проскочил под лапы и ударил головой в пах оборотня. "Оух!" – выдохнул медведь, согнувшись. Тогда, кинувшись вперёд, его сбили с лап и навалились на него Никодим, его человек, староста Иван, сотник Кирилл, десятник Кирьян. "Вяжите его!" – рявкнул Никодим. Но это была ещё не победа.
Опрокинутый оборотень вдруг со страшной силой рванулся вверх и встал на задние лапы, разметав тех, кто боролся с ним, в разные стороны. И только Глеб оказался стоящим напротив оборотня в трёх шагах от него. Глеб, не придумывая ничего нового, согнувшись, весь подобравшись, вновь кинулся на оборотня. В этот раз медведь сумел зацепить Глеба по плечу, но Глеб всё же прорвался и повторно боднул оборотня в пах. Удар в этот раз не вышел очень сильным, хотя медведь охнул, согнулся и замер от боли на мгновенье. Этого мгновения хватило Никодиму и его людям, чтобы опять накинуться на медведя, повалить и начать скручивать и опутывать верёвками злыдня. Тот попробовал сделать последнюю попытку высвободиться. Выпростав лапу, он уже собирался махнуть ею, как секирой, но Никодим рубанул по лапе палашом. "Ах! Мать вашу!" – раздался вопль. Тут на злодея навалились и староста Иван, и сотник Кирилл, и десятник Кирьян. Так оказался повержен оборотень любачёвской округи, почаевский медведь, о котором ещё долго в данной местности будут слагать байки и легенды, одна другой страшнее и не правдивее, и передавать из поколения в поколение. Особо любимым у местных будет рассказ о мужике, который в самое время перед появлением оборотня сел в бурьян по нужде, а когда оборотень явился и рыкнул, мужик рванул по чистому полю со спущенными портками. Человек расстаётся со своим прошлым, смеясь.
Пока мужики уселись прямо возле медведя, чтобы прийти в себя и отдышаться после схватки, Никодим, несмотря на усталость, проявил расторопность, кинулся в бурьян и буквально обшарил его и вытащил за шкирку на всеобщее обозрение маленького человека в серой одежонке с плоским и белым лицом. Рывком Никодим сорвал с лица человека берестяную маску. "Кто таков?" – грубо спросил губной целовальник. Маленький человек молчал. "Да это Силантий, сродный брат кривого Егора, – сказал подошедший отец Офонасий. – Так я и думал. От них одинаково болотным страхом пахнет. Сообщники. Давайте посмотрим, кто там в шкуре такой, что нечеловеческой силой обладает".
Не развязывая путы, разрезали стягивающую веревочку на медвежьей шкуре и в ней увидели крупного человека исполинского роста с могучими мышцами и свирепо вращающимися глазами. "Руку перевяжите, кровью изойду," – прохрипел он. Но ранеными оказались и двое из людей Никодима, и Глеб, которого "медведь" полоснул когтями в последнем броске. Быстро принесли тёплой воды, чистого холста, промыли раны и перевязали каждого.
"И опять похвалю твою смекалку, отец Офонасий, – сказал Никодим, губной целовальник. – Если бы не твоя уверенность, что эту шкоду люди творят, а не нечистая, не знаю, выстояли бы мы в драке? Ведь как он, вор, бился, человеку не под силу". – "Эх, Никодим, ты ещё не видел, какими скачками он прыгать умеет на всех лапах. Истинно, что-то нечеловеческое. Да это и не всякому зверю так суметь. Глеб-то наш каков!" – "О! Глеб – молодец. Уж на что у меня Еремей не зелёный малец, храбр и ловок, в переделках бывал, Яшку Шустрого брал, а и тот на карачках от злодея пополз. А Глеб не сробел, в бой бросился. И все же, отец Офонасий, как тебе удалось раскусить их, змеев?" – "Неторопный осмотр места, Никодим, без наполненных страхом глаз. Вон то место, где один нырял в бурьян, в высокую траву, а второй уже лежал ожидаючи. Очень оно помято оказалось и в Калиновке, и здесь в Почайке. Понял я, что "медведь" этот подползает ловко и скрытно, опять же приминая траву, пока первый изгаляется перед нами у опушки, шныряет туда-сюда, семенит ногами, кувыркается. И отвлекает. А потом находки. Шерсть, ниточка, коготь. Подумалось мне, шибко много следов оставляет оборотень, нечистая сила. Тогда и понял, как очень ловко представляется дело, и без людей не обходится. Первый отвлекает, да жути понемногу нагоняет, потом падает в высокий бурьян и таится, а второй медведем выпрыгивает. Страшно. Что они говорят? Ради козлов да баранов?"
Никодим кашлянул, прочищая горло: "Ради барыша, говорят. Вернее, один говорит. Силантий. "Медведь"-то молчит. Хотели запугать округу и получать скотинку как отступное. Скотинку продавать, денежки делить". – "Невелик-то доход, – покачал головой отец Офонасий. – Жадность?" – "С каждой деревни по козлу, по барану и вместе выйдет кое-что". – "Кривого Егора когда думаешь схватить?" – "Завтра". – "Не убёг бы". – "Я ему убегу. Тать должен сидеть в темнице! – веско закончил Никодим, а потом обратился к священнику. – А чего ты, батюшка, как бы и не успокоившись? Что покоя не даёт? Я же вижу". – "С Баженкой мне надо поговорить. Как взяли мы лиходеев этих, вся деревня сбежалась на них глянуть". – "Заметил. Пока мы с оборотнем этим барахтались, они за банями да овинами прятались, высматривали, чья возьмёт". – "Так. А потом поглазеть вышли. И Баженка среди них. Он на них, лиходеев, даже связанных со страхом смотрел. У них он в лесу был. Должен я его успокоить. Душа у него не на месте". – "Ну и иди, раз должен, – сказал Никодим, зевая, – а я своё сработал. Проверю ещё, как их там закрыли, чтоб не сбежали ненароком, и на боковую".
Только спать долго Никодиму, губному целовальнику, пригревшемуся на печи, не пришлось. Скоро отец Офонасий растолкал его. "Вставай, Никодим". – "Какого лешего? – заворчал Никодим. – Что стряслось?" – "С Баженом я переговорил. Не попусту я беспокоился. Надо немедля кривого Егорку хватать". – "Ох, отец Офонасий, через твое беспокойство и мне покоя нет". Вдвоём они подняли людей Никодима: Еремея и Якима, Григория и Карпа. Оседлали коней, а отец Офонасий просто набросил на своего Соловку какую-то овчину, и направились в Калиновку. Ночь выдалась тёмная. Луна иногда проглядывала, но чаще её закрывали тучи. К тому же начал накрапывать мелкий дождик. Он то прекращался, то припускал сильнее. К счастью, путь предстоял не далёкий. От Почайки до Калиновки пролегло верст шесть-семь. Воздух вдыхался свежий, ядрёный, с полей пахло увядшими травами и жнивьем.
"Ни зги не видно," – пожаловался мужик Еремей, когда в очередной раз туча закрыла луну. "Ничего, кони дорогу чуют, вывезут," – ответил мужик Яким. "Вот бы и людям так, – пожелал отец Офонасий, – и во тьме кромешной с пути не сбиваться. А то ведь даже в сумерках путаться начинают". – "Это ты, отец Офонасий, о почаевских, что готовы были к Велесу метнуться?" – "Про почаевских, калиновских и других. Ты вот, Никодим, можешь ответить, что есть наша вера?" – "Как что?!" Даже во тьме почувствовалось, что Никодим вскинулся от наивности вопроса священника. "Православие! Православные христиане мы. Ты что?" – "Батюшка не выспался, вот и мудрит", – сказал мужик Карп под общий смех. "Переутомился", – поддержал мужик Григорий. "Хорошо, – продолжал отец Офонасий без смущения, – а что она такое значит вера христианская и православная?" – "Во Христа верим, чего ещё", – сказал из темноты Карп. "Православная, значит, правильная", – сказал из темноты Григорий. "Отцов и дедов наших вера", – сказал из темноты Никодим. "Так точно и кривой Егор с Силантием говорят. Язычество – вера предков. Стоило шиш на мышь менять? В чём православная вера правильная-то?"
Вышла из-за тучи луна, и отец Офонасий различил раздражение на лице Никодима, который сказал: "Хватит томить, святой отец. Мы – не попы, всё одно не угадаем. Знаем, что наша вера, и все тут". – "Нечего и гадать, – ответил отец Офонасий. – Все мы знаем ответ, только на сердце он у нас не лежит, вот и забываем. Православие в любви и добре". – "А-а, знаем, конечно", – согласился Никодим и сразу смягчился. "Да, знаем", – сказал Карп. "Да, знаем", – сказал Григорий. "Знаем", – сказали Еремей и Яким. "Видишь, все знаем, – подытожил Никодим. – Чего же ты, отец Офонасий, распереживался?" – "Размышлял я. О крепости веры. Любой крестьянин и в церковь сходит и помолится на образа и свечку затеплит. Всем миром молебен об урожае закажут, а потом ещё языческое приплетут, вроде завязывания последнего снопа "на бородку" тому же Велесу. А как, например, скот оберегают. Сам видел, что в богоявление делают. Начинают с того, что берёт человек с божницы икону, зажигает перед ней свечу. Другой раскуривает кадильницу, третьему достаётся топор в руки, а хозяин надевает шубу шерстью наружу. Кого он изображает? Хозяина косматого, слугу Велеса. Затем хозяин берёт миску с богоявленской водой и соломенное кропило. Идут все на скотный двор. Впереди сын хозяина согнувшись, и чтобы топор касался земли. Жена или дочь, или сноха следом несёт икону воскресения Христова. За ней идут с кадильницей, а в опоследок хозяин с миской воды. Идут молча. Остановятся посреди двора. А здесь уже приготовлен корм для скота. Тут тебе и хлеб разломанный на куски и ржаные лепёшки, и зерно, и не молочёные снопы, хоть овса, хоть ржи или ещё чего. И вот хозяйка выпускает из хлевов скотину. Скотина находит еду и набрасывается на неё. А крестьяне в это время идут вокруг скотины с иконой, а хозяин окропляет скотину святой водой. Так обойдут три раза, а потом топор крестом перебрасывают через скот. После в избу возвращаются. Вот такая мешанина. Каково?" – "Оно приятно послушать, когда вот так вот в ночи едешь. Хотя я думал, ты что-то особое расскажешь, – разочарованно произнёс Никодим. – Обычное дело". – "Так, – поддержал Еремей. – И дедов поминаем, и навьям в банях обряды творим. А как? Хотя и знаем, что церковью возбраняется". – "А отчего возбраняется? – зацепился отец Офонасий. – Но! Пошёл Соловко". Соловко, притомившись, стал отставать от более выносливых коней Никодима и его людей. "Попридержите коней, – попросил отец Офонасий. – Почему возбраняет церковь? Потому что не только именем Христовым делается, но и поганых бесов. А те, вон, жертву требуют. Козла, барана, а то и человека. Ладно, с Баженом обошлось. А если б по-другому? А потом забываем, что Христос – это любовь и добро". – "Ну, мы больше не забудем, – почти серьёзно сказал Никодим. – Только и ты пойми крестьянскую душу. Они своё добро, а значит, жизнь оберегают". – "Понимаю. Голодное брюхо и не туда заведёт". – "А с другого боку, как ты бесов обойдешь? Самого леший не крутил? Домовой не пугал тебя?" – "Не без этого, как же? – удивился отец Офонасий. – Приходилось, конечно. Силой Христовой и оборонялся". – "Сейчас она нам пригодится. Приехали, однако. Где Егоркина изба?" – "На другом краю. Как раз по ветру", – вспомнил отец Офонасий. Так и поехали, по ветру. Остановившись посреди деревни, спешились. Здесь оставили Якима с лошадьми, сами двинулись ко двору кривого Егора. Ещё издали заметили, что в окне избы Егора горит свет. "Не спится иуде", – сказал на это Никодим. "То ли вестей ждёт из Почайки, то ли чует что", – добавил Карп. "Может, всех разом прихватим и второго тоже?" – сказал Еремей. "Погоди, увидим", – ответил Никодим.
Но как только они, довольно неосторожно, подошли ко двору Егорки, какая-то тень метнулась прочь и скрылась во тьме ночи. "Леший его забери, – выругался Никодим. – Кто таков? Еремей, Карп, – в избу. А мы попробуем следом за тем". Никодим, Григорий и отец Офонасий поспешили в темноту за беглецом. Однако быстро их погоня остановилась. Темень, хоть глаз выколи, в какую сторону кинулся беглец – неясно. Вернулись к избе, надеясь на удачу. Напрасно. В избе, рассказали Еремей и Карп, родители Егорки, братья с семьями, не причастные к делу, семья самого Егорки, а Егорки – нет как нет. "Значит, это он сбежал, – вывел Никодим. – Как дальше поступим? Можно, конечно, Силантия тряхнуть и выведать, где сейчас искать Егорку. Но ведь тогда возвращаться. Нет охоты. А?" – "Всё равно по темну мы его не найдём", – сказал Еремей. "Верно". – "Может, собаку попробовать?" – предложил отец Офонасий. – "Собаку?" – "Есть здесь два брата-охотника, Анисим и Клим. У них собака есть. Говорят, нюхливая очень". – "А что? Попытка – не пытка. А? Давайте, пока след не простыл, или дождь не пошёл".
Всполошили семью Анисима и Клима, их подняли на ноги. Пёс, со странной кличкой Искайка, которому дали понюхать онучи Егорки, покрутился по месту, где видели Егора, и пошёл по следу. Люди, при свете наскоро сделанных светочей, поспешили за ним. Пёс бежал все быстрее и быстрее, пока не уткнулся в речку. "Может потерять след, если по воде ушёл", – сказал один из братьев-охотников, Клим. Перешли речку, пустили Искайку, и он, не сразу, опять напал на след. "Похоже, очень торопился или испугался. Не додумался по воде подальше уйти”, – рассудил Клим.
От реки следы повели через поле к лесу. В лесу двигаться стало сложней, и из-за ещё более сгустившейся темноты, и из-за сучьев и кореньев, так и подворачивающихся под ноги, из-за ветвей, норовящих хлестнуть по щеке или ткнуть в глаз. Так и казалось, что леший таким неласковым способом встречает непрошеных гостей. "Погоди! – остановил всех Никодим. – Отдышимся малость". Люди послушно остановились для отдыха. "Пёс-то по следу идёт, не мает понапрасну? Леший его не водит?" – "Что ты! Он умный", – ответил Анисим. "Куда ведёт, понимаешь?" – "Должно быть к болотам". – "К болотам это правильно, – сказал отец Офонасий. – От них, от всех, болотным духом пахло". – "Эх, – пожаловался Никодим, – только новые сапоги справил. На тебе, по лесам, по болотам. Измочалю". – "Это ты и не сомневайся, Никодим, измочалишь. Как есть измочалишь”, – поддержал целовальника Григорий и вздохнул сочувственно. Никодима не очень ободрила такая поддержка. Он закряхтел, вставая с поваленного ствола дерева, на котором сидел, и распорядился: "Будя отдыхать. Пошлите". Погоня возобновилась. И чем дальше они двигались, тем водянистее становилась почва. В самом деле, они приближались к болоту, месту, которое чаще всего окрестные жители избегали посещать.
"Чу!" – вдруг насторожился Яким. "Что?" – спросил Никодим. Все замерли. "Как будто послышалось что. Голос". – "Свет какой-то", – сказал Григорий. "Где?" – "А вон где", – Григорий указал немного влево, где по стволам берёз прыгали неровным светом красноватые блики. "Неужто пришли? Тихо подходим и окружаем скрытно. А там я знак подам". Рассвет уже забрезжил, но робко сквозь разрывы туч. Подкрадываясь в направлении света, они увидели небольшую поляну, почти правильно круглую. В середине горел большой костёр подле истукана, идола, сделанного из дерева. Между идолом и огнём, в косматой одежде, с посохом в руках, стоял волхв. Как и положено волхву, он волховал, произнося какие-то заклинания и вскидывая руки к идолу. Перед костром ниц лежал человек, наверное, Егор. Из-за берёзы вышел Никодим и махнул рукой. Все приняли это за знак и тоже вышли из укрытий, взяв волхва, Егорку и идола в кольцо. Пёс залаял и рванулся к волхву, но Анисим удержал его. Волхв обернулся к ним: "А-а, пожаловали". – "Сдавайся по добру, не то…" – предупредил Никодим. "Ваша взяла", – признал волхв. Кривой Егор поднялся и тоже повел себя покорно. "А ты, поп, не радуйся, – обратился волхв к отцу Офонасию. – Не всегда ваш верх будет". – "Я радуюсь только одному, человече. Что ты Баженку, который случайно забрёл к вам, не пожертвовал вот этому идолищу, как сначала хотел, а отпустил. Это хорошо, это по добру. Жизнь человеческую не отняли". – "А за моей жизнью пришёл? Меня ведь на костёр за волхование по вашим законам". – "Ты разве не знал, на что шёл?" – "Я знаю то, чего ты, поп, не знаешь".
Что дальше произошло, видел только отец Офонасий, потому что волхв сделал шаг в сторону за пламя костра, и так получилось, что от взгляда других он скрылся. Теперь волхв швырнул в огонь какой-то порошок, который вспыхнул яркой вспышкой, ослепившей отца Офонасия. А дальше, уверял отец Офонасий, волхв кувыркнулся и… обернулся в волка. Волк одним прыжком сиганул в ближайшие кусты и скрылся.
"Обознался ты, отче, – не верил ни Никодим, ни иже с ним. – Он в лохматой одежке был. Стал на карачки и рванул в кусты. Сам говорил, "медведь" такое же вытворял". Подумав, Никодим добавил: "Ох-хо-хо, пропали сапоги, пропали". Отец Офонасий переубеждать никого не стал, только развёл руками. Слишком быстро всё произошло, да и не в его интересах было заставлять мужиков думать иначе, в пользу волхва. Поддержать священника мог бы Искайка, в момент обращения волхва в волка что-то почувствовавший и прижавшийся к коленям Анисима. Но Искайка был безмолвен и лишь поскуливал. Погоня за волхвом ничего не дала. Искайка идти по следу отказался.
По осмотру поляна оказалась настоящим капищем. Возле идола, в кострище, нашли кости животных, приносимых в жертву. Козлов да баранов. Неподалёку от идола увидели вырезанную прямо по земле фигуру лебедя и какие-то таинственные знаки. Никто из присутствующих смысл увиденного объяснить не мог, хотя вспомнили, что в старину старинную на этом месте действительно находилось капище языческое.
Так что не получалось, что дело произошедшее только татьба-воровство. Появившийся в округе волхв со своим "медведем" имел твёрдое убеждение возродить языческую "веру предков". Действовал он, якобы, от целого сообщества единомышленников. "Медведь", спасённый когда-то, где-то волхвом, был предан тому по-собачьи. Волхвом же и подготовлен невероятно выдавать себя за медведя, обладая как медвежьей силой, так и кошачьей ловкостью. Знал волхв толк и в разных мазях, порошках и травах. Потому и горели огнём глаза "оборотня", а из пасти вырывалось адское пламя.
Волхв первым в оборот взял Егорку, подкараулив его как-то у леса. Егор легко поддавался внушению через свою неиссякаемую строптивость. Пойти против общего мнения для него всегда было всласть. А через Егора был окручен и Силантий, одного поля ягода со сродным братом. Так и стали подручными в лихоимстве да разносчиками слухов.
"Нет, не было у них такой возможности подчинить язычеству округу, – рассуждал отец Офонасий. – Ни церковь наша, ни власть светская не допустили бы. Что они против властей? Но беды и шкоды разной из своей мечты могли б много наделать".
К полудню вернулись в Почайку. "Что ж, прощай отец Офонасий, – говорил Никодим, собираясь в дорогу и садясь на свою кобылку. – Ещё раз довелось нам с тобой через год в деле встретиться". – "Прощай и ты, Никодим. В следующий раз, может, доведётся и по хорошему случаю встретиться". Отряд Никодима двинулся по дороге в уезд. Преступников везли на телеге. Конечно, их могли бы и пешком погнать, но так и не решились развязывать "медведя". Он лежал в телеге туго скрученный двумя верёвками. Всё же что-то нечеловеческое было как в его облике, так и в силе, и в повадках.
"Жалко волхв убёг. Возьмётся за своё где-нибудь ещё", – посетовал отцу Офонасию Глеб. "Нет, я не жалею, – ответил отец Офонасий, поправляя на Соловке конскую упряжь. – И ты не жалей, Глеб. Его костёр ждал. А он всё-таки Бажена пожалел. Ну и пусть себе рыскает волком по лесам. Сам себе судьбу выбрал. Без помощника своего ему теперь тяжельше будет". – “А как ни суди. а он необычен. Так, батюшка?” – “Так. Да и медведь его… Ни понять, ни объяснить”.
Попрощавшись с почаевскими, привязав к телеге козу Белку, избежавшую жертвенной участи, отец Офонасий неспешно тронулся в сторону дома, в Любачёво. В дороге, которая тянулась то полем, то лесом, после радостных размышлений, связанных с предчувствием о скорой встрече с семьей, его потянуло запеть.
В тёмном лесе, в тёмном лесе
За лесью, за лесью.
Распашу я, распашу я
Пашенку, пашенку.
Я посею ль, я посею ль
Лён-конопель, лён-конопель.
Уродился, уродился
Мой конопель, мой зеленой.
Когда отец Офонасий подъехал к своему дому, во двор высыпала вся семья: жена Наталья, сыновья Нестор и Семен, дочь Настя. После обнимания и поцелуев уселись на завалинку. Дочь Настя, указывая на гуляющую по двору пару гусей, честно отработанную отцом Офонасием, спросила: "Тятя, знаешь, кто они?" – "Гусак и гусыня, Настя". – "Не так, тятя. Они Медведь и Медведица". – "Что?!" – "Так дети их прозвали", – пояснила Наталья. "Дети", – повторил отец Офонасий с особым чувством, которое услышала жена. "Ты об чём?" – "Как ты думаешь, Наташа, хорошими людьми они вырастут?" – "Господь не оставит, всё ладно будет". – "И я думаю, хорошими. Потому что мы с тобою этого от каждого нашего сердца желаем. А что в сердце, то и в жизни получается, вот в чём дело". – "Ужинать-то пора, батюшка". – "Ну, так идёмте".
Пропавший перстень
Ранним утром месяца мая 1601 года от Рождества Христова, или 7109-го от сотворения мира, помещик Алексей сын Акинфиев, тридцати четырех лет отроду, вышел на широкое крытое крыльцо своего дома своей усадьбы. Ни Алексей Акинфиевич, ни кто-либо из его близких или знакомых, ни первый русский патриарх Иов, ни сам государь Борис Годунов, никто на всей грешной земле не знал пока, что означенный год будет первым годом из грядущего тяжелейшего двунадесятилетия для русской земли, когда ей суждено маяться, болезной. А так как ни один человек на земле не ведал (а об осведомлённости небес нам ничего неизвестно), то люди и почивали спокойно. Кругом, в доме, в усадьбе, в поле, у леса, у реки покоилась устойчивая тишина. Мирная, приятная, домашняя. После ночи воздух стоял прохладный, слегка туманный, и набежавший озноб заставил Алексея Акинфиевича передёрнуть широкими плечами. Но передёрнул с приятным ощущением. Он, выходя из дома, нарочно не накинул на плечи никакой одёжки, чтобы вот именно озябнуть, а потом, вернувшись, забраться вновь под тёплое беличье одеяло и разомлеть от неги, и поспать ещё сладко некоторое время. А вышел Алексей Акинфиевич на двор по малой нужде. У людей того времени имелось много потребностей схожих с нашими. Нужник же находился в хлеву. Алексей Акинфиевич пересёк двор, прошёл в его хозяйственную часть и скрылся в хлеву. Выйдя из хлева вскоре, он, не спеша, направился уже было в дом, как неожиданно услышал какой-то неясный шорох, возню за дальним углом хлева. Что такое? Может, Фёдор-караульщик? Или тать? Алексей Акинфиевич поскрёб в густой русой бороде, огляделся. На глаза попались вилы у стены хлева. Алексей Акинфиевич, прихватив вилы, крадучись, двинулся на шум. Взяв вилы наизготовку, мягким шагом Алексей Акинфиевич выдвинулся из-за угла. Возле самого тына, забора из кольев, в ворохе соломы копошился кобель Полкан, засунув морду в солому и выставив высоко широкий зад с пушистым хвостом.
“А чтоб тебя, дурня”, – пробормотал Алексей Акинфиевич, опуская вилы и собираясь уйти, однако вернулся и подошел к кобелю. Тот, вцепившись зубами, вытаскивал из соломы какую-то тряпку ли, холстину ли, или ещё что. Алексей Акинфиевич наклонился, ухватил тряпицу и потянул к себе. Пёс недовольно заворчал, но уступил хозяину. Из-под соломы на свет появилась туго свёрнутая холстина. Алексей Акинфиевич удивленно вскинул брови. Развернув холстину, он ещё больше удивился. В ней, свежие, обнаружились харчи: треть каравая ржаного хлеба, шмат сала, немного вареного мяса, кусок пирога с кашей.
“Что за притча?” – задумался Алексей Акинфиевич, бросил кусок пирога Полкану, а остальное взял с собой. И лишь войдя в дом, он вспомнил, как на днях его тиун-управляющий пожаловался на пропажу каравая хлеба и какого-то количества какой-то крупы. Недостача обнаружилась совершенно случайно, так как хозяйство Алексей Акинфиевич имел не малое, а запасы достаточные. Поэтому в тот день Алексей Акинфиевич, увлечённый ковкой коней, отмахнулся от тиуна и только велел обратиться, если подобное повториться. И вот он сам, а вернее, с помощью Полкана, пожирающего теперь пирог, нашёл эту закладку. Вспоминая всё это, Алексей Акинфиевич пронёс свою находку наверх, в жилые комнаты дома. Здесь он посмотрел на неё досадливо, насупился, прищурился, зевнул широко и, швырнув свёрток куда-то в угол, отправился добирать сон.
После сна, за завтраком, Алексей Акинфиевич вспомнил о находке, велел прислуживающей бабе найти её и позвать тиуна. Баба исполнила приказ споро, и вслед за свёртком скоро появился тиун Ерофей, ровесник хозяину, высокий, ладный, сдержанный, скупой на слова, деловитый, но с озорным взглядом ясных глаз. От предложения позавтракать не отказался. Обстоятельно обговорили заботы о пахоте и севе. Выслушав его, Алексей Акинфиевич кивнул на лежавшую на столе уже развернутую холстину и растолковал Ерофею, в чем дело.
“Эх, хозяин, оплошал ты малость”, – подосадовал Ерофей. “Это в чём же?” – “Надо было оставить на месте и проследить, кто придёт за харчами”, – пояснил тиун. “Да как же я знаю, когда придут? Может завтра. Что мне, у нужника день сидеть?” – выразил неудовольствие Алексей Акинфиевич, понимая про себя, что действительно дал маху. “Вряд ли. Приготовили с вечера, чтобы взять утром, – не унимался умный Ерофей, словно не замечая расстройства хозяина. “Всё равно Полкан уже вытащил и сожрал бы харчи”, – вспомнил Алексей Акинфиевич и усмехнулся, считая такой довод весомым. “Ну, если Полкан…” – не стал развивать Ерофей, соображая про себя, что можно было и просто проследить за местом. “Да и спать я хотел”, – прибавил Алексей Акинфиевич. “Ну, если спать…” – “Что ты заладил, ну да ну, – рассердился Алексей Акинфиевич. – Кусок хлеба да шмат сала. А разговору-то”. – “Не сердись, хозяин, Сам же позвал меня”. – “Да, сам, – признался Алексей Акинфиевич успокаиваясь. – Впрочем, это ведь прекратить следует. Как говорится, вор, если яйцо украл, то и курицу украдёт. Прошлый раз ты ведь говорил… Погоди, уж не в бега ли податься кто решил?” Тут Алексей Акинфиевич замолчал и задумался. “Вот что, – наконец сказал он, – собери всех людей перед крыльцом. Говорить им буду. Может, проймет?”
Тиун Ерофей исполнил сказанное в точности, собрав у крыльца хозяйского дома всю дворню, как управляющуюся по хозяйству, так и по дому. Среди дворни находились и шесть боевых холопов Алексея Акинфиевича. Алексей Акинфиевич, принарядившийся для выступления в кафтан, окинул строгим взором своих людей, челядь, сделал шаг вперёд и, уперев руки в бока, начал: "Вот что у нас делается. Сначала Ерофей недосчитался, а сегодня я нашёл закладку с харчами. Разве ж так делается? Или по-христиански это? Или вы недоедаете у меня, или что? Видимое ли среди нас прежде, чтобы красть?"
Люди заволновались: "Что ты, хозяин, Алексей Акинфиевич, да разве ж мы крадём? Что же это, на нас креста нет, что ли. Не бывало прежде. Кто же завёлся, окаянный? Ты, Алексей Акинфиевич, скажи кто, и мы его сами накажем".
"То-то вот, кто, – проговорил помещик, опуская руки. – Не углядел я, кто пакостит. Маху дал". Он невольно нашёл взглядом Ерофея и повторил: "Да, маху дал". Потом Алексей Акинфиевич приободрился, заложил руки спереди за широкий кожаный пояс и продолжил: "Да и не велик убыток. Не об убытке речь. Если это просто кража, то обидно мне. Не кормитесь ли вы у меня досыта?" – "Досыта, хозяин, досыта", – дружно отвечала дворня. "А если беда какая, нужда, приди и поговори со мной, а я помогу. Только не кради, Христом-Богом прошу. Обидно". – "Скажи кто, хозяин, мы его накажем. Строго", – распалялась дворня. "Не знаю кто, не углядел". – "А что же Федька, караульщик, чёртов сын? Где был?" – "Спал, поди, ирод, что же ещё". – "Погодите, – остановил разволновавшуюся челядь Алексей Акинфиевич. – С Федькой я сам разберусь. Другая думка у меня есть. Не собрался кто из вас в бега податься?" Дворня, как оглушённая, замерла и не издала ни звука.
"Вот и я думаю, вроде и не от чего бежать, – рассуждал помещик. – А в чужую башку не влезешь, мыслей не познаешь. Только хочу сказать человеку, если такой есть, выбрось из своей дурной башки эту мысль. Беглому житьё не сладкое. А обращусь к власти, для его сыска. Знаете, закон есть".
Здесь дворня ожила, зашевелилась: "Куда нам бежать? Зачем? Чего мы и где не видели?" – "Ладно, покончим с этим разговором. А вы кумекайте и смотрите друг за другом. Если который пакостник сыщется, мне донесите на него. Так-то, ступайте". Помещик хлопнул для убедительности ладонью по точёной балясине крыльца. Дворня, почёсывая в затылках, охая, ахая, судача, стала расходиться. Алексей Акинфиевич, довольный своим разговором с людьми, постоял некоторое время на крыльце, а потом зашёл в дом. В блаженном настроении Алексей Акинфиевич находился и, отправившись, как обычно, осматривать своих лошадей и наведаться в усадебные огород и сад и объехать поля, где во всю шла пахота, и начинался сев. Вся благость рухнула в одним миг. По возвращении домой его встретила зарёванная жена, Марфа, Марфуша. Пропал перстень, подаренный Алексеем Акинфиевичем Марфуше после возвращения из шведского похода. Восемь годов уже прошло. Памятный перстень. Враз помрачневший Алексей Акинфиевич как мог успокоил жену и позвал тиуна Ерофея. "Что посоветуешь, Ерофей?" – "Придётся, хозяин, выносить сор из избы". – "То бишь?" – "За помощью обращаться. Дознание проводить". – "И к кому обратимся?" – "Да кто уже у нас в округе слывёт за лучшего по этому делу. Известно, отец Офонасий". – "Ах, да".
Вечером этого дня в Любачёво к отцу Офонасию прискакал верховой посыльный от помещика Алексея Акинфиевича с просьбой провести сыск по пропаже перстня. Отец Офонасий сначала отказывался. Он начал недавно вспашку своего поля и нужно было ещё дня два-три, чтобы закончить. Посеешь в пору – соберёшь зерна гору. Помещик же просил, торопил, сулил щедро отблагодарить. К тому же пообещал сделать взнос на новую церковь в Любачёво, о которой отец Офонасий давно задумался. И отец Офонасий сдался. Хотя выйти из Любачёво пообещал только на следующее утро, сославшись на сегодняшний дурной сон, что посыльного вполне убедило, как потом и помещика. Пахать, как ни крути, требовалось, и отец Офонасий решился доверить важнейшее дело пахоты старшему сыну, двенадцатилетнему Нестору. Правда, под присмотром Натальи. Нестор был отрок развитый, физически крепкий, в хозяйственных делах смышлен, в пахоте сведущ. Да и пахать отец Офонасий наказал неторопно, лишь бы дело двигалось. Другие дети, десятилетний Семен и восьмилетняя Настя оставались по хозяйству дома да присмотреть друг за другом, да за годовалым Фокой. Отец Офонасий, расцеловав детей, каждого по нескольку раз, жену Наталью, отправился в путь-дорогу. Поскольку Соловко оставался для пахоты, отправился пешим ходом. Но и такой способ был для священника привычным. Идти ему предстояло около восьми вёрст, мимо Почайки, затем Валуек, а там и до помещичьей усадьбы рукой подать.
Как всегда, оказавшись за селом, он отдался всем своим существом окружающим просторам, полям, лесам, лугам. Иногда его путь пролегал вдоль реки. Всё дышало жизнью. Во всём чувствовалась душа. И глядя на уже вспаханную и вспахиваемую крестьянами землю, вдыхая её запахи, любуясь весенней зеленью и первыми жёлтенькими цветами, отец Офонасий время от времени затягивал своё "ой поля, мои поля, ой леса, мои леса". Только сегодня он всякий раз вспоминал, что окружающие его поля принадлежат по условию службы помещику Алексею сыну Акинфиеву. И крестьянам нужно было успевать обработать свой надел и сделать помещичью запашку.
Подойдя, наконец, к усадьбе Алексея Акинфиевича, отец Офонасий застал её крепкие дубовые ворота распахнутыми по причине выезда из усадьбы работных людей. А вообще усадьба смотрелась крепостцой или своеобразным замком. И хотя не было ни рва, ни вала, но усадьба, стоящая на возвышении небольшого холма, вся была обнесена тыном, сделанным из толстых кольев, почти бревен, вкопанных в землю и заострённых сверху. Отец Офонасий, пропустив выезжающих, вошёл в усадьбу, и его взору открылся большой двор. В середине усадьбы возвышался на клети дом помещика, крепкий, добротный, украшенный резьбой. Перед домом находился так называемый "чистый" двор. По обеим сторонам от дома стояли строения: людские избы слева, справа поварня. За ними, вдоль тына располагались многочисленные хозяйственные постройки. Тут были конюшни, хлев, овин, гумно, мякинница, погреб, баня. Из-за дома же виднелись деревья небольшого сада. Там же, знал отец Офонасий, имеется и огородец, капустник.
Узнавший отца Офонасия человек из челяди сразу же проводил его к Алексею Акинфиевичу. Пройдя крыльцом, через нежилой, служащий кладовой, низ дома, поднялись в жилые покои. Алексей Акинфиевич ждал священника с нетерпением, но о деле говорить отказался, пока не покормил гостя. Отец Офонасий, любивший поесть, оказавшись за обильным столом помещика, к концу трапезы почувствовал, что хватил лишнего, как еды, так и питья.
Начали о деле. Позавчера перед сном Марфа вспомнила о перстне, который носила редко, полюбовалась и положила обратно в шкатулку, в которой были ещё два кольца и серьги. Вспомнила вдруг о перстне и вчера днём, как под руку кто толкнул. Полезла в шкатулку. Перстень пропал. Дорогой перстень? Дорогой. Кто же мог войти в покои Марфы? Перечень людей оказался не малым. Во-первых, прислуживающие в доме девки Люба и Глаша. Повариха Мария, нет-нет, да и заглядывающая в дом. Затем Харитон и Пров, боевые холопы, заходили в этот день в дом к Алексею Акинфиевичу. Да сам тиун Ерофей. Почему и нет? Не вычел из этого числа отец Офонасий дочерей Алексея Акинфиевича и Марфы: Евдокию, Анфису, Варвару. Хотя вслух не сказал. Да. Назвав всех (всех ли?), Алексей Акинфиевич покачал головой: "Как тут разобрать? Ну, попробуй. Говорят, ты умелец, батюшка". – "А где холстина с едой, которую ты нашёл?" – спросил отец Офонасий. Кинулись искать холстину, не сразу нашли. Даже спрятанная в ней еда осталась, только хлеб зачерствел, да мясо стало попахивать.
Отец Офонасий, понюхав, отложил харчи в сторону и некоторое время пристально осматривал кусок материи, а затем, сложив, сунул его в свой рукав. Алексей Акинфиевич подивился на все штуки отца Офонасия, хмыкнул про себя, но промолчал.
Затем священник побывал в комнате Марфы, смотрел шкатулку, из которой пропал перстень. Следом, осмотрев все покои, в том числе, как показалось хозяину, из любопытства, отправился осматривать всю усадьбу. Отец Офонасий с тщанием осмотрел украшающую дом резьбу, в которой, словно живая, растительность переплетались с таинственными геометрическими знаками. Заходил во все хозяйственные постройки, разговаривал с людьми, наблюдал как пахтают масло и делают творог, трогал руками дерево стен, поглаживал и похлопывал лошадей в конюшне, смотрел им в зубы, мял в руках солому и пробовал её на зуб, заглянул в баню, ознакомился с яблоневым садом и огородом. Набравшись впечатлений, ушёл в отведённую ему небольшую, но уютную комнату-светёлку. Там, отказавшись от полдника, пробыл до обеда.
Алексей Акинфиевич, не понимающий действий священника и поэтому слегка недовольный им, сам-таки пошёл пригласить отца Офонасия отобедать, чем Бог послал. Постучав же и войдя к отцу Офонасию, Алексей Акинфиевич был опять удивлён и даже смущен. Одна из стен светёлки уже оказалась увешанной кусками бересты, а сам отец Офонасий, пристроившись у окна, острой палочкой чертил что-то на другом берестяном лоскуте.
"Что это ты, батюшка, никак приукрасить решил своё жилище подобно дитяте?" – спросил Алексей Акинфиевич, стараясь не выдавать своего смущения. "А что, краше стало?" – засмеялся тихонько отец Офонасий. Он подошёл к Алексею Акинфиевичу и протянул бересту: "Посмотри, как я её разукрасил. Лепо?" Помещик взял в руки бересту и увидел выцарапанного на ней человечка, то ли с палкой, то ли с саблей в руке.
И снизу подпись "Харитон". 'Это какой же Харитон? – стал соображать Алексей Акинфиевич. – Холоп мой? С саблей? Потому что боевой, со мной на службе?" – "И так и не так, – ответил отец Офонасий. – Посмотри сюда". Они подошли к стене и Алексей Акинфиевич увидел похожий рисунок с подписью "Пров", только с саблей опущенной.
"Растолкуй", – попросил Алексей Акинфиевич, вдруг увлекаясь. "Пров и Харитон заходили в дом в день пропажи перстня. Я невзначай поговорил с ними. Пров показался мне человеком спокойным, рассудительным. Немного скрытным. А вот Харитон горяч, обидчив. Даже дерзок". – "Верно подмечено. Согласен с тобой. И ты, значит, вот так их изобразил. Подозреваешь. Забавно. Знаешь, на войне они могут чужое взять. Но чтобы у меня… Если кто из них вдруг, худо тому придётся. А это ж кто?" Алексей Акинфиевич подступил к другим рисункам. "Все, кто мог взять перстень". – "Ага. Забавно. Дайка, угадаю.". Алексея Акинфиевича развлекло занятие. Он закрывал ладонью подпись снизу, всматривался в черты изображения.
"О! Девка. Кто она? Зубы скалит? Любка? Хохотушка наша?" Алексей Акинфиевич убрал ладонь и радостно прочёл: "Люба". – "Так оно. Весёлая девка и егозиста. От неё все можно ожидать. Приглядись к ней. Так. Тогда где же здесь Глаша? Ага. Думаю, вот она", – Алексей Акинфиевич указал на бересту рядом.
"Дика, печальна, молчалива. Боязлива очень. Часто слезлива. Иногда словно чужая. Так. Но душа у неё добрая. Нет, ты её не держи в подозрении. Она скорее себя обидит, чем кого другого. А это кто? Мария? Эк ты её, с ухватом".
"Ну, и грозна, конечно. Она у нас такая. На ней вся поварня держится. И не только поварня. Она же у меня и ключницей. Мария после Ерофея второй человек в усадьбе. Хотя в деловитости Ерофею не уступит, а то и понадёжней где будет. Вот он Ерофеюшка. Ишь! Хорош!"
"Озорник. С хитрецой. И любит перед людьми напоказ. Правильно я его понял?" – спросил отец Офонасий. "Похоже. Давай, приглядывай за ними, разбирайся. Только не тяни". – "Да мне и самому поскорей бы". – "А это кто? Вроде бы всех перебрали. Что-то не угадаю". – "Не прогневайся, Алексей Акинфиевич, но это дочери твои". – "Ты что, поп, рехнулся? Дочки?" – "Они же вхожи к матушке в покои". – "Чтоб дочери мои единокровные взяли у матери? Да не бывать этому. Как хочешь, а сейчас уничтожь эту нехорошую берёсту. И не прекословь".
Делать нечего, отец Офонасий открепил, выдернув щепочки, бересты с рисунком хозяйских дочерей и располосовал их, разделил на тонкие полосы. "Смотри, батюшка, при жене, при Марфе, не скажи на дочерей. Не волнуй. Брюхата она. Авось, сына дождёмся. Наследник поместью нужен". – "Дай вам Бог", – поддержал его отец Офонасий. Наконец, пошли обедать.
За столом сидела вся семья, то есть жена и все дочери. Терпеливо ждали главу семейства со священником и трапезу не начинали. По приходу же мужчин прочитали вместе молитву и принялись за обед, который был прост, но обилен. Щи, бараний бок, пироги с мясом, грибами и квашеной капустой, кулебяка, сама квашеная капуста, солёные огурцы, кисель, варенье. Вкусное, сытное. В завершении подавали сыту, тёплую водицу с растворённым в ней мёдом. У отца Офонасия, не отказывающего себе ни в одном угощении, уплетающего яства, в рассудке было колко от сознания, что он насыщается здесь от пуза, а его семья в Любачёво, хоть и не голодная, таких разносолов на столе не имеет. Однако он не забыл за обедом и присмотреться исподтишка как за прислуживающими Любой и Глашей, так и за дочерьми Алексея Акинфиевича всё же. Правда, ничего особенного не углядел. Алексей Акинфиевич же много шутил, подшучивая над дочерьми, а в конце велел им непременно сегодня заняться рукоделием.
После обеда, по обычаю, православные улеглись спать. Ушёл в свою светёлку и отец Офонасий. Он прилёг на постель и, рассуждая о деле с перстнем, незаметно заснул. Проснувшись, он отёр лицо рукой, потянулся и встал с постели. После краткой молитвы подошёл к окну. Из окна был виден "чистый" двор. На дворе отец Офонасий увидел собравшихся боевых холопов. Пров и Харитон стояли в стороне вдвоём и о чем-то разговаривали. Причём разговор, по их напряженным лицам, показался отцу Офонасию непростым. Тут Пров, взяв Харитона за плечо, начал втолковывать что-то, и они оба посмотрели куда-то вверх. Взгляды отца Офонасия и мужиков встретились. Холопы поспешно отвернулись и отошли к другим своим товарищам. Когда же отец Офонасий тоже вышел во двор, то увидел, что к своим людям уже присоединился Алексей Акинфиевич. Оказывается, почти каждый день после обеденного сна они отводили время для занятий с оружием. Помахивая ловко саблями, они делали выпады, отражали их, бились один против другого или двое-трое супротив одного бойца. Отец Офонасий увлекся их занятием и подступил совсем близко, оказавшись рядом с бьющимися друг против друга Провом и Харитоном. В какой-то миг Харитон увернулся от нападения Прова, сделав шаг в сторону. Пров провалился вперёд с вытянутой в руке саблей, и та направилась точно в грудь отцу Офонасию. Быть бы беде, если бы священник не успел крутнуться вокруг себя. Сабля задела лишь краем, самым краешком острия грудь отца Офонасия, прорезав рясу и не задев даже подрясника. Это было почти чудо. "Не осторожно, батюшка, – сказал Пров сурово. – Шёл бы ты… поближе к крыльцу, батюшка. А то ненароком…" – "Спасибо за совет, чадо, – приходя в себя и сдерживая раздражение ответил отец Офонасий. – А пока я здесь постою. Мне любопытно". – "Любопытство может плохо кончиться", – вмешался Алексей Акинфиевич. А другой из холопов, чувствуя неудовольствие хозяина, решил поддеть батюшку: "Говорят, не суй носа в чужое просо. Или чего не знаешь, туда и тянет?" И тут вступился Харитон:"Да ведь отец Офонасий нам почти брат. Его отец в боевых холопах служил Акинфию Аникеевичу. Так? А сам, батюшка, годен к ратному делу?" В голосе Харитона отец Офонасий услышал вызов и принял его. Он подошёл к Прову, молча взял у него из рук саблю. Пров не воспротивился. "Отец Офонасий, не горячись", – попробовал отрезвить его Алексей Акинфиевич. "Так мы же играючи. Так Харитон?" – ответил священник, покачивая саблей, словно взвешивая её, а на самом деле давая руке привыкнуть к оружию. "Там не играют, отчего умирают", – промолвил Алексей Акинфиевич. "А давай, батюшка, поиграем", – не унимался Харитон. На это отец Офонасий, взяв оружие на изготовку, отвечал: "Не играла ворона вверх летаючи, а на низ полетела там играть некогда. А у меня пока…"
Харитон сделал неожиданный выпад, видимо, собираясь сразу и покончить с игрой. Однако отец Офонасий выпад отразил и приготовился к защите. "Около меня свищет – я туда – свищет – я сюда", – с усмешкой, дразня Харитона балагурил отец Офонасий. Если случай с Провом все действительно восприняли как чудо, то теперь приходилось признать и подивиться ловкости священника. Отразив ещё два нападения Харитона, отец Офонасий начал теснить его, умело управляясь с саблей. "Свищет – беда, думаю, влез на берёзу – сижу – свищет", – скоморошничал священник. В какой-то миг отец Офонасий сделал обманное движение (отец научил в своё время), и клинок просвистел у уха Харитона. "Ан это у меня в носу свищет". Харитон опешил сначала, но вдруг взъярился и ринулся на священника. Но тот увёртывался, не поддавался.
"А ну, хорош! Хорош, говорю! Харитон!" – Алексей Акинфиевич остановил схватку. "И впрямь до беды доведёте. Охлони, Харитон. Отец Офонасий, для того ли ты здесь". – "И то!" – словно опомнившись, согласился отец Офонасий, отступил и вернул саблю Прову. "Я лучше одёжку заштопаю", – сказал он. "Сам собрался? – удивился Алексей Акинфиевич. – Дай кому из баб или девок. Хоть той же Любке. Она рукодельница. Зашьёт так, что и видно не будет". – "Мне бы только ниточку с иголочкой. Где Любашу найти? В людской? Конечно".
Отец Офонасий отправился в людскую избу. Людская оказалась большой, из двух просторных половин с отдельными входами. Половины были мужская и женская. Отец Офонасий прошёл к дальней, женской и, спросив разрешения, вошёл. Перекрестившись на образа в красном углу, отец Офонасий огляделся. У входа стояла большая русская печь. Посреди комнаты – длинный стол. У стен стояли лавки и сундуки. Отец Офонасий увидел Любу, которая, сидя у окна, чинила потрёпанный овчинный полушубок. Чуть поодаль от неё сидела Глаша, вышивая полотенце. Священник приблизился к Любе: "Что это ты, Любаша, в мае полушубок шьёшь? Холодов ожидаешь?" – спросил отец Офонасий. "У нас всего можно ожидать, знаешь, батюшка. А то, готовь сани летом, а телегу зимой, – отвечая, Люба смеялась, незнамо чему. – Без дела не люблю сидеть, батюшка. Вот и подхватила, давно он ждал. А на платье вышивку закончила". – "А полушубок закончишь, что будешь делать?" Отец Офонасий пощупал невольно полушубок рукой, нечаянно задев колено девушки. Люба вдруг выскочила на ноги и вырвала полушубок из рук священника. "Ты что, Люба?" – смутился отец Офонасий. "А ты чего? Ерофей так-то вышивку у меня щупал, а потом и далее рукам волю дал". – "Ну что ты, – отец Офонасий покраснел слегка. – У меня и в мыслях не было дурного”. Люба захохотала. "Ой, прости, батюшка. Хочешь, я тебе лапти сплету?" – "Лапти?" – "Лапти, – она опять залилась смехом. – С полушубком закончу и начну лапти плести. Я у Федьки выучилась". – "У Федора? Караульщика?" – "У него, у старого. Так плести?" – "Зачем мне лапти?" – "Верно, незачем. На память", – Люба опять засмеялась. "Не знаю". Отец Офонасий и вправду не знал. Но Люба уже подскочила к нему с веревочкой, сняла мерку с ноги. "Дня через два будут готовы", – сказала, смеясь. "Весёлая ты девка, Любаша". – "Я всегда весёлая", – отвечала Люба со смехом. "А иголочку с ниточкой дашь мне, Люба?" – "Дам. А нашто тебе? Если зашить что, то я смогу". – "Нет, нет, я сам".
Люба дала отцу Офонасию иголку с ниткой. Хотя отец Офонасий сразу не ушёл, а подсел к Глаше:"Ты, дочка, почему всегда в унынии? Уныние есть грех, помни. Или какая печаль у тебя на сердце? Может, я могу помочь?" Глаша улыбнулась. "Спасибо, батюшка. Не знаю, нрав у меня такой, наверное". – "А давно ли ты в церкви была?" – "Давно, батюшка. Работы много". – "Так я попрошу хозяина, чтобы он вас в церковь отпускал чаще. Но и так не забывай, уныние – грех. Гляди веселей. Вон, смотри на Любу и похохатывай иногда… А это ты обронила?" Отец Офонасий нагнулся и поднял из-под лавки кусок холста, понюхал его. "Да, я". – "Возьми. От печали и рассеянность развивается. Ну, прощайте пока. А где мне сальца спросить, чтобы сапоги смазать. У Марии? В поварне. Конечно". Отец Офонасий поднялся и пошёл из людской. Когда он закрыл дверь, за ней послышался раскатистый смех Любы.
Поварня находилась справа от хозяйского дома. Пройдя мимо продолжающих упражняться в боевом искусстве, отец Офонасий дошёл до поварни. Алексей Акинфиевич проводил священника взглядом. В поварне стояли чад, жар и угар. Вместе с Марией здесь суетились и три её помощницы. Готовили еду на следующую половину дня. "Помогай Бог в трудах, Мария, – начал отец Офонасий. – Как бы мне сальцем разжиться, сапоги смазать?" – "Сальцем сапоги? Не жирно ли? Сапоги, батюшка, и дёгтем можно". – "Можно, милая. А сальцем лучше. Мне Алексей Акинфиевич посоветовал". – "Только если Алексей Акинфиевич… Там, в туеске, гусиный жир". – "Гусиный? Очень хорошо". Отец Офонасий прошёл, куда указала Мария, нашёл туесок с жиром и стал смазывать сапоги, подцепляя жир палочкой. "Много работы у тебя, Мария?" – спросил отец Офонасий. "Работы хватает. Только чтоб накормить всех, сколько покрутиться надо". – "А это ты сухари сушишь? Хлеб не съедается что ли?" – "Почитай весь съедается, а иногда и остаётся что. Вот Алексей Акинфиевич и велел сушить. На охоту соберётся, а то и в поход, не дай Бог". – "Да, сухари в походе всегда штука незаменимая. Пожалуй, возьму один сухарик, милая?" – "Бери, батюшка. От одного не убудет". – "Ах, какой запах. Вкусно. Спаси Бог, Мария". – "На здоровье. Благослови, батюшка".
Из поварни отец Офонасий вышел, посасывая сухарь, и сразу же попался на глаза Алексею Акинфиевичу, принимающему отчёт Ерофея о ходе пахоты и о других заботах по хозяйству. Алексей Акинфиевич видел, как священник приблизился к ним, остановился, как бы невзначай, приглядывался и прислушивался к разговору. В конце концов на батюшку обратил внимание и Ерофей: "Никак любопытно, отче?" – "Складно говоришь, Ерофей. Заслушаешься. Радеешь о хозяйском", – ответил отец Офонасий и пошёл дальше. Ерофей усмехнулся и, с разрешения помещика, отправился в поварню. Отец Офонасий дошёл до конюшни и смотрел, как холопы чистили лошадей. Затем заглянул в небольшую кузню. Здесь было жарче, чем в поварне. Кузнецы лихо, удало, словно играючи, ковали подковы. Посмотрел в хлеву за работниками, дающими корм свиньям. Много в усадьбе любопытного для отца Офонасия. Удовлетворив своё любопытство, отец Офонасий ушёл в дом и уединился в своей светёлке. Сев на постель, закрыв глаза и тихо намурлыкивая какую-то песню, он прокручивал пережитые и увиденные картины. Хотел ли Пров, хотел ли Харитон поразить его саблей? Не дурачит ли своим хохотом Люба? Вон как дёрнулась. Правда Ерофей напугал? А Ерофей чего? А Глаша? Что её давит? А холстина? Пахнет. Отец Офонасий вынул из рукава холстину и внимательно осмотрел её. Так, так. Мария. А что Мария? Стряпает да сухари сушит. Вкусные, душистые. Ерофей в поле полдня. Радеет о хозяйском. Боле ничего пока. Вот поди ж ты.
Алексей Акинфиевич, придя к отцу Офонасию в светёлку, застал того в раздумьях. "Ты, отец Офонасий, не кручинься, – решил сказать помещик. – Не найдешь татя и перстень и… чёрт с ним". – "Не чертыхайся, Алексей Акинфиевич". – "Ладно. Перстень этот я заполучил под Корелой, когда мы шведа там ошкуривали. Так один из них откупился этим перстнем, чтобы я не порешил его. На том и разошлись. Кто знает, может душа его сейчас затосковала об этом перстне. Вот кто-то и лишил меня его. В общем, не переживай. А пошли-ка, отец Офонасий, отужинаем". Они отправились к вечернему столу. И на это раз трапеза была вкусной и обильной. Подали уху, жареную утку, остатки бараньего бока, солёные грибы. Ужин проходил обычно, как вдруг отец Офонасий увидел, что одна из дочерей, Варвара, украдкой отправила себе в рукав краюху хлеба. Отец Офонасий насторожился. Но больше ничего примечательного не случилось. После недолгой беседы с Алексеем Акинфиевичем по завершении ужина отец Офонасий провёл общую вечернюю молитву и отправился к себе, где устроился на лежанку и попробовал еще поразмыслить о деле, но неожиданно уснул.
Проснулся отец Офонасий что-то около полуночи. В комнате было темно и тихо. Уютно тихо. Отец Офонасий почувствовал острую нужду выйти во двор. По нужде. Он встал и вышел из светёлки. Во всём доме стояли темень и тишина. Пробираясь на ощупь и по памяти по горнице, отец Офонасий с трудом добрался до лестницы, ведущей вниз, в клеть. Священник осторожно спустился, пошарив рукой, нашёл входную дверь. Нащупав засов, сдвинул его и отворил дверь. Ночь стояла прохладная. Месяц, на который, время от времени, набегали тучи, светил скупо.
Отец Офонасий ошибся и сначала пошёл влево, к поварне, хотя ему к хлеву было ближе мимо людской. Дойдя до поварни, учуяв запах печёного хлеба, он понял свою ошибку и повернул обратно. Так он вернулся к дому и сразу же почувствовал что-то. Что? Вгляделся во тьму. Увидел едва угадываемые очертания человека, вышедшего из дома и двигающегося по крыльцу. Отец Офонасий замер. Человек спустился с крыльца, и стало понятно, что это женщина или девушка. Одна из дочерей Алексея Акинфиевича, понял отец Офонасий, так как даже в потёмках идущая не походила на дородную Марфу. Показалось, что в руках девушка несёт некий мешочек. Кто? Варвара? Отец Офонасий бесшумно двинулся вслед. А если она тоже по нужде, ожгло вдруг отца Офонасия. Он замедлил шаг и стал отставать. Нет, не может быть, стал соображать отец Офонасий. У них для сего случая должна иметься какая-нибудь посудина в спаленке. Не дело шастать девкам по двору ночью. А эта что потеряла или ищет? Прибавил ходу. Где Фёдор-караульщик? Отец Офонасий вздрогнул, на него выбежал сторожевой пёс. Обнюхал отца Офонасия, вильнул хвостом и побежал дальше. Странное дело, сторожевые собаки сразу признали и доверились священнику. Отец Офонасий уже слышал впереди лёгкую поступь девушки, но не видел её. А если она на свидание? Подглядывать? Час от часу не легче. Отец Офонасий остановился. А как не на свидание?
Пошёл быстро вперёд, но дева словно растворилась во тьме. И шагов её отец Офонасий боле не слышал. Упустил. Он подождал немного, прислушался, но тщетно. Ах, незадача! Остановился и… вспомнил о своей нужде. Вернее, она требовательно напомнила о себе. Вернулся к хлеву и вошёл во внутрь.
Поправившись с делом, отец Офонасий стал выходить из хлева. Он распахнул дверь и… ударил ею в спину стоящему человеку, в руках мешок. Человек дёрнулся и быстро развернулся. "Прощения прошу", – сказал отец Офонасий, думая, что натолкнулся на Фёдора. Но даже при тусклом свете стало ясно, что это не Фёдор. "Ты кто?" – спросил отец Офонасий, удивляясь числу бродящих по ночи во дворе людей. "Я то? Я вот кто!" – ответил человек, и крепкий, сногсшибательный, умопомрачительный удар прилетел в лицо отца Офонасия.
После такого удара священник поднялся не сразу. Понятно, что мужика-драчуна и след прослыл. Отец Офонасий и вспомнил о нём не сразу. А вспомнив, метнулся в одну сторону, в другую и столкнулся с Фёдором. "Федор, где мужик? Высокий, лохматый, бьёт – будь здоров". Фёдор уставился на батюшку, соображая, потом сказал: "Дык, нет никого, ни мужиков, ни баб. Померещилось, чай, батюшка". – "Как же, померещилось. Искры из глаз посыпались. Едва дух из меня не вышиб. Синяк будет. Фёдор, и мужики, и бабы шлындают у тебя по усадьбе".
Фёдор пробормотал что-то невнятное в ответ и собрался уйти от неудобного разговора. "Погоди, Фёдор, – остановил его отец Офонасий. – Можно ли где здесь перемахнуть через тын легко?" Фёдор подумал недолго и ответил: "Дык, у хлева куча навозная. Рядышком с тыном. Сигай через тын – не хочу". – "Ага, пошли-ка, поглядим".
Они вернулись к хлеву. За его углом натолкнулись на кучу навоза, громоздящуюся более чем на половину высоты тына. "Здесь он, шельма, перескочил, – решил отец Офонасий. – Мыслю, при свете и следы его на навозе легко найдём. Так. А харчи хозяин здесь же нашёл?"– "Дык, где-то здесь, в соломе". – "А ты чего, Фёдор, всё дыкаешь? Почайский?" – "Почайский, – расплылся в улыбке Фёдор. – Моих-то никого не осталось. Татары угнали. Прибился я здесь. А в Почайке ближний сродственник мне Пахом". – "Вон как". И между ними затеплилось что-то единящее, и завязался разговор о Почайке, общих знакомых, общих заботах и делах давно минувших дней.
Утром усадьба пробудилась и подалась к ежедневным, будничным заботам. Отец Офонасий, смущая помещика подбитым глазом, посвятил Алексея Акинфиевича в события ночи. На стене светёлки прибавился берестяной лоскут с рисунком.
Помещик помрачнел. "Чем дале, тем боле не нравится мне этот случай, – сказал он. – Может, прекратить? Шут с ним, с перстнем. А за дочерями я сам послежу". – "Может и прав бы ты был, Алексей Акинфиевич, кабы само по себе происходило. А как тут… и пришлый замешан? Как бы большей беды не случилось".
Только Алексей Акинфиевич собрался с мыслями что-то ответить, в дверь светёлки постучали. На пороге появился Ерофей. Отдышавшись, он сказал: "Такая новость, хозяин. У Поганкина леса, где наша пашня, мужики мертвяка нашли. Собрались было сев начинать, а глядь – мертвяк. Убиенный. Похоже, зарезали. Не из наших мёртвый". – "Из каковских?" – "Неведомо. Может, беглый. Там некие вещи разбросаны. Мы не стали трогать. Может, отец Офонасий посмотрит?" Отец Офонасий живо откликнулся: "Непременно посмотрим, непременно".
И они, отец Офонасий, Алексей Акинфиевич, Ерофей, оседлав коней, отправились к Поганкиному лесу, находящемуся в версте от усадьбы. Мертвец лежал на боку, скорчившись, одна рука вытянута вперёд, другая подвернута под тело. По внешнему виду отец Офонасий не мог уверенно сказать, что это был встреченный им ночью мужик. Однако изношенные лапти покойника оказались измазаны навозом. "Ты был у хлева", – сделал вывод отец Офонасий. "Вот и нет пришлого", – отозвался Алексей Акинфиевич. Отец Офонасий огляделся – мешка нигде не видно. Унёс кто-то мешок? Могли, конечно, и мужики позариться. Отец Офонасий посмотрел дальше. Чуть в стороне лежали шапка убитого и какой-то кусок бересты. Подняв бересту, священник увидел, что это самодельные ножны. "Ножа не было?" – спросил он. Нет, никто ножа якобы не видел. А если взяли, то ни в жизнь не признаются. Так, а это что? Отец Офонасий наклонился и поднял… сухарик.. Рядом с местом, где лежал сухарик – сильно накрошено.
"Наверное, мешок выворачивали, что-то искали". Отец Офонасий положил сухарик в рот. "Такие сухари, Алексей Акинфиевич, у тебя в поварне сушат. Очень вкусные'. – "Мария?" – нахмурился Алексей Акинфиевич. "Сушит Мария, а с остальным разбираться след". Отец Офонасий осмотрелся тщательно вокруг, но больше ничего не заприметил. Тогда он взял мертвеца за плечо и перевернул его на спину. "Скорее всего на шайку нарвался, что пошаливать стала", – сказал Ерофей. Лицо покойника исказила боль. Кровавое пятно расплылось по левой стороне зипуна. "А удар-то умелый", – сказал Алексей Акинфиевич. "А могла женщина ударить?" – спросил отец Офонасий. "Какая с ножом ловка". Крестьяне перекрестились над покойником. "Упокой, Господи, душу раба твоего. Отходили твои ноженьки по земле, отбегали. Ради чего ты суетился? Нам то не вемо. На что жизнь свою потратил, и как она с тобой обошлась? Не вемо. Пусть грехи твои будут не тяжкими, а остальное тебе проститься, и душа успокоится и да пребудет в мире. Аминь"
Отец Офонасий наклонился и стал ощупывать одежду на убитом. "Дай нож, Алексей Акинфиевич", – попросил он. Алексей Акинфиевич подал нож с чеканной рукоятью. Отец Офонасий вспорол полу зипуна, что-то вынул и зажал в кулаке. Вернув помещику нож, он разжал кулак и спросил: "Он? В потайной полости спрятал". – "Он", – ответил Алексей Акинфиевич. На ладони отца Офонасия лежал золотой перстень с красивым сапфиром василькового цвета. Алексей Акинфиевич взял перстень, повертел меж пальцев и спрятал. "Что с мертвяком будем делать?" – "Надо в уезд сообщить", – сказал отец Офонасий. "Сообщим, – пообещал Алексей Акинфиевич. – Как же у него перстень оказался? Да ладно. Считай, что твоё дело окончено, батюшка. Хватит, и так настрадался. Вон глаз-то заплыл". – "Как скажешь, Алексей Акинфиевич. Дозволь только мне с Варварой переговорить. В твоём присутствии. Лучше будет, коли прояснить все неясности. И тебе спокойнее будет. Коли нет вины, не будешь мыслями мучиться. Если вина – простишь". Алексей Акинфиевич поразмыслил и ответил так: "Упрям ты, батюшка. Добро. Переговоришь".
Вернулись в усадьбу. Алексей Акинфиевич позвал Варвару. "Давай, Варюша, поговорим. Отец Офонасий говорит, будто ты хлеб в рукав прятала. Или, может, не так?" Варвара выстрелила в отца Офонасия взглядом, сердитым и в то же время испуганным. "Какой хлеб? Не брала я ничего". – "А вот батюшка говорит, что брала". Варя опять зыркнула глазами на священника. "Вчера за ужином, – объяснил отец Офонасий. – Варя, скажи, как есть".
Варвара задумались, потом махнула рукой решительно: "Ладно, так и быть. Для гадания я взяла". – "Какого гадания?" – "Помнишь, тятя, недавно коробейник к нам заходил?" – "Офеня? Помню. Ленты для вас покупал у него да бусы, да ещё что". – "Как ты ушёл, тятя, за деньгами, мы с сёстрами одни остались. Вот этот офеня и говорит нам, великая беда, де, скоро придёт на нашу землю. Такая великая, что живые мёртвым будут завидовать. Да так говорил, ажно страх нас взял. Анфиска возьми и спроси, что, мол, за беда? Офеня отвечает, я вам не скажу, не поверите. Сами погадайте и увидите. И научил пойти в полночь в баню с мешочком, в котором всякая всячина сложена. А потом из мешочка, не глядя, вынуть одну вещицу, и она-то подскажет, что за беда будет". – "А хлеб на что?" – "Хлеб для банника. Разве не знаешь, тятя? Надо хлеб солью посыпать и положить в бане для банника. Тогда и ладно будет". – "Понятно. И не боязно было тебе ночью в баню идти?" – "Боязно. Да я и не ходила". – "Как не ходила?!" – "Да так. Страшно ведь". – "Гм. Кого же я видел тогда?" – озадачился отец Офонасий. "А ты и её видел, батюшка?" – "Кого её?" – "Ну, Дуню. Евдокию. Дуня ночью ходила гадать. Мы с Анфиской побоялись. А так узнать хотелось. Вот и взяла хлеб. Да только Евдокия осмелилась",
Позвали Евдокию с Анфисой. Да, хлеб взяла Варвара, а гадать в баню ходила Евдокия. Там, у бани, отец Офонасий и потерял деву. Алексей Акинфиевич засмеялся: "Ну, дочери мои разлюбезные, вон вы чем втихомолку занимаетесь. А мы-то иное подозревали с отцом Офонасием. Думаю, батюшка не будет строг за гадание?" – "Лёгкую епитимью всё же наложу, – сказал отец Офонасий. – Общение с бесами до добра не доводит. А лишние молитвы да поклоны только на пользу пойдут". – "Сие так, сие так, – вынужден был поддержать Алексей Акинфиевич, – молитва всегда на пользу. Ну, ступайте. За рукоделье какое примитесь". – "Хорошо, тятя". И девушки поднялись с лавки уходить. "Евдокия, – встрепенулся вдруг отец Офонасий, – ты гадание-то исполнила?" – "Да", – робко ответила Евдокия. "Так что же вышло?" – "Кость обглоданную вынула. А она сулит… великий голод".
Всем стало почему-то не по себе, и какое-то время никто не вымолвил ни слова, не шелохнулся. Первым опомнился Алексей Акинфиевич: "Все это вилами на воде писано. Не думайте об этом. Землицу мы вспахали ладом, семена посеяли. Что-то да вырастет. И запасы у нас имеются. Откуда голод? Да ещё великий. И не думайте. Ступайте. Делом займитесь". – "Слушаемся, батюшка". Девушки ушли.
"Спаси Бог, отец Офонасий. И правда, легче стало на душе. А так бы думал невесть что", – признался Алексей Акинфиевич.
Привезли мертвеца, и он лежал пока на подводе, покрытый рогожей. Дворня подходила, смотрела на покойника, крестились. Жил – не жил, а умер – покойник. Отец Офонасий разорвал бересту с изображением убитого мужика. Некоторые из дворни осмеливались заглянуть под рогожу. То же самое сделали подошедшие Пров и Харитон. Потом что-то сосредоточено обсуждали вдвоём, и опять, как в прошлый раз, обратили взгляды на окно светёлки отца Офонасия. Священник отдалился от окна, но породолжил наблюдать. Подошли Люба и Глаша. Они смотрели на подводу с покойником издали, но Глаша вдруг заплакала, утирая слёзы краем платка. Люба даже не пыталась успокоить подругу, и вскоре увела Глашу в поварню.
Из поварни пришла Мария, стояла недолго, затем подошла к Ерофею и о чем-то коротко переговорила с ним. Тут же откуда-то появился Фёдор. Он заглянул под рогожу, внимательно, не торопясь, рассмотрел покойника. Отойдя, разговаривал с Ерофеем, что-то доказывал.
Алексей Акинфиевич обратился к священнику: "Теперь-то, батюшка, твоё дело, думаю, окончено. Перстень вернули, дочерей моих разъяснили. Покойника отвезут в уезд. Лиха беда умереть, а там похоронят. Кончено". – "Не совсем. Кто-то ведь был в пособниках у убиенного. Кто-то его порешил у Поганкина леса". Отец Офонасий ткнул пальцем в кусок бересты на стене с перевёрнутым вопросительным знаком: Тогда его так писали. Алексей Акинфиевич продолжил своё: "Пособник, чаю, теперь угомонится. Его теперь не выявишь. Если в бега не подастся". – "Да теперь, после рассказа твоих дочерей, проще пареной репы. Я ведь почти наверняка знаю, кто пособник", – заявил отец Офонасий спокойно. "Как так?! Знаешь? Что же, и скажешь кто?" – "Чуть-чуть погодя, Алексей Акинфиевич. Сегодня скажу, потерпи немного. Вернее, он, пособник, сам себя должен проявить, я мыслю". – "Чудно, отец Офонасий. Ходил, ходил по усадьбе, сабелькой поиграл, лошадям в зубы заглядывал – и знаешь пособника". – "Мне только движение нужно, – задумчиво сказал отец Офонасий. – Пройдусь я по усадьбе, Алексей Акинфиевич. Ничего, если где от твоего имени говорить буду?" – "Худого, мыслю, не скажешь, а от доброго и сам не откажусь". – "Дело".
Отец Офонасий пошёл во двор, возбуждённо бормоча: "Ах ты, совушка-сова, ты большая голова, ты на дереве сидела, головую ты вертела, с дерева свалилася, в яму покатилася".
Перво-наперво он посетил поварню. Мария и её помощницы, как и обычно, пребывали в работе. Мария ловко разделывала большим ножом мясо барана. Тут же хлопотали и Люба с Глашей. Священник подступил к Любе: "А что, Любушка-голубушка, сплела мне лапти? Мне ведь скоро домой собираться". Люба засмеялась: "Не забыл про лапоточки-то, батюшка. Один сплела, завтра второй завершу". – "Точно, не обманешь?" Люба опять засмеялась: " Как можно?" Тогда отец Офонасий повернулся к Глаше: "Никак ты опять плакала, дочка? Покойник так тебя расстроил?" Глаша вздрогнула, ничего не ответила, глянула на Любу и потупилась. Люба в этот раз не засмеялась, а как-то криво усмехнулась: "Что же делать, батюшка. Наша Глаша и над пропащей птичкой плачет и хворую собачку или кошечку пожалеет". – "Божья душа, Божья душа", – внимательно глядя на Глашу, сказал отец Офонасий. В это время к ним подошла Мария: "Отец Офонасий, ты не за сухариками пришёл?" – "И от сухарика не откажусь. А только Алексей Акинфиевич велел передать, чтобы ты угощение какое приготовила для губного целовальника". – "Целовальника? Когда же он появится?" – "Сегодня вечером или завтра утром". – "Это из-за покойника?" – "Из-за него болезного. Но не только. Он здесь розыск и облаву должен устроить. У убитого ведь подручный имелся. Ничего, от Никодима не уйдёшь, не скроешься". – "Вот прибавил ты мне забот, батюшка. Не было сороки, а гости у порога", – озабоченно сказала Мария. "Сухарик-то дашь, Мария?" – "Бери, батюшка. На здоровье. Благослови перед уходом".
Алексей Акинфиевич распоряжался возле подводы с телом мёртвого. Тело он велел перевезти на задний двор и опустить в ледник, погреб для скоропортящихся припасов. Лошадь чувствовала покойника и вела себя беспокойно. Собаки то поскуливали, то тревожно рычали. Алексей Акинфиевич сделал ещё несколько распоряжений и собрался идти в дом, как увидел выходящим из поварни отца Офонасия. Алексей Акинфиевич усмехнулся. Отец Офонасий по выходу сунул в рот что-то, очевидно, сухарь. Алексей Акинфиевич решил подождать священника и пошутить с ним, мол, не поешь толком, будешь волком. Отец Офонасий и направился в сторону помещика. Но тут ему преградил путь Пров и заговорил с батюшкой. К ним вскоре, как бы невзначай, подошёл со стороны Харитон, который, однако, в разговор почти не вступал, а больше зыркал вокруг, как бы следя, чтобы кто-либо нежелательный не подошёл к ним.
Алексей Акинфиевич, делая вид, словно не замечает их беседы, посматривал за ними боковым зрением. Отец же Офонасий, Пров и Харитон, потолковав ещё некоторое время, двинулись куда-то. Причём Алексею Акинфиевичу показалось, что священник идёт нехотя. Это не только напрягло помещика, но и осердило. То, что его холопы смеют замышлять тайное дело, да ещё принуждать к чему-то человека, приглашенного им, хозяином усадьбы, сильно прогневило Алексея Акинфиевича. Однако, несмотря на вскинувшийся в нем гнев, помещик решил не набрасываться с бранью на холопов, а проследить их и уличить в проступке. Он отвернулся от заложивших крюк, чтобы не идти близко от хозяина, холопов со священником. Затем повернулся им вслед и увидел, как они прошли до людской избы, только не вошли в неё, а зашли за угол. Алексей Акинфиевич поспешил к ним, подхватив по пути валявшийся дрын, помышляя проучить им, в случае надобности, забывшихся холопов, а то и прийти на выручку священнику. Приблизившись к углу людской, он заслышал голоса. Беседовали. Ровно, без угроз и резких звуков. Показался даже женский голос. Это немного охладило Алексея Акинфиевича. За углом же он увидел всё тех же холопов и отца Офонасия, разговаривающих с Мартой, дворовой девкой Алексея Акинфиевича. При появлении помещика все растерянно обратились к нему.
"О чём толкуете?" – был вопрос Алексея Акинфиевича. Харитон с Провом переглянулись и замялись с ответом. Марта вдруг смутилась. Объяснять взялся отец Офонасий: "Да вот оно как, Алексей Акинфиевич. Любит Харитон Марту, а Марта любит Харитона. Давно уже. Желают они, Алексей Акинфиевич, обвенчаться. Как ты знаешь, Алексей Акинфиевич, Марта хоть и христианка, но веры лютеранской. Поэтому, чтобы соединиться с Харитоном, имеет желание креститься по нашему православному обычаю. Что ты скажешь на это, Алексей Акинфиевич?" Помещик сдвинут брови: "Мыслю, Харитон и Пров, вам следовало, как добрым слугам, поперву со мной дело обговорить, а не тихие сговоры устраивать да батюшку в полон брать и тайно увлекать". – "Прости, хозяин. Оплошали", – тут же повинились холопы. "То-то же! Ну, да знаю ваш случай. Ладно. Со своей стороны чинить препятствий не стану". – "Спаси Бог, хозяин", – поблагодарил Харитон. "Добро, – ответил Алексей Акинфиевич и обратился к Марте уже шутливо. – А ты, Марта, чего не благодаришь? Или не рада?" – "Спасибо", – робко, с акцентом, произнесла Марта и зарделась. "Ну, подробности потом обговорите. Пошли, отец Офонасий", – позвал священника помещик, приставляя к стене не понадобившийся дрын. Тут к хозяину подошёл холоп Прошка и стал что-то усердно нашёптывать тому на ухо. Алексей Акинфиевич слушал какое-то время усердно. Вдруг схватил оставленный дрын и огрел Прошку по спине. Прошла охнул и бросился бежать. "И чтоб не подходил ко мне боле со своими ябедами, – крикнул ему вслед Алексей Акинфиевич, а остальным объяснил. – Просил по делу доносить, если что стоящее, а он ходит и ходит целый день и собирает негодное". – "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Таков и Прошка", – сказал, кривя губы, Пров…
Алексей Акинфиевич и отец Офонасий пошли к дому. " Вон какие у тебя, Алексей Акинфиевич, случаи случаются"' – сказал отец Офонасий, имея в виду случай с Мартой и Харитоном. "Ты ещё не всё про них знаешь, хоть и понял, конечно, что Марта не нашего роду-племени. Под той же Корелой к нам Марта попала. Да взял-то её в полон Пров. При себе держал вроде постирухи, прачки. Только не сложилось у них с Мартой. А Харитон как ошалел, когда Марту увидел. И та – к нему. И что ты думаешь? Пров уступил Марту Харитону. И даже дружба у них не врозь. Но не это главное. Сколько лет прошло, а Харитон не охладел к Марте. Надо же! Теперь вот и обвенчаться желает". – "Славно, славно"! – только и сказал отец Офонасий.
Когда же они подошли к дому, Алексей Акинфиевич хитро посмотрел на отца Офонасия и спросил: "Ну а про приезд и розыск целовальника ты, батюшка, им успел ввернуть?" – "Или я дела не знаю?" – ответил вопросом на вопрос с хитрой же улыбкой отец Офонасий. Алексей Акинфиевич, пожалуй, не так бы веселился выходкам священника, знай он, что отец Офонасий уже намекал про целовальника и дочерям помещика. Отец Офонасий продолжал работать, как бы мы сейчас сказали, упорно и методично, стремясь захватить граблями расследования всю площадку действа.
В целом, как сказал отец Офонасий Алексею Акинфиевичу, поле работы было готово. Вернее даже, созрело к тому, чтобы разрешиться. Требовался лишь толчок.
Отец Офонасий не последовал за ушедшим в дом Алексеем Акинфиевичем, а, вспомнив нечто, пошёл обратно к людской избе. Он сходил сначала в мужскую половину, огляделся. Увидел спящего в обнимку с рыжей кошкой Фёдора. Улыбнулся. Снова огляделся, подумал о чём-то и вышел. Войдя в женскую часть, никого здесь не застал. Всех давно распределили по работам. Улыбнулся, увидев новенький сплетенный лапоть на лавке. Отец Офонасий подошёл, взял лапоть в руки, повертел, нюхнул, помял в руках. Помял и полушубок, брошенный под лавку. Толстый, тёплый. Огляделся и опять улыбнулся. У окошка лежала вышивка, сделанная Глашей. На ней всадник отправлялся в путь-дрогу. С ним рядом стояла девушка, то ли провожающая его, то ли собравшаяся с ним. Девушка вскинула руки вверх. Из рук взлетали две птицы.
После людской священник отправился к хлеву, оглядел навозную кучу у тына и зашагал к бане. По пути, у котла, в котором варили или запаривали какую-то еду скотине, он поднял с земли большую щепку и зажег её от огня под котлом. С этой горящей щепой он и вошёл в темноту бани. Вставив горящую лучину в трещину в бревне стены, отец Офонасий принялся внимательно осматривать лавки предбанника. В самом деле, на одной из них он увидел крупинки соли и крошки ржаного хлеба. Отец Офонасий не удержался, наслюнявил палец и насобирал на него немного соли и хлебных крошек, и, положив их себе на язык, посмаковал. А ведь съеден хлеб, подумал священник. Евдокией или банником? Священник последнее не отвергал и перекрестил банное пространство.
В бане тихо и спокойно. Знакомые запахи бани (дыма, копоти, каменки, дерева, березовых веников) напомнили отцу Офонасию о доме. Он замечтался, вспоминая родных. Как там Нестор? Справляется? Как остальные? Эх, скорей бы уж домой. Мысли о доме так расслабили отца Офонасия, что он продолжал сидеть в бане ещё некоторое время даже после того, как прогорела лучина. В темноте ему пришла вдруг в голову мысль, а что вот если после смерти окажешься по делам своим не в раю и не в аду, а вот в такой бане. И будешь сидеть в ней вечно. Как оно покажется, пребывать в таком месте? С одной стороны, тишина и покой…
В это время дверь бани отворилась, как бы приглашая выйти на свободу, а в баню стала входить баба, челядинка, с деревянным ведром в руке. Отец Офонасий невольно вздохнул и стал подниматься с лавки. Баба ахнула, качнулась назад, выронила ведро и кинулась вон, истошно крича. Кричала вот что: "Ах! Батюшки! Банник! Банник! Чёрт такой! Ой, спасите!" Крик бабы сразу вызвал переполох во дворе. Люди стали сбегаться. Кто схватил вилы, кто топор, кто требовал огня. И сначала вздрогнули, приужахнулись, увидев тёмное согбенное нечто, выходящую через низкий ход бани. Следом оторопели, узнав отца Офонасия, облитого снизу водой из брошенного ведра, а следом начали хвататься за бока и животы, впадая в веселье. Перепуганную бабу остановили, вернули силой и более или менее привели в чувство, предъявив ей мокрого отца Офонасия. "Куда же ты кинулась, Антонида, – втолковывал ей здешний остряк, – батюшка тебя на исповедь поджидал". Шутку подхватили новым смехом и остротами, но здесь отец Офонасий сурово окоротил шутников и погрозил им. Развлечённый народ стал неохотно расходиться. Многие досадовали, что вместо обыкновенного попа не оказалось настоящего банника.
Сам отец Офонасий, наконец-то, отправился в дом, поднялся в свою светёлку и лёг на постель. Вошедший позже в светёлку Алексей Акинфиевич нашёл священника спящим. Причём Алексей Акинфиевич смог прочитать на лице батюшки-сыщика такую мысль, обращённую к себе самому: " Ты сделал всё, что смог и что нужно. Теперь тебе надо отдохнуть и набраться сил". Оттого помещик не стал будить отца Офонасия и тихо вышел из светёлки.
Ночь выдалась прохладная. Кривой месяц сегодня неохотно, скупо освещал двор угомонившейся усадьбы и широкое пространство за пределами усадьбы вплоть до тёмного леса. Фёдор походил для порядка вдоль тына и, полагаясь на сторожевых псов, скрылся в конюшне, где он любил проводить ночное время на ворохе сена среди лошадей, иногда даже беседуя с ними о жизни вообще и о справедливости в ней в особенности.
Во дворе же появился новый человек, двигающийся медленно, остерегающийся выходить из тени, отбрасываемой строениями. Он двигался от людской к хлеву. Несмотря на осторожность, его движения, очертания выдавали в нём девицу. Крадучись, она повернула за угол хлева и стала взбираться на навозную кучу. За её спиной висела туго набитая котомка. Девушка, поскальзываясь на навозе, одолела подъём и, ухватившись руками за кол тына, подтянула себя к ограде. Напоследок она оглянулась, обвела взглядом двор усадьбы, прощаясь, вдруг приложила руки к лицу, словно собиралась заплакать, но сдержалась. Затем перекрестилась, навалилась грудью на тын и осторожно, с одного боку, перевалила тело за ограду, держась за неё руками. Когда её тело полностью вытянулось по другую сторону тына, она отпустила руки, и неловко плюхнулась на землю. Поднявшись, девушка пошла, сначала слегка хромая на одну ногу, но скоро её походка выровнялась. Пройдя около сотни шагов, девица остановилась и стало чутко вслушиваться в темноту. Вскоре она тихо позвала: "Влас. Власушка. Ты здесь?" Совсем недалеко от неё, прямо с земли, из травы поднялся человек и подошёл к ней. "Здесь я. Ну что, никто не видел тебя?" – "Кажись, никто. А что им, дрыхнут себе". – "Пущай дрыхнут. А нам в путь. Помоги, Господи". Они оба перекрестились. "Как нога?" – спросила девушка. " – "Ничего, уже ничего". – "Хватай их, ребята", – раздался зычный голос Алексея Акинфиевича, и на парочку накинулись из темноты несколько человек. Девушку скрутили сразу, а мужик оказался ловок и сбил с ног первого нападавшего, увернулся от второго. Но когда ему пришлось сцепиться с третьим, а это был Харитон, Пров ударом сабли по голове плашмя оглушил молодчика, тут же упавшего без сознания. Его связали и поволокли к усадьбе. Девушка билась в руках холопов, плакала и рвалась к своему другу, думая, что его убили. К ней вплотную приблизился помещик и заглянул в лицо: "Ага, Любка. Правильно распознал тебя отец Офонасий. Как он только это делает?"
Пленников доставили в усадьбу и решили сначала допросить, для чего привели в поварню. В поварне оглушенного молодчика, Власа, начинающего приходить в себя, бросили на пол. Любу усадили было на лавку, но она сползла с неё к своему напарнику и, сдержанно плача, отирала с его лица кровь и гладила его волосы. Вскоре Влас поднялся и хмуро огляделся.
"Очухался?" – спросил Алексей Акинфиевич. – "Ну, говори, что ты за гусь и как в наши края залетел?" Влас пока молчал и щурился на свет огня. Люба прижалась к Власу, крепко ухватившись за его руку. "Напрасно молчишь. Мы ведь умеем языки развязывать, – пригрозил Алексей Акинфиевич. – Ну, кто таков?" – "Повинись, Власушка", – робко молвила Люба. Влас поморщился и начал говорить: "Влас я. Дергачёвский". – "Вона! Не близко. Беглый? Беглый, спрашиваю?" Помедлив, Влас сознался: "Беглый". – "Чего побежал?" – "Бедность заела. Да неволя". – "У Поганкина леса ты мужика зарезал?" – "Я". – "За что?" – "Перстень он принял от Любы, да решил зажилить. Жила. Потерял, дескать. А нам как без него? Дорога дальняя. Жадность его одолела, видно. Повздорили. До драки дошло. Ну и…" – "Понятно. А ты, Любка, как с ним снюхалась против хозяина своего? Или знала его ранее?" – "Нет, не знала прежде. Через дядю Захара познакомились". – "Какого ещё дядю Захара?" – "Ну, того… который убиенный. Он мне сродственник был. Дальний". – "Тоже беглец?" – "Беглец. Только я против тебя, хозяин, ничего не замышляла". – "Конечно. Только перстень украла". – "Я уговорил её перстень взять", – взял на себя вину Влас. "Понятно. Ты уговорил, она украла. Поправились… Куда навострились-то бежать?" Влас опять помялся, однако ответил: "На Дон. К казакам. Там, говорят, воля". Он замолчал, Люба всхлипнула. "Воля. Будет вам теперь воля. Ну, Любку-то я приструню. А ты возвращением к помещику не отделаешься. За душегубство отвечать придётся".
Алексей Акинфиевич строго посмотрел на обоих, а потом вспомнил свой вопрос: "Так как с Любкой познакомились?" Влас вздохнул: "Сговорились с Захаром бежать. Побежали. Ногу я подвернул. Будь оно неладно. Тут, недалече от вас. Не мог идти, совсем. Вот Захар и предложил в ваших местах отсидеться. Дескать, есть у него родня в помещичьей усадьбе. Поможет". – "Дале". – "Первый раз она сама харчи принесла… Так и познакомились". – "Познакомились да слюбились? Ишь, как у вас. Что ж, Любка, так его любишь, что и родича своего ему простила?" – "Дядя Захар сам виноват", – тихо ответила Люба. "Понятно, – многозначительно произнёс Алексей Акинфиевич. – А харчи, что я нашёл, почему не взяли?» – «Не смог Захар. Собака его почуяла. Не подпустила». «Понятно. Вот что, голуби. Одну ночь позволю вам вместе побыть". Алексей Акинфиевич повернулся к холопам: "Запереть их в амбаре. Пусть до утра там посидят". – "Ясно", – ответил Харитон. "Да накажите Фёдору присматривать ладом, а не кобылам зубы заговаривать".
Холопы увели Власа и Любу запирать в амбаре. Тут Алексей Акинфиевич вспомнил об отце Офонасии. Куда запропастился? Любку выслеживал, в засаде со всеми сидел. А теперь где? Алексею Акинфиевичу не терпелось узнать, как отец Офонасий, не совершая, на взгляд помещика, никакого особенного розыска, сумел распознать в Любке и похитительницу перстня, и сообщницу беглых крестьян. На отца Офонасия Алексей Акинфиевич наткнулся на крыльце помещичьего дома. Тот сидел на ступеньках, опершись спиной о стену. "Отчего, отец Офонасий, спать не идёшь? – спросил Алексей Акинфиевич. – Поздно, а дело слажено. Можно и на покой". – "А ты погляди, Алексей Акинфиевич, как небо вызвездило. Божья красота". – "Из-за этого не спишь?" – подивился Алексей Акинфиевич. "Не только. Мне ведь любопытно, что ты вызнал от беглецов. Да и тебе, соображаю, хочется меня послушать. А?" Помещик усмехнулся. "Догадлив ты, батюшка. То и сыскное дело у тебя спорится. А отчего сам на допрос не пошёл, коль любопытно?" Священник помолчал, потом ответил так: "На Любу не хотел смотреть. Жалкая она сейчас, чаю, неудачей прибитая. Она ведь девка хорошая, весёлая". – "Сама виновата", – вроде даже с обидой сказал Алексей Акинфиевич. – "Не сомневаюсь. Сама. И всё одно, жалко мне её. Как ты с ней поступить хочешь, Алексей Акинфиевич? Прошу тебя, не шибко строго". – "Да и не собираюсь строго. С чего взял? – опять обиделся Алексей Акинфиевич. – Посидит взаперти несколько деньков, чтоб одумалась… Только вот, думаю, сохнуть начнёт по своему Власу. Такие весёлые, если любовь у них, сильно сохнут. Может совсем иссушить себя". – "Что верно, то верно, – согласился отец Офонасий. – Как ей помочь?" – "А как тут поможешь?" – "То-то и оно".
Алексей Акинфиевич немного подумал, посмотрел на священника и сказал следующее: "А где бы нам, отец Офонасий, посидеть да поговорить ладком, чтоб никто не мешал?" – "Я знаю где", – сразу отозвался отец Офонасий. "Ну?" – "В бане. Там хорошо, спокойно. Как на том свете". – "Даже так, – засмеялся Алексей Акинфиевич. – Тогда вот как сделаем. Возьмём огня да медовухи. Да засядем. Правда, баня – хорошее место. Поговорим. Обо всём, о чём захотим. Об чём только душа пожелает. Согласен, отец Офонасий?" – "Лепо говоришь, Алексей Акинфиевич. Согласен".