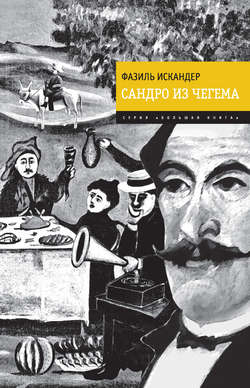Читать книгу Сандро из Чегема - Фазиль Искандер - Страница 10
Глава 8. Пиры Валтасара
ОглавлениеХорошей жизнью зажил дядя Сандро после того, как Нестор Аполлонович Лакоба взял его в город, сделал комендантом Цика и определил в знаменитый абхазский ансамбль песни и пляски под руководством Платона Панцулая. Там он быстро выдвинулся и стал одним из самых лучших танцоров, способным соперничать с самим Патой Патарая!
Тридцать рублей в месяц как комендант Цика и столько же как участник ансамбля – неплохие деньги по тем временам, прямо-таки хорошие деньги, черт подери!
Как комендант Цика, дядя Сандро следил за работой технического персонала, получал время от времени на почте слуховые аппараты из Германии для Нестора Аполлоновича да еще распоряжался гаражом, в том числе и личным «бьюиком» Лакобы, который он называл «бик» для простоты заграничного произношения.
Разумеется, личный «бьюик» Лакобы находился в его распоряжении, когда тот уезжал в Москву или еще куда-нибудь на совещание.
В такие времена, бывало, наркомы и другие ответственные лица просили у дяди Сандро этот самый «бьюик» для того, чтобы съездить в деревню на похороны родственника, отпраздновать рождение, или свадьбу, или, в крайнем случае, собственный приезд.
Прикатить в родную деревню на личной машине Лакобы, которую все знали, было вдвойне приятно, то есть политически приятно и приятно просто так. Все понимали, что раз человек приехал на машине Нестора Аполлоновича, значит, он идет вверх, может, даже Нестор Аполлонович его приблизил к себе и знай похлопывает его по плечу или даже, дружески облапив, вталкивает в свою машину, мол, поезжай, подлец, куда тебе надо, да только не блюй на сиденье на обратном пути.
Были, конечно, и неприятности. Так, один не такой уж ответственный, но все же руководящий товарищ поехал на этом «бьюике» в свою деревню. Там он (уже за столом) на чей-то вопрос насчет «бьюика» с коварной уклончивостью ответил, что, хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали.
Не успел он выйти из-за этого пиршественного стола, а точнее сказать, досиделся он за ним до того, что из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы. Они осторожно, чтобы не побеспокоить остальных, вытащили его из-за стола и во дворе измолотили как следует.
Вдобавок ко всему они его привязали к багажнику «бьюика», чтобы в таком виде провезти его по всей деревне. Правда, провезти не удалось, потому что сами управлять машиной они не могли, а шофер сбежал в кукурузник.
В сущности говоря, иного и не следовало ожидать. Своими вздорными разговорами он оскорбил не только самого Нестора Лакобу, но и весь его род. А оскорбление рода редко в те времена оставалось безнаказанным.
После этого случая приличные люди долго удивлялись, как этот товарищ осмелился столь открыто заниматься святотатством, и при этом лживым святотатством!
Сам он говорил, что на него нашло затмение на почве выпивки, а хозяин дома, в котором он сидел, клялся всеми предками, что из-за стола никто не вставал, так что ему до сих пор непонятно, кто побежал доносить в соседнее село.
К счастью, вся эта история не дошла до ушей Нестора Аполлоновича, а то бы всем этим племянникам или однофамильцам, да и самому дяде Сандро, а уж заодно и пострадавшему святотатцу по второму заходу крепко бы досталось.
Дяде Сандро, конечно, кое-что перепадало за эти небольшие вольности с «бьюиком». Не то чтобы какие-нибудь грубые услуги, нет, но нужно устроить родственника в хорошую больницу, быстро получить нужную справку, пересмотреть дело близкого человека, который, думая, что все еще продолжаются николаевские времена, крадет чужих лошадей да еще на суде, вместо того чтобы отпираться, рассказывает все, как было, горделиво оглядывая публику…
Много хорошего сделал дядя Сандро в те золотые времена для своих близких, да не все отплатили добром за добро, многие впоследствии оказались неблагодарными.
Бывало, дядя Сандро выйдет на балкон Цика, посмотрит вниз вдоль улицы, а там в самом конце море виднеется, а если в порту стоит пароход, то с балкона можно разглядеть его трубы и мачты. Дяде Сандро бывало весело смотреть в сторону порта, приятно было думать, что можно сесть на пароход и уплыть в Батум или в Одессу. И, хотя дядя Сандро никуда не собирался уплывать, потому что от добра добра не ищут, все же ему было приятно думать, что можно сесть на пароход и куда-нибудь уплыть.
А если, стоя на балконе, смотреть в противоположную сторону, то там, кроме гор и лесов, ничего не видно, так что и смотреть туда, можно сказать, нечего.
Только изредка, когда подкатывала тоска по родным местам, дядя Сандро смотрел на горы и украдкой вздыхал. Он вздыхал украдкой, потому что считал неприличным громко вздыхать, находясь на почтенной работе при власти. Потому что, если человек вздыхает, находясь при власти, получается, что находиться при власти ему не нравится, что было бы неблагодарно и глупо. Нет, нравилось дяде Сандро находиться при власти и он, естественно, хотел как можно дольше находиться при ней.
До чего же приятно было дяде Сандро в ясный день стоять на балконе Цика и просто глядеть вниз на проходящее население, среди которого было немало знакомых людей и красивых женщин.
Те, что раньше знали дядю Сандро и продолжали его любить, подымали головы и здоровались с ним, приветливым взглядом показывая, что радуются его возвышению. Те, что раньше знали дядю Сандро, но теперь завидовали, проходили, делая вид, что не замечают его. Но дядя Сандро на них не обижался, пусть себе идут, всем не угодишь своим возвышением.
А те, что раньше его не знали, а теперь видели на балконе Цика, думали, что он ответственный работник, который вышел на балкон подышать. Дядя Сандро вежливым кивком отвечал на их приветствия не для того, чтобы содействовать невольному обману, а просто потому, что умел прощать людям маленькие человеческие слабости.
Иногда знакомые люди останавливались под балконом и знаками спрашивали, мол, как там Лакоба? Дядя Сандро сжимал кулак и, слегка потрясая им, показывал, что Нестор Аполлонович крепко держится. В ответ знакомые радостно кивали и шагали дальше с некоторой дополнительной бодростью.
Иногда эти знакомые, зная, что Лакоба куда-то уехал, знаками спрашивали, мол, куда? В ответ дядя Сандро рукой показывал на восток, что означало – в Тбилиси, или более значительным жестом на север, что означало – в Москву.
Иногда они спрашивали, опять же чаще всего знаками, мол, не приехал еще Лакоба? В таких случаях дядя Сандро утвердительно кивал или отрицательно мотал головой. В обоих случаях знакомые удовлетворенно кивали и, радуясь, что мимоходом приобщились к делам государственным, шли дальше.
Цокая каблуками, проходили мухусские модницы, и дядя Сандро, встречаясь с ними глазами, подкручивал ус, намекая на веселые помыслы. Многие свои хитроумные романы он начинал с этого балкона, хотя со сцены театра или клубной эстрады, где, бывало, выступал ансамбль, тоже нередко завязывались знакомства.
Некоторые женщины посмеивались над его заигрываниями с балкона. Дядя Сандро на них не обижался, просто он к ним быстро охладевал:
– Ах, я вам не нравлюсь, так и вы мне не нравитесь…
Гораздо больше ему нравились те женщины, что краснели, встречаясь с ним глазами, и, опустив голову, быстро проходили мимо. Дядя Сандро считал, что стыд – это самое нарядное платье из всех, которые украшают женщину. (Иногда он говорил, что стыд – это самое дразнящее платье, но, в сущности, это одно и то же.)
Порой, стоя на балконе Цика, дядя Сандро видел своего бывшего кунака Колю Зархиди. Он всегда с ним сердечно здоровался, показывая, что нисколько не зазнался, что узнает и по-прежнему любит старых друзей. По глазам Коли он видел, что тот не испытывает к нему ни злобы, ни зависти за то, что дядя Сандро хозяйствует в отобранном у него особняке или стоит себе на балконе, как в мирные времена.
– Ты попробуй на лошади туда подымись, – кивал ему Коля, напоминая о его давнем подвиге.
– Что ты, Коля, – отвечал ему дядя Сандро с улыбкой, – сейчас это нельзя, сейчас совсем другое время.
– Э-э, – говорил Коля и, словно услышав печальное подтверждение правильности своего образа жизни, шел дальше в кофейню.
Дядя Сандро смотрел ему вслед, немного жалея его и немного завидуя, потому что сидеть в кофейне за рюмкой коньяку и турецким кофе было приятно и при советской власти, может быть, даже еще приятней, чем раньше.
Абхазский ансамбль песен и плясок уже гремел по всему Закавказью, а позже прогремел в Москве, и даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет.
В описываемые времена он уже набирал скорость своей славы, которую в первую очередь ему создали – Платон Панцулая, Пата Патарая и дядя Сандро. В дни революционных праздников после торжественной части ансамбль выступал на сцене областного театра. Кроме того, он выступал на партконференциях, на слетах передовиков промышленности и сельского хозяйства, не ленился выезжать в районы республики, а также обслуживал крупнейшие санатории и дома отдыха закавказского побережья.
После выступления на более или менее значительном мероприятии участников ансамбля приглашали на банкет, где они продолжали петь и плясать в доступной близости к банкетному столу и руководящим товарищам.
Дядя Сандро, как я уже говорил, шел почти наравне с лучшим танцором ансамбля Патой Патарая. Во всяком случае, он был единственным человеком ансамбля, который усвоил знаменитый номер Паты Патарая: разгон за сценой, падение на колени и скольжение, скольжение через всю сцену, раскинув руки в парящем жесте.
Так вот, это знаменитое па он так хорошо усвоил, что многие говорили, что не могут отличить одного исполнителя от другого.
Однажды один участник ансамбля, танцор и запевала по имени Махаз, сказал, что если нахлобучить башлык на лицо исполнителя этого номера, то и вовсе не поймешь, кто скользит через всю сцену: знаменитый Пата Патарая или новая звезда Сандро Чегемский.
Возможно, Махаз, как земляк дяди Сандро по району, хотел ему слегка польстить, потому что отличить все-таки можно было, особенно опытному глазу танцора, но главное не это. Главное то, что своими случайными словами он заронил в голову дяди Сандро идею великого усовершенствования и без того достаточно сложного номера.
На следующий же день дядя Сандро приступил к тайным тренировкам. Пользуясь своим служебным положением, он их проводил в конференц-зале Цика при закрытых дверях, чтобы уборщица не подсматривала.
Кстати, это был именно тот зал, где когда-то дядя Сандро скакал на своем незабвенном рябом скакуне, чем спас своего друга и заставил разориться эндурского скотопромышленника.
Около трех месяцев тренировался дядя Сандро, и вот наступил день, когда он решился показать свой номер. Сам он считал, что номер недостаточно отшлифован, но обстоятельства вынудили его рискнуть и бросить на сцену свой тайный козырь.
Накануне лучшая часть ансамбля в составе двадцати человек уехала в Гагры. Ансамбль должен был выступить в одном из крупных санаториев, где в эти дни проводилось совещание секретарей райкомов Западной Грузии. Совещание, по слухам, проводил сам Сталин, отдыхавший в это время в Гаграх.
По-видимому, мысль собрать секретарей райкомов возникла у него здесь во время отдыха. Но почему он созвал совещание секретарей райкомов только Западной Грузии, дядя Сандро так и не понял.
По-видимому, секретари райкомов Восточной Грузии в чем-то провинились, а может, он им хотел дать почувствовать, что они еще не доросли до этого высокого совещания, чтобы в будущем работали лучше, соперничая с секретарями райкомов Западной Грузии.
Так думал дядя Сандро, напрягая свой любознательный ум, хотя это, собственно говоря, не входило в его обязанности коменданта Цика или тем более участника ансамбля.
И вот лучшая часть ансамбля выехала, а дядя Сандро остался. Дело в том, что у дяди Сандро в это время тяжело болела дочь. Все об этом знали. Перед самым отъездом группы дядя Сандро попросил Панцулаю оставить его ввиду болезни дочери. Он был уверен, что Панцулая всполошится, будет упрашивать его поехать вместе с группой, и тогда, поломавшись, он даст свое грустное согласие.
Так было бы прилично по отношению к родственникам, мол, не сам кинулся плясать, а был вынужден, и, кроме того, участники ансамбля еще раз почувствовали бы, что без Сандро танцевать можно, да танец будет не тот.
И вдруг руководитель ансамбля сразу дает согласие, и дяде Сандро ничего не остается, как повернуться и уйти. В тот же день управляющий Циком делает ему оскорбительное замечание.
– По-моему, у нас крадут дрова, – сказал он, указывая на огромный штабель дров, распиленный и сложенный во дворе Цика еще в начале лета.
– Садятся, – небрежно ответил ему дядя Сандро, чувствуя скуку из-за своего артистического одиночества.
– Я что-то не слыхал, чтобы дрова садились, – сказал управляющий с намеком, как показалось дяде Сандро.
– А ты не слыхал, что вокруг Чегема леса сгорели? – вкрадчиво спросил дядя Сандро.
Это был знаменитый чегемский сарказм, к которому далеко не всякий мог приспособиться.
– При чем тут Чегем и его леса? – спросил управляющий.
– Вот я и вожу в горы циковские дрова, – ответил дядя Сандро и отошел от управляющего. Тот только развел руками.
Эшеры уже проехали, думал дядя Сандро, подымаясь по лестнице особняка, наверное, сейчас приближаются к Афону. Сквозняк, тронувший его лицо прохладой, показался ему дуновением опалы. Видно, управляющий что-то знает, видно, Лакоба от меня отступился, думал дядя Сандро, сопоставляя оскорбительный тон управляющего с еще более оскорбительной легкостью, с какой Платон Панцулая согласился на его просьбу.
Особенно было обидно, что на банкете, как предполагали, будет сам товарищ Сталин. Правда, точно никто не знал. Да это и не полагалось точно знать, даже было как-то сладостней, что точно никто ничего не знал.
На следующий день дядя Сандро сидел у постели своей дочки, тупо глядя, как жена его время от времени меняет на ее головке мокрое полотенце.
Девочка заболела воспалением легких. Ее лечил один из лучших врачей города. Он уже сомневался в благоприятном исходе, хотя и надеялся, как он говорил, на ее крепкую чегемскую природу.
Четверо чегемцев, дальних родственников дяди Сандро, тут же сидели в комнате, осторожно положив руки на стол. В последние годы они стали все чаще и чаще выезжать в город и, надо сказать, слегка поднадоели дяде Сандро.
Чегемцы проходили ускоренный курс исторического развития. Делали они это с некоторой патриархальной неуклюжестью. С одной стороны, у себя дома в полном согласии с ходом истории и решениями вышестоящих органов (в сущности, сам ход истории тогда был предопределен решениями вышестоящих органов) они строили социализм, то есть вели колхозное хозяйство. С другой стороны, выезжая в город торговать, они впервые приобщились к товарно-денежным капиталистическим отношениям.
Такая двойная нагрузка не могла пройти бесследно. Некоторые из них, удивленные, что за такие простые продукты, как сыр, кукуруза, фасоль, можно получать деньги, впадали в обратную крайность и, заламывая неимоверные цены, по несколько дней замкнуто простаивали возле своих некупленных продуктов. Иногда, уязвленные пренебрежением покупателей, чегемцы увозили назад свои продукты, говоря: ничего, сами съедим. Впрочем, таких гордецов оставалось все меньше и меньше, деспотия рынка делала свое дело.
К одному никак не могли привыкнуть чегемцы – это к тому, что в городских домах нет очажного огня. Без живого огня дом казался чегемцу нежилым, вроде канцелярии. Беседовать в таком доме было трудно, потому что непонятно было, куда при этом смотреть. Чегемец привык, разговаривая, смотреть на огонь, или, по крайней мере, если приходилось смотреть на собеседника, огонь можно было чувствовать растопыренными пальцами рук.
Вот почему четверо чегемцев молчали, осторожно положив руки на стол, чем вызывали у дяди Сандро дополнительное раздражение.
Сегодня, думал дядя Сандро, наши, может быть, будут танцевать перед самим Сталиным, а я должен сидеть здесь и слушать молчание чегемцев. Оказывается, на базаре им предложили остаться в Доме колхозника, но они с возмущением отвергли этот совет, ссылаясь на то, что здесь в городе живет дядя Сандро и он может обидеться, как родственник. Нельзя сказать, что такая верность родственным узам взволновала дядю Сандро. Пожалуй, он ничуть не обиделся бы.
– Слава богу, наш Сандро выбился в присматривающие, – сказал один из чегемцев, с трудом преодолевая отсутствие в доме живого огня.
– Железные колени сейчас властями ценятся, как никогда, – после продолжительного раздумья объяснил второй чегемец причину успеха дяди Сандро.
– Князь Татырхан, помнится, тоже ценил хороших танцоров, – провел историческую параллель третий чегемец.
– Все же не настолько, – после долгого молчания добавил четвертый чегемец. Он долго думал, потому что хотел сказать что-нибудь свое, но, не найдя ничего своего, решил подправить сказанное другим.
Скупо переговаривались чегемцы. Жена, сидя возле больной девочки, обмахивала ее опахалом. Муха жужжала и билась о стекло. Дядя Сандро терпел.
И вдруг распахнулась дверь, а в ней – управляющий. Дядя Сандро вскочил, чувствуя, что остановившийся мотор времени снова заработал. Что-то случилось, иначе управляющий не пришел бы сюда.
Управляющий поздоровался со всеми, подошел к постели больной девочки и сказал несколько слов сочувствия, прежде чем приступить к делу. Дядя Сандро рассеянно выслушал его слова, нетерпеливо ожидая, что тот скажет о причине своего визита.
– Что легко пришло, то легко уходит, – ответил дядя Сандро на его сочувственные слова, не вполне уместно употребляя эту турецкую пословицу.
– Не хотел тебя беспокоить, – сказал управляющий и, вздохнув, вынул из кармана бумажку, – тебе телеграмма.
– От кого?! – выхватил Сандро свернутый бланк.
– От Лакобы, – сказал управляющий с уважительным удивлением.
«Приезжай если можешь Нестор», – прочел дядя Сандро расплывающиеся от счастья буквы.
– «Если можешь»?! – воскликнул дядя Сандро и сочно поцеловал телеграмму. – Да есть ли что-нибудь, чего бы я не сделал для нашего Нестора! Где «бик»? – уже властно обратился он к управляющему.
– На улице ждет, – ответил управляющий. – Не забудь прихватить паспорт, там с этим сейчас очень строго.
– Знаю, – кивнул дядя Сандро и бросил жене: – Приготовь черкеску.
Минут через двадцать, уже стоя в дверях с артистическим чемоданом в руке, дядя Сандро обернулся к остающимся и сказал с пророческой уверенностью:
– Клянусь Нестором, девочка выздоровеет!
– Откуда знаешь? – оживились чегемцы.
Жена ничего не сказала, а только, продолжая обмахивать ребенка, презрительно посмотрела на мужа.
– Чувствую, – сказал дядя Сандро и закрыл за собой дверь.
– Именем Нестора не всякому разрешают клясться, – услышал дядя Сандро из-за дверей.
– Таких в Абхазии раз-два и обчелся, – уточнил другой земляк дяди Сандро, но этого, припустив к машине, он уже не слышал.
Кстати, забегая вперед, можно сказать, что пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть.
…Через три часа бешеной гонки «бьюик» остановился в Старых Гаграх перед воротами санатория на одной из тихих и зеленых улочек.
Вечерело. Дядя Сандро нервничал, чувствуя, что может опоздать. Он забежал в помещение проходной, подошел к освещенному окошечку, за которым сидела женщина.
– Пропуск, – сказал он, протягивая паспорт в длинный туннель оконной ниши.
Женщина выписала пропуск. Дядя Сандро все больше и больше волновался, чувствуя, что за этой строгой проверкой скрывается тревожный праздник встречи с вождем.
С пропуском и паспортом в одной руке, с чемоданом – в другой он быстро перешел пустой дворик санатория и остановился у входа, где его встретил дежурный милиционер. Тот почему-то долго и недоверчиво смотрел на его пропуск, сверяя его с паспортом.
– Абхазский ансамбль, – намекнул дядя Сандро на мирный характер своего визита.
Тот на это ничего не сказал, но, продолжая держать в руке паспорт, перевел взгляд на чемодан.
Дядя Сандро в ответ ему радостно закивал, показывая полное понимание ответственности момента. Он быстро раскрыл чемодан и, поставив у ног, стал вынимать из него черкеску, азиатские сапоги, галифе, кавказский пояс с кинжалом. Дядя Сандро, вынимая каждую вещь, честно встряхивал ее, давая возможность выскочить любому злоумышленному предмету, который мог бы там оказаться.
Когда дело дошло до пояса с кинжалом, дядя Сандро, улыбаясь, слегка выдвинул его из ножен, как бы отдаленно намекая на полную его непригодность в цареубийственном смысле, даже если бы такая безумная идея и возникла бы в какой-нибудь безумной голове.
Милиционер внимательно проследил за его жестом и коротко кивнул, как бы признавая сам факт непригодности и отсекая всякую возможность рассуждений по этому поводу.
Дядя Сандро заложил все вещи в чемодан, закрыл его и уже протянул было руку за паспортом и пропуском, но милиционер опять остановил его.
– Вы Сандро Чегемба? – спросил он.
– Да, – сказал дядя Сандро и вдруг догадался: – Но для афиши я прохожу как Сандро Чегемский!
– Афиши меня не интересуют, – сказал милиционер и, не предлагая дяде Сандро пройти, снял со стены новенький телефон и стал куда-то звонить.
Дядя Сандро пришел в отчаянье. Он вспомнил о телеграмме, как о последнем спасительном документе, и стал рыться в карманах.
– «Бик», Цик, Лакоба, – словами-символами заговорил он от волнения, безуспешно роясь в карманах.
И вдруг дядя Сандро заметил, что сверху по широкой лестнице, устланной ковром, спускается участник ансамбля Махаз. Дядя Сандро почувствовал, что сама судьба посылает ему земляка по району. Он отчаянно зажестикулировал, подзывая его, хотя тот и так спускался к ним, слегка обгоняя отвевающиеся полы черкески.
– Его спросите, – сказал дядя Сандро, когда Махаз, топыря грудь и невольно раздуваясь, остановил себя возле них. Милиционер, не обращая внимания на Махаза, продолжал слушать трубку. Шея Махаза стала наливаться кровью.
Между тем, если бы дядя Сандро прислушался к телефонному разговору, ему не пришлось бы так волноваться, а земляку по району не пришлось бы утруждать грудные силы, необходимые для предстоящего пения.
Дело в том, что дежурная в проходной по ошибке вместо Чегемба сначала на пропуске написала Чегенба, а потом исправила букву. Вот это исправление буквы, по-видимому, неположенное в таких местах, и вызвало подозрение милиционера. Сейчас по телефону, уточняя это недоразумение, он убедился, что исправила букву она сама, а не кто-нибудь со стороны.
Хотя телефон был новенький, может быть, только сегодня поставленный, было плохо слышно, и милиционеру приходилось то и дело переспрашивать.
– Участник ансамбля известный Сандро Чегемский, – заявил Махаз, выставив вперед перетопыренную грудь, когда милиционер положил трубку.
– Знаю, – просто сказал милиционер, – проходите.
Дядя Сандро и Махаз подымались по лестнице, устланной красным ковром. Оказывается, руководитель ансамбля уже несколько раз посылал Махаза встречать его.
Дядя Сандро теперь не испытывал к милиционеру никакой враждебности. Наоборот, он чувствовал, что в этой строгости прохождения в санаторий залог грандиозности предстоящей встречи. Дядя Сандро, пожалуй, согласился бы и на новые препятствия, только бы знать, что в конце концов он их одолеет.
– Он будет? – спросил дядя Сандро тихо, когда они поднялись на третий этаж и пошли по коридору.
– Почему будет, когда есть, – сказал Махаз уверенно. Он уже чувствовал себя здесь как дома. Махаз открыл одну из дверей в коридоре и остановился, пропуская вперед дядю Сандро. Дядя Сандро услышал родной закулисный гул и, очень возбужденный, вошел в большую светлую комнату.
Участники ансамбля, уже переодетые, разминаясь, похаживали по комнате. Некоторые, сидя на мягких стульях, отдыхали, вытянув длинные, расслабленные ноги.
– Сандро приехал! – раздалось несколько радостных голосов.
Дядя Сандро, обнимаясь и целуясь с товарищами, показывал им найденную телеграмму Лакобы.
– Управляющий принес, – говорил он, размахивая телеграммой.
– Быстро переодевайся! – крикнул Панцулая.
Дядя Сандро отошел в угол, где на стульях были развешаны вещи участников ансамбля, и стал переодеваться, прислушиваясь к последним наставлениям руководителя хора.
– Главное, – говорил он, – когда пригласят, не набрасывайтесь на закуски и вино. Ведите себя скромно, но девочку строить тоже не надо. Если кто-нибудь из вождей предлагает тебе выпить – выпей и отойди к товарищам. Не стой рядом с вождем, тем более жуя, как будто ты с ним Зимний дворец штурмовал.
Танцоры, слушая Панцулая, похаживали по комнате, переминались, перетягивали пояса. Некоторые становились на носки и вдруг, приподняв ногу, затянутую в мягкий, как перчатка, азиатский сапог – скок, скок, скок! – делали несколько прыжков на одной ноге, одновременно прислушиваясь к ровному, успокаивающему голосу руководителя.
Пата Патарая несколько раз разгонялся, готовясь к своему знаменитому номеру, но не падал на колени, а просто скользил, чтобы как следует почувствовать пол. Проскользив, он останавливался, осторожно поворачивался и, прикладывая пятку одной ноги к носку другой, измерял пройденный путь.
Дядя Сандро занялся тем же самым. Теперь он мог соразмерить силу разгона с расстоянием скольжения с точностью до длины своей ступни. Правда, Пата Патарая это делал с точностью до ширины ладони, но у дяди Сандро был в запасе секретный номер и это сейчас опаляло его душу тревожным ликованием: «Получится ли?»
– Помните, что сцены никакой не будет, – говорил Панцулая, в своей белой черкеске похаживая среди питомцев, – танцевать будете прямо на полу, пол там такой же. Главное, не волнуйтесь! Вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше…
Но вот открылась дверь, и в ней показался пожилой человек в чесучовом кителе. Это был директор санатория. Он грозно и вместе с тем как бы испуганно за возможный провал кивнул Панцулае.
– За мной, по одному, – тихо сказал Панцулая и мягко выскользнул за дверь вслед за чесучовым кителем.
За руководителем двинулся Пата Патарая, за Патой – дядя Сандро, а там и остальные, рефлекторно уступая дорогу лучшим.
Бесшумными шагами дворцовых заговорщиков они прошли по коридору и стали входить в комнату, в дверях которой стоял штатский человек.
Директор санатория кивнул ему, тот кивнул в ответ и стал всех пропускать в дверь, всматриваясь в каждого и считая глазами. Комната эта оказалась совершенно пустой, и только в дальнем ее конце у окна сидело два человека в таких же штатских костюмах, как и тот, что стоял у дверей. Они курили, о чем-то уютно переговариваясь. Заметив участников ансамбля, один из них, не вставая, кивнул, дав знать, что можно проходить.
Директор открыл следующую дверь, и сразу же оттуда донесся гул застольных голосов. Не входя внутрь, он остановился возле дверей и молча отчаянным движением руки: давай! давай! давай! – как бы вмел всех в банкетный зал.
В несколько секунд участники ансамбля впорхнули в зал и выстроились в два ряда, оглушенные ярким светом, обильным столом и огромным количеством людей.
Банкет был в разгаре. Все произошло так быстро, что в зале их не сразу заметили. Сначала одинокие хлопки, а потом радостный шквал рукоплесканий приветствовал двадцать кипарисовых рыцарей, как бы выросших из-под земли во главе с Платоном Панцулая.
Чувствовалось, что аплодирующие хорошо поели и выпили и теперь с удовольствием продолжают веселье через искусство, чтобы, может быть, потом снова возвратиться к посвежевшему веселью застолья.
Участники ансамбля, придя в себя, стали искать глазами товарища Сталина, но не сразу его обнаружили, потому что они смотрели в глубину зала, а товарищ Сталин сидел совсем близко, у самого края стола. Он сидел, слегка отвернувшись к соседу, который оказался всесоюзным старостой Калининым.
Аплодисменты продолжались, а Панцулая, склонив голову, стоял перед кипарисовым строем как мраморное изваяние благодарности. Но вот, почувствовав, что рукоплескания не иссякают и потому дальнейшее молчание ансамбля становится нескромным, он приподнял голову и, покосившись на участников ансамбля, ударил в ладони. Так всадник, приподняв камчу, прежде чем огреть скакуна, слегка оглядывается на его спину.
Участники ансамбля стали рукоплескать, прорываясь шумом своей любви к самому источнику любви сквозь встречный шум правительственной симпатии. Неожиданно поднялся Сталин, и за ним с грохотом вскочил весь зал, стараясь догнать его до того, как он распрямится.
С минуту длилась эта бескровная борьба взаимной привязанности, как бы дружеская возня приятелей, похлопывающих друг друга по спине, дурашливая схватка влюбленных, где побежденный благодарил победителя и тут же любовно побеждал его, новой шумовой волной опрокидывая его шумовую волну.
Танцоры по привычке, продолжая рукоплескать, переговаривались, не поворачиваясь друг к другу.
– Вон товарищ Сталин!
– Где, где?
– С Калининым говорит!
– Оказывается, Ворошилов тоже маленький!
– А это кто?
– Жена Берии!
– Вообще вожди маленького роста – Сталин, Ворошилов, Берия, Лакоба…
– Интересно, почему?
– Ленин был маленький – так и пошло…
– Маленькие, они вообще более устойчивые…
– Тебе бы, Сандро, за таким столом тамадой…
– Тамада наш Нестор!
– А может, Берия?
– Нет, видишь, Нестор во главе стола сидит.
– Сталин его всегда выбирает… Он его любимчик…
Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очарования эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извинясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, потому что он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий.
Появление этих стройных танцоров, затянутых в черные черкески, обрадовало его. В такие часы он любил все, что несло в себе очевидную и безотносительную к надоедавшей порой политике ценность. Вернее, как бы безотносительную, потому что он незримо соединял эту очевидную ценность и законченность с тем громоздким и расползающимся, во что превращается всякая политическая акция, и воспринимал ее как пусть маленькое, но вещественное доказательство его правоты.
Так двадцать стройных танцоров превращались в цветущих делегатов его национальной политики, точно так же, как дети, бегущие к Мавзолею, где он стоял по праздникам, превращались в гонцов будущего, в его розовые поцелуи. И он умел это ценить, как никто другой, поражая окружающих своей неслыханной широтой – от демонической беспощадности до умиления этими маленькими, в сущности, радостями. Замечая, что он поражает окружающих этой неслыханной широтой, он дополнительно ценил в себе это умение ценить маленькие внеисторические радости жизни.
Так или иначе, один из ликующих делегатов его национальной политики, а именно дядя Сандро, насмотревшись на вождей, продолжая аплодировать, перевел взгляд на стол.
Стол, вернее, столы пересекали банкетный зал и в конце раздваивались на две ломящиеся плодами ветки. На прохладной белизне белых скатертей блюда выделялись с приятной четкостью.
Горбились индюшки в коричневой ореховой подливе, жареные куры с некоторой аппетитной непристойностью выставляли голые гузки. Цвели вазы с фруктами, конфетами, печеньем, пирожными. Треснувшие гранаты, как бы опаленные внутренним жаром, приоткрывали свои преступные пещеры, набитые драгоценностями.
Сверкали клумбы зелени, словно только что политые дождем. Юные ягнята, сваренные в молоке по древнему абхазскому обычаю, кротко напоминали об утраченной нежности, тогда как жареные поросята, напротив, с каким-то бесовским весельем сжимали в оскаленных зубах пунцовые редиски.
Возле каждой бутылки с вином стояли, как бдительные санитары, бутылочки с боржоми. Бутылки с вином были без этикеток, видно, из местных подвалов. Дядя Сандро по запаху определил, что это «изабелла» из села Лыхны.
Большая часть закусок еще оставалась нетронутой. Некоторые давно остыли – так жареные перепелки запеклись в собственном жиру. Сталин не любил, чтобы за столом сновали официанты и другие лишние люди. Подавалось все сразу, навалом, хотя кухня продолжала бодрствовать на случай внезапных пожеланий.
За столом каждый ел, что хотел и как хотел, но, не дай бог, сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравновешивалась деспотией выпивки.
Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним, как жезл застольной власти.
Направо от него сидел Сталин, дальше Калинин. Налево от Лакобы сидела жена его, смуглянка Сарья, рядом с ней красавица Нина, жена Берии, а дальше сидел ее муж, энергично посверкивая стеклами пенсне. За Берией сидел Ворошилов, выделяясь своей белоснежной гимнастеркой, портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и за Калининым по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам.
Все остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии с бровями, так и застывшими в удивленной приподнятости. Между ними кое-где были рассыпаны товарищи из охраны. Дядя Сандро их сразу узнал, потому что они, в отличие от секретарей райкомов, ничему не удивлялись и тем более не подымали бровей.
Нестор Лакоба, сидевший во главе стола, сейчас, круто обернувшись, смотрел на ансамбль и, как хозяин, соблюдая приличия, аплодировал гораздо сдержанней остальных.
Когда Сталин опустил руки и сел, аплодисменты замолкли. Но не сразу, потому что те, что сидели подальше, этого не заметили. Они замолкли, как замолкает ветерок, прошелестев в листве большого дерева.
– Любимый вождь и дорогие гости, – начал Панцулая, – наш скромный абхазский ансамбль, организованный по личной инициативе Нестора Аполлоновича Лакобы…
Дядя Сандро заметил, что в это мгновение Сталин посмотрел на Лакобу и плутовато улыбнулся в усы, на что тот ответил ему застенчивым пожатием плеч.
– …Исполнит перед вами несколько абхазских песен и плясок, а также песни и пляски дружной семьи кавказских народов.
Панцулая низко наклонил голову, как бы заранее извиняясь, что ему придется сейчас повернуться спиной к высоким гостям. Не подымая головы, плавным движением, стараясь избегнуть хотя бы оскорбительной неожиданности предстоящей позы (раз уж, так или иначе, она необходима), одновременно скорбя лицом за то, что поворачивается спиной, он совершил свой многозначительный поворот, приподнял голову, взмахнул руками, окрыленный рукавами белой черкески, и замер на взмахе.
– О-райда, сиуа-райда, эй, – как бы из глубины узкого ущелья вытянул Махаз.
И вот уже хор по взмаху окрыленных рукавов подхватывает древнюю песню. Не все вернутся с набега, без слов рассказывает она… Не всем суждено увидеть пламя родного очага… И когда поперек седла мертвый юноша въедет во двор отцовского дома, от крика матери вздрогнет конь и шевельнется мертвец.
Но не вскрикнет отец и не заплачет брат, потому что, только отомстив, мужчина получает право на слезы.
Такова воля судьбы и судьба мужчины.
Женщина зреет, чтобы родить мужчину.
Мужчина зреет, чтобы родить мужество.
Виноград зреет, чтобы родить вино.
Вино зреет, чтобы напомнить о мужестве.
А песня зреет, чтобы пляской напомнить поход.
Постепенно мелодия переходит в энергию ритма. Песня сжимается, она отбрасывает лишние одежды, как борец отбрасывает их перед тем, как приступить к схватке.
Дядя Сандро чувствует подступающее опьянение, чувствует, как песня переливается в его кровь и теперь хочет стать пляской, выполнением клятвы, заложенной в ней.
Участники хора уже бьют в ладони, хотя все еще продолжают напевать сжатый до предела мотив. Вся энергия теперь в ритме хлопающих ладоней, но пляска должна дозреть, дойти и поэтому ее продолжают подогревать на маленьком огне мелодии.
– О-райда, сиуа-райда! – повторяет хор.
Тащ-тущ! Тащ-тущ! – хлопают ладони, продолжая вытягивать пляску из песни.
Кто-то из зрителей не выдерживает и тоже начинает бить в ладони, стараясь ускорить явление пляски. Весь зал вместе с товарищем Сталиным хлопает в ладони.
Тащ-тущ! Тащ-тущ! И тут вырывается Пата Патарая! Безумный бег коня, сорвавшегося с привязи, и вдруг замер!.. Вытягивается, выструнивается на носках, показывая готовность взмыть, как стрела, врезаться во вражеские ряды, но в последний миг меняет решение и в бешеном вращении утоляет ненасытную жажду воина куда-то прорваться и во что-то врезаться.
В круг вбрасывается Сандро Чегемский! И вот уже все танцоры взвились черными вихрями черкесок, показывая древнюю готовность мужчины стать воином, а воину – врезаться, взмыть, прорваться… Но в последний миг выясняется, что приказа врезаться, взмыть, прорваться все еще нет.
«Ах, так?!» – словно говорят танцоры и, грозно топнув ногой, кружатся. «Ах, так? Ах, все еще?» – И снова: «Ах, так? Ах, так? Ах, так?»
Кружась, они тончают, расслаиваются и в конце концов делаются полупрозрачными, как пропеллеры. Оказывается, вращаясь вокруг себя, можно утолить ненасытную жажду боя.
– О-райда-сиуа-райда! Тащ-тущ! Тащ-тущ!
Танцоры, умело и вовремя заменяя друг друга, влетают в круг, и уже кажется, что карусель танца движется сама по себе, по древнему замыслу, суть которого отчасти заключается в желании ошеломить невидимого врага (в далекие времена, когда князья приглашали друг друга на пиршества, враг был видимым), так вот ошеломить его неистощимостью своей свирепой энергии.
С короткими перерывами для песен ансамбль танцует абхазские, грузинские, мингрельские и аджарские танцы.
И вот коронный, свадебный танец. Наступает долгожданный миг. Внезапно вскрикнув, Пата Патарая разлетается и, еще в прыжке подогнув ноги, шлепается на колени и, раскинув руки, скользит и замирает у ног товарища Сталина.
Для гостей это случилось так неожиданно, что некоторые, особенно те, что сидели далеко, вскочили на ноги, не понимая, что случилось. Берия вскочил раньше всех и, сверкнув стеклами пенсне, воинственно замер над столом.
Но не было злого умысла, и товарищ Сталин улыбнулся. И в тот же миг грянул шквал рукоплесканий, а Пата Паратая, словно подброшенный этим шквалом, разогнулся и влетел в круг танцующих.
Теперь была очередь за дядей Сандро. Уловив необходимое ему музыкальное мгновенье, он гикнул и, выскочив из-за спин хлопающих в ладони, повторил знаменитый номер Паты Патарая, но остановился гораздо ближе, у самых ног товарища Сталина. Дядя Сандро провел глаза от хорошо начищенных сверкающих сапог вождя к его лицу и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз.
Снова рукоплескания.
– Они состязаются! – крикнул Лакоба Сталину, стараясь перекричать шум и собственную глухоту. Сталин кивнул головой и улыбнулся в знак одобрения.
И снова Пата Патарая, вскрикнув как ужаленный, шмякается на колени, скользит и, раскинув руки, замирает у самых ног товарища Сталина в позе дерзновенной преданности.
– Чересчур, – покачал головой Берия.
– А по-моему, здорово! – воскликнул Калинин, всматриваясь из-за плеча товарища Сталина.
Шквал рукоплесканий, и Пата Патарая пятится в вихрь танцующих. То, что ему удалось остановиться примерно на расстоянии ладони от ног вождя, почти предрешало его победу.
Но не таков чегемец, чтобы сдаваться без боя! Сейчас должна решиться судьба лучшего танцора, и он кое-что приберег на этот случай. Зорко всматриваясь в пространство от ноги товарища Сталина до того места, где он стоял, стараясь почувствовать миг, когда Сталин и Лакоба не будут менять позы, он движением рыцаря, прикрывающего лицо забралом, сдернул башлык на глаза, гикнул по-чегемски и ринулся в сторону товарища Сталина.
Этого даже танцоры не ожидали. Хор внезапно перестал бить в ладони, и все танцоры, за исключением одного танцевавшего с противоположного края, остановились. Бесплодно простучав несколько раз, ноги танцора испуганно притихли.
И в этой тишине, с лицом, прикрытым башлыком, с распахнутыми руками, дядя Сандро стремительно прошуршал на коленях танцевальное пространство и замер у ног товарища Сталина.
Сталин от неожиданности нахмурился. Он даже слегка взмахнул сжатой в кулак трубкой, но сама поза дяди Сандро, выражающая дерзостную преданность, и эта трогательная беззащитность раскинутых рук и слепота гордо закинутой головы и в то же время тайное упрямство во всей фигуре, как бы внушающее вождю, мол, не встану, пока не благословишь, заставили его улыбнуться.
В самом деле, положив трубку на стол и продолжая улыбаться, он с выражением маскарадного любопытства стал развязывать башлык на его голове.
И когда повязка башлыка соскользнула с лица дяди Сандро и все увидели это лицо, как бы озаренное благословением вождя, раздался ураган неслыханных рукоплесканий, а секретари райкомов Западной Грузии еще более удивленно приподняли брови, хотя казалось до этого, что и приподымать их дальше некуда.
Сталин, продолжая держать в одной руке башлык дяди Сандро, с улыбкой показывал его всем, как бы давая убедиться, что номер проделан чисто, без всякого трюкачества. Он жестом пригласил дядю Сандро встать. Дядя Сандро встал, а Калинин в это время взял из рук Сталина башлык и стал его рассматривать. Неожиданно Ворошилов ловко перегнулся через стол и вырвал из рук Калинина башлык. Под смех окружающих он приложил его к глазам, показывая, что в самом деле сквозь башлык ничего не видно.
– Кто ты, абрек? – спросил Сталин и взглянул на дядю Сандро своими лучистыми глазами.
– Я Сандро из Чегема, – ответил дядя Сандро и опустил глаза. Взгляд вождя был слишком лучезарным. Но не только это. Какая-то беспокойная тень мелькнула в этом взгляде и тревогой отдалась в душе дяди Сандро.
– Чегем… – задумчиво повторил вождь и сунул в руку дяде Сандро башлык. Дядя Сандро отошел.
– Какая точность, – услышал он голос Калинина. Поглаживая бородку, Калинин ласково кивнул в сторону дяди Сандро.
– Солнце видно и сквозь башлык, – важно заметил Ворошилов, отрезая ухо жареного поросенка. Покамест он возился над ухом, поросенок выпустил изо рта зажатую в нем редиску, и она покатилась по столу, что очень удивило Ворошилова. Он настолько удивился, что, оставив вилку в недорезанном ухе поросенка, стал искать закатившуюся между блюдами и бутылками редиску.
Тут только дядя Сандро обратил внимание на то, что сидящие за столом уже порядочно выпили. Теперь он присмотрелся к ним своим наметанным глазом и определил, что выпито уже по двенадцать-тринадцать фужеров.
Дядя Сандро говаривал, что умеет определить по внешности застольцев, сколько они выпили с точностью до одного стакана. При этом он пояснял, что, чем больше людей за столом и чем больше они пьют, тем точнее он мог это определить. Но это еще не все. Оказывается, точность определения повышается с выпитым вином не беспредельно. После трех литров, говаривал дядя Сандро, точность определения снова падает.
…Платон Панцулая стоял перед сдвоенным кипарисовым строем своих питомцев. Сейчас они должны были спеть песню о красных партизанах «Кераз». Все шло как нельзя лучше, поэтому Панцулая не спешил, давая танцорам отдышаться.
– Тебе хорошо, – говорил дяде Сандро земляк по району, – теперь ты обеспечен на всю жизнь…
– Да брось ты, Махаз, – скромничал дядя Сандро.
– Да ты что? – не глядя на него, распалялся Махаз. – Подкатить к самому Сталину, да еще прикрыв лицо башлыком! Да такое и немец не придумает!
Да, дядя Сандро прекрасно понимал, что этот блестящий номер не только выдвигает его на первое место в ансамбле, но и окончательно укрепляет его комендантские полномочия. Теперь-то управляющий, конечно, не посмеет лезть к нему с дурацкими расспросами насчет дров.
Когда начали петь партизанскую песню «Кераз», дядя Сандро только делал вид, что поет, слегка открывая и закрывая рот по ходу мелодии. Это была первая, маленькая, дань за его подвиг. Пока они пели, Лакоба, наклонившись к Сталину, что-то ему рассказывал, и, судя по тому, что он и Сталин несколько раз бросали взгляд в его сторону, дядя Сандро, сладко замирая, почувствовал, что говорят о нем.
А когда Нестор Аполлонович сжал кулак и взмахом руки что-то показал, дядя Сандро догадался, что он рассказывает ему о молельном дереве и жест его означает, что по дереву надо было ударить чем-нибудь, чтобы оно прозвенело: «Кум-хоз…» Во всяком случае, Сталин в этом месте рассказа откинулся и стал хохотать, за что Калинин его слегка толкнул, показывая, что он мешает ансамблю. Тогда Сталин перестал смеяться и, наклонившись к Калинину, стал ему, как догадался дядя Сандро, пересказывать эту же историю. Дойдя до места, где надо было показать, что дерево ударяли, он несколько раз рукой, сжимающей трубку, сделал энергичное движение. Тут Калинин не выдержал и, тряся бородкой, зашелся в хохоте, после чего уже Сталин пригрозил ему, показывая, что он своим хохотом мешает ансамблю.
Взяв в одну руку рог, а в другую бутылку с вином, Сталин встал и пошел к танцорам.
Нестор Аполлонович что-то шепнул жене и она, подхватив со стола блюдо с жареной курицей, поспешила за Сталиным. Не успел Сталин подойти к танцорам, как тут же очутился директор санатория. Он попытался помочь Сталину, но тот отстранил его плечом и сам, налив полный рог вина, подал его Махазу.
Тот приложил одну руку к сердцу, другой принял рог и осторожно поднес его к губам. И пока он пил, приложившись к рогу, Сталин с удовольствием следил за ним и методично говорил ему, рубя маленькой, пухлой ладонью воздух:
– Пей, пей, пей…
Это был литровый рог. Директор, приняв у Сталина пустую бутылку, поставил ее на стол и прибежал с новой. Он взял у Сарьи блюдо с курицей, чтобы придерживать его, пока она будет разрезать курицу. То ли от смущенья, то ли от того, что блюдо покачивалось в руках у директора, Сарья неловко орудовала вилкой и ножом. На смуглых щеках Сарьи проступил румянец, директор начал задыхаться.
Между тем Махаз опорожнил рог, перевернул его, чтобы показать свою добросовестность, передал дяде Сандро. Сталин, заметив, что закуска запаздывает, махнул рукой и, решительно, обеими руками взяв курицу за ножки, с наслаждением, как заметил дядя Сандро, разорвал ее на две части. Потом каждую из них разорвал еще раз. Жир стекал по его пальцам, но он на это не обращал внимания…
Дяде Сандро показалось, что левая рука вождя двигается не совсем ловко. Уж не сухорук ли, подумал дядя Сандро и, осторожно присматриваясь, решил: да, немного есть… Вот бы его свести с Колчеруким, подумал он без всякой видимой причины. Вообще дядя Сандро почувствовал, что эта небольшая инвалидность как-то снизила образ вождя. Чуть-чуть, но все-таки.
Взяв мокрой рукой куриную ножку, Сталин подал ее Махазу. Тот опять склонился, принимая ножку и пристойно надкусывая ее.
Директор попытался было налить в рог, но Сталин опять отобрал у него бутылку и, обхватив ее скользящими от жира пальцами, наполнил рог и отдал пустую бутылку директору. Тот побежал за новой.
– Пей, пей, пей, – услышал дядя Сандро над собой, как только поднял рог. Дядя Сандро пил, плавно запрокидывая рог с тихой артистической бесчувственностью, с какой должен пить настоящий тамада – не пьет, а переливает драгоценную жидкость из сосуда в сосуд.
– Пьешь, как танцуешь, – сказал Сталин и, подавая ему куриную ножку, посмотрел ему в глаза своим лучезарным женским взглядом, – где-то я тебя видел, абрек?
Рука Сталина, подававшая куриную ножку, вдруг остановилась, и в глазах у него появилось выражение грозной настороженности. Дядя Сандро почувствовал смертельную тревогу, хотя никак не мог понять, чем она вызвана. Он понимал, что Сталин ошибается, что он-то, Сандро, запомнил бы, если бы видел его где-нибудь.
Ансамбль, и без того молчавший, окаменел. Дядя Сандро услышал, как челюсти Махаза, жующие курицу, остановились. Надо было отвечать. Но нельзя было отрицать, что Сталин его видел, и в то же время еще страшнее было согласиться с тем, что он его видел не только потому, что дядя Сандро этого не помнил, но главным образом потому, что Сталин приглашал его принять участие в каких-то неприятных воспоминаниях. Это он сразу почувствовал.
Могучий аппарат самосохранения, отработанный на многих опасностях, провернул за одну-две секунды все возможные ответы и выбросил на поверхность наиболее безопасный.
– Нас в кино снимали, – неожиданно для себя сказал дядя Сандро, – там могли видеть, товарищ Сталин.
– А-а, кино, – протянул вождь, и глаза его погасли. Он подал куриную ножку: – Держи. Заслужил.
Снова забулькало вино, переливаясь в рог.
– Пей, пей, пей, – раздалось рядом.
Дядя Сандро надкусил куриную ножку и слегка зашевелил шеей, чувствуя, что она омертвела, и по этому омертвению шеи узнавая, какая тяжесть с него свалилась. Ну и ну, думал дядя Сандро, как это я вспомнил, что нас снимали в кино? Ай да Сандро, думал дядя Сандро, хмелея от радости и гордясь собой. Нет, чегемца не так легко укусить! Неужели мы с ним где-то встречались? Видно, с кем-то спутал. Не хотел бы я быть на месте того, с кем он меня спутал, думал дядя Сандро, радуясь, что он – Сандро Чегемский, а не тот человек, с кем его спутал вождь.
Сталин уже подавал рог последнему танцору в первом ряду, когда к нему подошел Нестор Аполлонович.
– Может, пригласим их за стол? – спросил он.
– Как скажешь, дорогой Нестор, я только гость, – ответил Сталин и, приняв у Сарьи салфетку, стал медленно и значительно, как механик, закончивший работу, вытирать руки. Бросив салфетку в опустошенное блюдо, он пошел рядом с Лакобой к столу упругой, легко несущей свои силы походкой.
Участников ансамбля рассадили за банкетным столом. Тех, что получше, рядом с вождями, тех, что попроще, рядом с секретарями райкомов Западной Грузии. Над банкетным столом уже подымался довольно значительный шум. Островки разнородных разговоров начинали жить самостоятельной жизнью.
Вдруг товарищ Сталин встал с поднятым фужером. Грянула тишина, и через миг воздух очистился от мусора звуков.
– Я подымаю этот бокал, – начал он тихим внушительным голосом, – за эту орденоносную республику и ее бессменного руководителя…
Он замер на долгое мгновение, словно в последний раз стараясь взвесить те высокие качества руководителя, за которые он однажды его удостоил сделать бессменным. И хотя все понимали, что он никого, кроме Лакобы, сейчас не может назвать, все-таки эта длинная пауза порождала азарт тревожного любопытства: а вдруг?
– …моего лучшего друга Нестора Лакобу, – закончил Сталин фразу, и рука его сделала утверждающий жест, несколько укороченный тяжестью фужера.
– Лучшего, сказал, лучшего, – прошелестели секретари райкомов, мысленно взвешивая, как эти слова отразятся на тбилисском руководстве партией, а уж оттуда возможным рикошетом на каждом из них. При этом брови у каждого из них продолжали оставаться удивленно приподнятыми.
– …В республике умеют работать и умеют веселиться…
– Да здравствует товарищ Сталин! – неожиданно вскрикнул один из секретарей райкомов и вскочил на ноги.
Сталин быстро повернулся к нему с выражением грозного презрения, после чего этот высокий и грузный человек стал медленно оседать. Словно уверившись в надежности его оползания, Сталин отвел глаза.
– Некоторые товарищи… – продолжал он медленно, и в голосе его послышались отдаленные раскаты раздражения. Все поняли, что он сердится на этого секретаря райкома за его неуместное прославление Сталина.
Берия заерзал и, на мгновение сняв пенсне, бросил на него свой знаменитый мутно-зеленый взгляд, от которого секретарь райкома откачнулся, как от удара.
Сидевшие рядом с ним секретари райкомов как-то незаметно расступились, образовав между ним и собой просвет с идеологическим оттенком. Все секретари райкомов смотрели на него, удивленно приподняв брови, как бы силясь узнать, кто он такой и откуда он вообще взялся.
Тот продолжал, опираясь руками о стол, глядя на Берию, медленно оседать, стараясь незаметно войти в застолье и в то же время сдерживая себя на тот случай, если ему будет приказано удалиться.
– …некоторые грамотеи там, в Москве… – продолжал Сталин после еще более длительной паузы, и в голосе его еще более отчетливо прозвучали нотки угрозы и раздражения. И сразу же всем стало ясно, что он решает про себя что-то очень важное, а про этого неловкого секретаря райкома давным-давно забыл.
Берия отвел от него взгляд, и тот словно обвалился под собственным обломанным костяком, радостно рухнул – пронесло!
– …Бухарина… – услышал дядя Сандро шепот одного из второстепенных вождей, незнакомых ему по портретам.
– …Бухарина, Бухарина, Бухарина… – прошелестело дальше по рядам секретарей райкомов.
В самом деле, в партийных кругах было известно, что Сталин так называет Бухарина. В дни дружбы: «Наш грамотей». Теперь: «Этот грамотей».
– …думают, что руководить по-ленински, – продолжал Сталин, – это устраивать бесконечные дискуссии, трусливо обходя решительные меры…
Сталин опять задумался. Казалось, он с посторонним интересом прислушивался к этому шелесту и доволен им. Он любил такого рода смутные намеки. Фантазия слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очертаниями границ зараженной местности. В таких случаях каждый отшатывался с запасом, а отшатнувшихся с запасом можно было потом для политической акции обвинить в шараханье.
– …но руководить по-ленински – это значит, во-первых, не бояться решительных мер, а во-вторых, находить кадры и умело расставлять их, куда надо… Небольшой пример.
Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа его плавно опустилась вниз, при этом сам он, не мигая, продолжал смотреть на вождя.
– …Нестор нашел этого абрека в далеком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием, – продолжал Сталин. – Раньше он танцевал для узкого круга, а теперь танцует на радость всей республике и на нашу с вами радость, товарищи.
…Так выпьем за моего дорогого друга, хозяина этого стола Нестора Лакобу, – закончил товарищ Сталин и, стоя выпив бокал, добавил: – Алаверды Лаврентию…
Он прекрасно знал, что Берия и Лакоба не любят друг друга, и сейчас забавлялся, заставляя Берию первым выпить за Лакобу.
Поддев ножом, он достал из солонки шматок аджики, переложил его к себе в тарелку и, густо обмазав пурпурной приправой кусок ягнятины, отправил его в рот, хрустнув молочным хрящом.
– Не слишком дерет? – спросил Калинин, опасливо проследив, как Сталин мазал мясо аджикой.
– Нет, – сказал Сталин, мотнув головой, – думаю, что эта абхазская аджика имеет большое будущее.
Многие из тех, кто слышал слова Сталина, потянулись к аджике. Впоследствии это предсказание вождя, в отличие от многих других, в самом деле подтвердилось – аджика распространилась далеко за пределы Абхазии.
Между тем Берия произнес тост и, ничем не выдавая своих чувств, выпил за Лакобу. Лакоба, который тост вождя слушал со слуховым аппаратом, сейчас снял аппарат и слушал Берию, приставив ладонь к уху. Он тоже ничем не выдавал своих чувств, время от времени кивая головой в знак благодарности и того, что расслышал слова.
После Берии слово взял Калинин и, выпивая за Лакобу, сказал несколько слов о грамотеях, давно оторвавшихся от народа. Сталину тост его понравился, и он потянулся, чтобы поцеловать его. Калинин неожиданно отстранился от поцелуя.
Сталин нахмурился. Дядя Сандро опять удивился, как быстро меняется у него настроение. Только что лучезарно сиял глазами Калинину и вдруг потускнел, съежился. Берия оживленно сверкнул пенсне, а секретари райкомов с удивленно приподнятыми бровями уставились на Калинина.
«Значит, он с ними, а не со мной, – испуганно подумал Сталин, – как же я его проморгал?..» Он испугался не самой измены Калинина, раздавить его ничего не стоит, а того, что чутье на опасность, которому он верил, ему изменило, и это было страшно.
– А что с тобой, конопатым, целоваться, – сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина, – вот если б ты был шестнадцатилетней девочкой (он собрал пальцы правой руки в осторожную горстку, слегка потряс ими, словно прислушиваясь к колокольцу нежной юности), тогда другое дело…
Лицо Сталина озарилось, и вздох облегчения прошелестел по залу. «Нет, не изменило чутье», – подумал Сталин.
– Ах ты, мой всесоюзный козел, – сказал он, обнимая и целуя Калинина, в сущности обнимая и целуя собственное чутье.
– Ха! Ха! Ха! Ха! – рассмеялись секретари райкомов, радуясь взаимной шутке вождей. С некоторым опозданием к ним присоединился Лакоба, которому дядя Сандро, он теперь сидел рядом с ним, пояснил недослышанную шутку. Запоздалый смех Лакобы прозвучал несколько странно, и Берия, не удержавшись, двусмысленно хохотнул, хотя его хохоток можно было принять и за отголосок еще того смеха.
Но Сталин почувствовал издевательский смысл его смеха. Этот смех ему сейчас был неприятен, и он сказал, посмотрев на Берию:
– Лаврентий, попроси жену, пусть потанцует…
– Конечно, товарищ Сталин, – сказал Берия и посмотрел на жену.
– Но я не умею, товарищ Сталин, – сказала она, краснея.
Сталин знал, что она не умеет танцевать.
– Вождь просит, – грозно шепнул Берия.
– Зачем вождь, мы все просим, – сказал Сталин и, собирая глазами участников ансамбля, добавил: – Давайте, ребята.
На ходу хлопая в ладони и подпевая, участники ансамбля образовали полукруг, открытой стороной обращенный к основанию стола.
– Я не ломаюсь, я в самом деле не умею, – говорила жена Берии, стараясь перекричать шум рукоплесканий. Но теперь ее просили все. Подталкиваемая мужем, она, робко упираясь, шла в круг. На мгновенье, когда Берия повернулся спиной к столу, дядя Сандро заметил, что его искривленные губы шепчут жене непечатные слова.
Раскинув руки, она сделала два неловких круга и остановилась, не зная, что делать дальше. Ясно было, что она и в самом деле не умеет танцевать.
– Молодец, – сказал Сталин, улыбаясь, и похлопал ей. Все похлопали жене Берии.
– Сарью, просим Сарью! – раздались голоса. Сейчас Сарья сидела между дядей Сандро и Лакобой. Сверкнув темными глазами, она посмотрела на мужа.
– Иди же, – сказал Лакоба по-абхазски. Она взглянула на Сталина. Тот ласково ей улыбнулся. Все шло, как он хотел.
Сарья вошла в круг. Смуглянка, с головой, слегка запрокинутой тяжелым узлом волос, сделала несколько плавных кругов и вдруг остановилась возле Паты Патараи, вызывая его на танец. Сдержанно улыбаясь, Пата проплыл рядом с ней.
Берия сидел за столом, не глядя на танцующих, тяжело опершись головой на руку. Жена его, растерянная, стояла возле участников ансамбля, видимо, не решаясь сесть на место.
– Лаврентий, – тихо сказал Сталин. Тот, выпрямившись, посмотрел на вождя. – Оказывается, Глухой не только в кадрах лучше разбирается…
Берия развел руками, мол, ничего не поделаешь – судьба. Дяде Сандро стало неприятно, он почувствовал, что здесь таится опасность для Лакобы. Ох, не надо бы вождю так растравлять его, подумал дядя Сандро.
– Потом скажешь, что они говорили, – шепнул дяде Сандро Лакоба, когда раздался последний взрыв рукоплесканий и все посмотрели на Сарью, обнявшую жену Берии. Лакоба заметил, что Сталин что-то сказал Берии, и тот развел руками. Видимо, он почувствовал, что речь идет о нем.
Почти одновременно со словами Лакобы раздались три пистолетных выстрела. Дядя Сандро вскочил на ноги. Ворошилов вкладывал в кобуру дымящийся пистолет. Растроганный танцем Сарьи и особенно ее благородным порывом, он не удержался от маленького салюта. Все радостно зашумели и стали смотреть на потолок, где возле люстры чернели три маленькие дырочки, соединенные между собой молнийкой трещины.
Штукатурка, осыпавшаяся вниз после выстрелов, покрыла белым налетом стынущую индейку. Сталин посмотрел на слегка припудренную индейку, подняв голову, посмотрел на черные дырочки в потолке, потом перевел взгляд на Ворошилова и сказал:
– Попал пальцем в небо.
Ворошилов густо покраснел и опустил голову.
– Среди нас, – сказал Сталин, – находится настоящий народный снайпер, попросим его.
Он посмотрел на Лакобу и, положив трубку на стол, начал аплодировать. Все дружно зааплодировали, присоединяясь к вождю, хотя почти никто толком не знал в чем дело.
Лакоба понял, о чем его просят, и, склонив голову, смущенно пожал плечами.
– Может, не стоит? – сказал он, взглянув на Сталина. Тот подносил к трубке огонь.
– Стоит! Стоит! – закричали вокруг. Сталин, прикуривая, остановился и кивнул на крики: мол, глас народа, ничего не поделаешь.
Смущаясь от предстоящего удовольствия, Нестор Аполлонович развел руками. Он стал искать глазами директора санатория, но тот уже быстрой рысцой бежал к нему.
– Позови, – кивнул Лакоба склонившемуся директору.
– Переодеть? – спросил директор, все еще склоненный.
– Зачем? – сморщился Лакоба. – Проще, проще…
Нестор Аполлонович налил себе фужер вина и знаком показал, чтобы всем налили. Все наполнили свои бокалы.
– Я хочу поднять этот бокал, – начал он своим дребезжащим голосом, – не за вождя, но за скромность вождя.
Нестор Аполлонович рассказал по этому поводу такой случай. Оказывается, в прошлом году он получил записку от товарища Сталина, в которой тот его просил выслать ему мандарины, строго наказав сопроводить посылку счетом, который вождь оплатит с первой же получки.
Сталин задумчиво покуривал трубку, слушая рассказ Нестора. Все это правда, думал он, Глухой не льстит. И деньги выслал с получки… Хороший урок всем этим секретарям, которые только и знают, что весь вечер задирают брови.
Ему было приятно, что все, о чем говорит Нестор, правда, но, заглядывая в себя глубже, он находил еще один источник более скрытой, но и более тонкой радости. Источник этой радости заключался в том, что и тогда, когда он писал записку, он помнил – рано или поздно она вот так вот выплывет и сыграет свою маленькую историческую роль… Так кто умеет заглядывать в будущее, он или эти грамотеи?
– …Кажется, неужели наша республика обеднеет, если мы пошлем товарищу Сталину эти несчастные мандарины? – продолжал Нестор Лакоба.
– Не мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор, – ткнул Сталин трубкой в его сторону, – народ сажал…
– Народ сажал, – прошелестело по рядам.
Народ сажал, повторил Сталин про себя, еще смутно нащупывая взрывчатую игру слов, заключенную в это невинное выражение. Впоследствии, когда отшлифовалась его великолепная формула «враг народа», некоторые пытались приписать ее происхождение Великой французской революции. Может, у французов и было что-нибудь подобное, но он-то знал, что здесь, в России, он ее вынянчил и пустил в жизнь.
(Подобно поэту, для которого во внезапном сочетании слов вспыхивает контур будущего стихотворения, так и для него эти случайные слова стали зародышем будущей формулы.
Ужасно подумать, что механизм кристаллизации идеи один и тот же у палача и поэта, подобно тому, как желудок людоеда и нормального человека принимает еду с одинаковой добросовестностью. Но если вдуматься, то, что кажется равнодушием природы человека, может быть следствием высочайшей мудрости его нравственной природы.
Человеку дано стать палачом, так же как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами.
И если бы желудок людоеда просто не принимал человечины, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечивания людоеда. Неизвестно, куда обратилась бы эта его склонность.
Нет человечности без преодоления подлости и нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан. Да мы и говорим о том, что нет выбора, потому что почувствовали гнет вины за сделанный выбор. Если бы выбора и в самом деле не было, мы бы не чувствовали гнета вины…)
…Под гром рукоплесканий Лакоба выпил свой бокал. И не успел замолкнуть этот гром во славу скромности вождя, как в дверях появился повар в белом халате, а за ним директор санатория с тарелкой в руке.
Услышав рукоплескания, повар сделал попытку шарахнуться, но директор слегка подтолкнул его и отвел от двери.
Это был среднего роста пожилой полнеющий мужчина с нездоровым цветом лица, какой часто бывает у поваров, с тяжелой шапкой курчавых волос на голове.
Жестом приказав ему стоять, директор, стараясь неподвижно держать тарелку, подошел к Лакобе.
– Нестор Аполлонович, повар здесь, – сказал он, склонившись над ним и показывая содержимое тарелки. В тарелке, слегка перекатываясь, лежало с полдюжины яиц.
– Хорошо, – сказал Лакоба и хмуро посмотрел в тарелку.
Тут только дядя Сандро догадался, что Нестор Аполлонович будет стрелять по яйцам. Этого он еще не видел.
– Индюшкины яйца? – вдруг спросил Берия и, протянув руку, вытащил из тарелки яйцо.
– Куриные, Лаврентий Павлович, – подсказал директор, поближе подсовывая ему тарелку.
– Тогда почему такие большие? – спросил Берия, с любопытством рассматривая яйцо. Яйца и в самом деле были довольно крупные.
– Сам выбирал, – хихикнул директор, кивнув головой в сторону повара, стараясь обратить внимание Берии на тайный комизм этого обстоятельства. Но Берия, не обращая внимания на тайный комизм этого обстоятельства, продолжал рассматривать яйцо. Директор встревожился.
– Может, заменить, Лаврентий Павлович? – спросил он.
– Нет, я просто так говорю, – опомнился Берия и быстро положил яйцо в тарелку.
– Ревнует к Глухому, – шепнул Сталин Калинину и беззвучно рассмеялся в усы. Калинин в ответ затряс бородкой.
– В этом углу, по-моему, лучше, – сказал Лакоба, оглядывая люстру и кивая в противоположный тому, где стоял повар, угол. Так фотограф перед началом съемки старается найти лучший эффект освещения.
– Совершенно верно, – подтвердил директор.
– Волнуется? – кивнул Лакоба на повара.
– Немножко, – сказал директор, низко склонившись к уху Лакобы.
– Успокой его, – сказал Нестор Аполлонович, слегка отстраняясь от директора, поза которого слишком назойливо подчеркивала его глухоту.
Повар все еще стоял у дверей с безучастным подопытным выражением на лице. Дядя Сандро только сейчас заметил, что он в одной руке сжимает колпак. Пальцы этой руки все время шевелились.
Директор подошел к повару, что-то шепнул ему, и они оба направились к противоположному углу. Директор важно нес впереди себя тарелку с яйцами.
Стало тихо. Смысл предстоящего теперь был всем ясен. Прохрустев накрахмаленным халатом, повар остановился в углу, повернувшись лицом к залу.
– Если б ты только знала, как я ненавижу это, – шепнула Сарья, поворачиваясь к Нине. Та ничего не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела в угол. Сарья больше ни разу не посмотрела туда, куда смотрели все.
Повар стоял, плотно прислонившись к стене. Директор ему беспрерывно что-то говорил, а повар кивал головой. Лицо его приняло мучной цвет. Директор выбрал из тарелки яйцо, и повар, теперь не шевеля головой, а только скосив на него белые, как бы отдельно от лица плавающие глаза, следил за его движениями. Директор стал ставить ему на голову яйцо, но то ли сам волновался, то ли яйцо попалось неустойчивое, оно никак не хотело становиться на попа.
Нестор Аполлонович нахмурился. Вдруг повар, продолжая неподвижно стоять, приподнял руку, нащупал яйцо, прищурился своими белыми, отдельно плавающими глазами, поймал точку равновесия и плавно опустил руку.
Яйцо стояло на голове. Теперь он, вытянувшись, замер в углу и, если б не выражение глаз, он был бы похож на призывника, которому меряют рост.
Директор быстро посмотрел вокруг, не находя, куда поставить тарелку с яйцами, и вдруг, словно испугавшись, что стрельба начнется до того, как он отойдет от повара, сунул ему в руку тарелку и быстро отошел к дверям.
Лакоба вытащил из кобуры пистолет и, осторожно опустив дуло, взвел курок. Он оглянулся на Сталина и Калинина, стараясь стоять так, чтоб им все было видно. Дяде Сандро пришлось сойти с места. Он встал за стулом Сарьи, ухватившись руками за спинку. Дядя Сандро очень волновался.
Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной, и вдруг дядя Сандро заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня.
Повар внезапно побелел, и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелке, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Сандро заметил, как по лицу повара брызнуло что-то желтое и только потом услышал выстрел.
– Браво, Нестор! – закричал Сталин и забил в ладони. Гром рукоплесканий прозвучал, как разряд облегчения. Директор подбежал к повару, выхватил у него из рук колпак, вытер щеку повара, облитую желтком, и сунул колпак в карман его халата.
Он оглянулся на Лакобу, как оглядываются на стрельбище, чтобы показать, куда попал стрелявший, или спросить, надо ли подготовить мишень к очередному выстрелу.
– Давай, – кивнул Лакоба.
Директор на этот раз быстро поставил яйцо на голову повара и, хрустнув скорлупой разбитого яйца, отошел к дверям. И снова лицо Лакобы превратилось в кусок камня, вытянутая рука окаменела, и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз.
И опять на этот раз дядя Сандро заметил сначала, как желтый фонтанчик яйца выплеснул вверх и только потом раздался выстрел.
– Браво! – и взрывы рукоплесканий сотрясли банкетный зал. Улыбаясь бледной, счастливой улыбкой, Лакоба прятал пистолет. Повар все еще стоял в углу, медленно оживая.
– Посади его за стол, – бросил Лакоба жене по-абхазски.
Сарья схватила салфетку и подбежала к повару. Вслед за нею подбежал и директор, которому повар теперь сердито сунул тарелку с яйцами. Сарья стояла перед ним и, вытирая ему лицо салфеткой, что-то говорила. Повар с достоинством кивал. Директор, присев на корточки и поставив рядом с собой тарелку с яйцами, подбирал скорлупу разбитых яиц.
Сарья стала уводить повара, но тот вдруг остановился и, сбросив халат, кинул его директору. По-видимому, случившееся на некоторое время давало ему такие права, и он явно показывал окружающим, что он недаром рискует, а имеет за это немалые выгоды.
Когда директор с халатом, перекинутым через плечо, и с тарелкой в руке быстро проходил к дверям, дядя Сандро с удивлением подумал, что повар и директор могли бы заменить друг друга, потому что многое в этой жизни решает случай.
Сарья посадила повара между последним из второстепенных вождей, незнакомых дяде Сандро по портретам, и первым из секретарей райкомов.
Сарья налила повару фужер коньяку, придвинула тарелку, плеснула в нее ореховой подливы и положила кусок индюшатины. Повар сразу же выпил и сейчас, оглядывая стол, важно кивал на какие-то слова, которые ему говорила Сарья.
Бедная Сарья, думал дядя Сандро, она сейчас пытается замолить грех за эту стрельбу, которую она так не любила и которая, кстати, однажды закончилась неприятностью.
Дело происходило в одной абхазской деревне. После большого застолья началась стрельба по мишени. Может, именно потому, что стреляли по мишени и Лакоба был не очень внимателен или еще по какой-нибудь причине, но он ранил деревенского парня, который то и дело бегал смотреть на мишень. Рана оказалась неопасная, и парня тут же на «бьюике» Лакобы отправили в районную больницу.
Лакоба обратно ехал вместе с другими членами правительства на второй машине. И вот тут-то, на обратном пути, один из членов правительства сильно повздорил с Лакобой и даже ссадил его с машины посреди дороги.
– Мне надоели твои партизанские радости, – говорят, сказал он ему тогда. Трудно сейчас установить, почему Лакоба согласился сойти с машины. Возможно, он сам был так подавлен случившимся, что не нашел возможным сопротивляться такой оскорбительной мере. Я думаю, скорее всего, человек, который его ругал, был старше его по возрасту. И если тот ему сказал что-нибудь вроде того, что или ты сейчас сойдешь с машины, или я сойду, то Лакоба, как истый абхазец, этого допустить не мог и, вероятно, сам сошел с машины.
…Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял на ногах, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб.
– Мой Вилгелм Телл, – сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову: – А ты кто такой?
– Я – Ворошилов, – сказал Ворошилов довольно твердо.
– Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок? – спросил Сталин, и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, подумал он, растравлять Ворошилова против нашего Лакобы.
– Конечно, он лучше стреляет, – сказал Ворошилов примирительно.
– Тогда почему ты выпячиваешься, как ворошиловский стрелок? – спросил Сталин и сел, предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства.
Секретари райкомов, с трудом подымая отяжелевшие брови, начинали удивленно прислушиваться. Лакоба потихоньку отошел и сел на место.
– Ну, хватит, Иосиф, – сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами.
– Хватит, Иосиф, – сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова, – говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь?
Ворошилов, опустив голову, краснел и надувался.
– Скажи, чтоб начали его любимую, – шепнул Нестор жене.
Сарья тихо встала и прошла к середине стола, где сидел Махаз. Лакоба знал, что это один из способов остановить внезапные и мрачные капризы вождя.
Махаз затянул старинную грузинскую застольную «Гапринди шаво мерцхало» («Лети, черная ласточка»). В это время Ворошилов, подняв голову, попытался что-то сказать Сталину. Но тот вдруг поднял руки в умоляющем жесте: мол, оставьте меня в покое, дайте послушать песню.
Сталин сидел, тяжело опершись головой на одну руку и сжимая в другой потухшую трубку.
Нет, ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песня эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности. Но не так освобождала, как освобождал азарт страсти и борьбы, потому что как только азарт страсти кончался гибелью врага, начиналось похмелье, и тогда победа источала трупный яд побежденных.
Нет, песня по-другому освобождала его душу. Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический свет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело Судьбы, где нет ни палачей, ни жертв, но есть движение Судьбы, История и траурная необходимость занимать в этой процессии свое место. И что с того, что ему предназначено занимать в этой процессии самое страшное и потому самое величественное место.
Лети, черная ласточка, лети…
но вот постепенно эта траурная процессия Судьбы уходит куда-то, становится далеким фоном сказочной картины…
Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в давильню. Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.
На деревенской улице у плетня остановился всадник, которого он впервые видит, но почему-то признает в нем гостя из Кахетии. Всадник пьет воду из кружки, которую протягивает ему через плетень местный крестьянин. У самого плетня колодец, потому-то и остановился здесь этот всадник.
Проезжая мимо всадника и односельчанина, он сердечно кивает им, мимолетно улыбается всаднику, который, вглядываясь в него, за скромным обликом виноградаря правильно угадывает его великую сущность. Именно этой догадке и улыбается он мимоходом, показывая всаднику, что он сам не придает большого значения своей великой сущности.
Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахетии.
– Слушай, кто этот человек? – говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.
– Это тот самый Джугашвили, – радостно говорит хозяин.
– Неужели тот самый? – удивляется гость из Кахетии. – Я думаю, вроде похож, но не может быть…
– Да, – подтверждает хозяин, – тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина.
– Интересно, почему не захотел? – удивляется гость из Кахетии.
– Хлопот, говорит, много, – объясняет хозяин, – и крови, говорит, много придется пролить.
– Хо-хо-хо, – прицокивает гость из Кахетии, – я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался.
– А зачем ему Россия, – поясняет хозяин, – у него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети…
– Что за человек! – продолжает прицокивать гость из Кахетии, глядя вслед арбе, которая теперь сворачивает к дому. – От целой страны отказался…
– Да, отказался, – подтверждает хозяин, – потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина…
– Дай бог ему здоровья! – восклицает всадник. – Но откуда он знает, что будет с крестьянами?
– Такой человек, все предвидит, – говорит хозяин.
– Дай бог ему здоровья, – цокает гость из Кахетии… – Дай бог…
Иосиф Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, едет себе на арбе, мурлычет песенку о черной ласточке. Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но, в сущности, правдивый рассказ односельчанина.
И вот он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо, приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжают… Может, все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтобы сразу всем помогать советами?
Куры, пьяные от виноградных отжимок, ходят по двору, прислушиваясь к своему странному состоянию, крестьянин, дожидаясь его, почтительно кланяется, мать, услышав скрип арбы, выглядывает из кухни и улыбается сыну. Добрая, старая мать с морщинистым лицом. Хоть в старости почет и достаток пришли наконец… Добрая… Будь ты проклята!!!
Тут, как всегда, видение обрывается. Он никогда не мог провести его дальше, всегда спотыкался на этом месте, потому что кровь давней обиды ударяла в голову. Нет ей прощения даже за то, что она каждый раз портила этот сон наяву, этот милый вариант судьбы, который сладко было себе позволить во хмелю, слушая любимую песню. Нет ей прощения, нет. Как он помертвел однажды, как помертвел, когда, играя с мальчиками на зеленой лужайке, вдруг услышал (срыть лужайку!), как двое взрослых мужчин, похабно похохатывая, стали говорить о ней.
Они сидели в десяти шагах от него в тени алычи (срыть алычу, чтоб она высохла) и говорили о ней. А потом один из них вдруг остановился и, кивнув в его сторону, сказал другому, чтобы потише говорил, потому что, кажется, ее мальчик тут крутится.
Они заговорили тише, а он, раздавленный унижением, должен был продолжать игру, чтобы товарищи его ничего не заметили и ни о чем не догадались. Как он ненавидел их тогда, как мечтал отомстить, особенно почему-то этому, второму, который сказал, чтобы первый говорил потише. Нет ей прощения за самую ее позорную нищету и за все остальное…
Лети, черная ласточка, лети…
Он поднял голову и, оглядывая теперь поющих секретарей райкомов, постепенно успокоился. С каждым накатом мелодии песня смывала с их лиц эти жалкие маски с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все отчетливей, все самостоятельней проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов.
Лети, черная ласточка, лети…
Они думают, власть – это мед, размышлял Сталин. Нет, власть – это невозможность никого любить, вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, никого не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить.
Вот я уже полюбил Глухого, и я знаю, что Берия его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть – это когда нельзя никого любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но, раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину.
Да, да, я это знаю. И меня любили, и получали за это рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если б можно было любить и не доверять одновременно. Но это невозможно.
Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама справедливость требует расправляться с теми, кого не любишь, с врагами Дела.
Да, Дела, подумал он. Конечно, Дела. Все делается ради Дела, думал он, удивленно вслушиваясь в полый, пустой звук этой мысли. Это от песни, подумал он. Вообще, надо бы запретить эту песню, она опасна, потому что я ее слишком люблю. Глупость, подумал он, она была бы опасна, если бы другие ее могли так же глубоко чувствовать, как я… Но так ее никто не может чувствовать…
Продолжая слушать песню, он налил себе фужер вина и молча, ни на кого не глядя, выпил. Поставив фужер, он взял со стола давно потухшую трубку и несколько раз безуспешно попытался затянуться. Заметив, что трубка потухла, он уже нарочно тянул, словно продолжая оставаться в глубокой задумчивости. Спички лежали рядом, но он ждал – кто-нибудь догадается или нет подать ему огня.
Вот так, будешь умирать – стакан воды не подадут, подумал он, жалея себя, но тут Калинин зажег спичку и поднес ее к трубке. Оставаясь в глубокой задумчивости, он ждал, пока пламя спички доберется до пальцев Калинина, и только тогда потянулся к огню и, прикуривая, наблюдал, как легкое пламя касается дрожащих пальцев Калинина. Ничего, подумал он, не одному мне мучиться.
Он с удовольствием затянулся и откинулся на стуле. Взгляд его упал на Ворошилова. Тот все еще сидел за столом, опустив голову и насупившись, с выражением обиженного ребенка. И вдруг острая жалость к нему пронзила Сталина. Он тоже загубил душу, подумал Сталин.
– Клим, – сказал он глухим от волнения голосом, – где Царицын, где мы, Клим?
– За что обидел, Иосиф? – поднял голову Ворошилов и посмотрел на Сталина горьким преданным взглядом.
– Прости, Клим, если обидел, – сказал Сталин, раскаиваясь и любуясь своим раскаянием, – но они нас с тобой еще хуже обижают…
– Ничего, Иосиф! – воскликнул Ворошилов, потрясенный тем, что вождь не только понимает его обиды, но и ставит их рядом со своими. – Ты им еще покажешь, где раки зимуют…
– Думаю, что покажу, – сказал Сталин скромно и пыхнул трубкой. Песня кончилась, и рой смутных, нетвердых мыслей схлынул из его отрезвевшей головы.
Да разве на него можно обижаться, думал Ворошилов, веселея и незаметно оглядывая вождей, чтобы убедиться в том, что они слышали, как его только что возвысил Сталин. И как он точно понимает, думал Ворошилов восторженно, что мои враги в руководстве армией – это продолжение враждебной Сталину линии в руководстве государственным аппаратом.
– Товарищ Сталин, что делать с этим Цулукидзе? – спросил Берия, внимательно прислушивавшийся к словам Сталина. Он давно хотел спросить об этом и решил, что сейчас самое подходяще время.
Дело в том, что этот старый большевик, еще ленинской гвардии, хотя давно уже был отстранен от всяких практических дел, продолжал язвить и ворчать по всякому поводу. В свое время это он бросил подхваченную грузинскими коммунистами реплику, что Берия с маузером в руке рвется к партийному руководству Закавказья. («А что, сволочи, с Эрфуртской программой я должен был рваться к руководству? Разве вы с ней в говне не очутились?»)
Другого человека за такие слова (теперь, когда уже прорвался к руководству) он давно бы подвесил за язык, но этого тронуть опасался. Не было полной ясности в этом вопросе. Многих старых большевиков Сталин сам уничтожал, но некоторых почему-то придерживал и награждал орденами.
– А что он сделал? – спросил Сталин и в упор посмотрел на Берию.
– Болтает лишнее, выжил из ума, – сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу, раньше, чем он выскажется.
– Лаврентий, – сказал Сталин, мрачнея, потому что он не находил сейчас нужного решения, – я приехал использовать законный отпуск, почему ты мне задаешь такие вопросы?
– Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел, – быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачнение Сталина, голосом показывая, что извиняется и сам не придает большого значения вопросу. Хорошо, что не ликвидировал, с радостным испугом мелькнуло у него в голове.
– …Болтунов Ленин тоже ненавидел, – сказал Сталин задумчиво.
– Может, выгнать из партии к чертовой матери? – спросил Берия, оживляясь. Ему показалось, что Сталин все-таки не прочь как-то наказать этого сукиного сына.
– Из партии не можем, – сказал Сталин и вразумляюще добавил: – Не мы принимали, Ленин принимал…
– А что делать? – спросил Берия, окончательно сбитый с толку.
– У него, по-моему, был брат, – сказал Сталин, – интересно, где он сейчас?
– Жив, товарищ Сталин, – сказал Берия, покрываясь холодным потом, – работает в Батуме директором лимонадного завода.
Сталин задумался. Берия покрылся холодным потом, потому что раньше не знал о существовании брата Цулукидзе и только в прошлом году, собирая материал против видного в прошлом большевика, узнал о его брате. Материалы о брате, запрошенные из Батума, ничего полезного в себе не заключали, он даже ни разу не проворовался на своем лимонадном заводе. Но то, что он знал о его существовании, знал, что он делает и как он живет, сейчас работало на него. Сталин это любил.
– Как работает? – спросил Сталин строго.
– Хорошо, – сказал Берия твердо, показывая, что свою неприязнь к болтуну никак не распространяет на его родственников, а знание деловых качеств директора лимонадного завода – простое следствие знания кадров со стороны партийного руководителя.
– Пусть этот болтун, – ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна, – всю жизнь жалеет, что загубил брата.
– Гениально! – воскликнул Берия.
– У вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи, – объяснил Сталин ход своей мысли, – пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания.
Почувствовав, что Сталин своими словами отделил себя от Кавказа, некоторые секретари райкома стали смотреть на него с грустным упреком, словно спрашивая: «За что осиротил?»
– Век живи, век учись, – сказал Берия и развел руками.
– Но только не за счет отпуска, Лаврентий, – строго пошутил Сталин, чем обрадовал Лакобу. Он считал нетактичным, что Берия здесь, за пиршественным столом в Абхазии, выклянчивал у Сталина санкцию на расправу со своими врагами. Вечно этот Берия лезет вперед, и сам же я виноват, что познакомил его со Сталиным, думал Лакоба. Сейчас самое время поднять тост за старшего брата, за великий русский народ. Недаром Сталин сказал: мол, у вас на Кавказе… Значит, он уже чувствует себя русским…
Он знаками показал на тот конец стола, чтобы всем разлили.
– Я хочу поднять этот тост, – сказал он, вставая со своего места, бледный, упрямо не поддающийся хмелю на исходе ночи, – за нашего старшего брата…
Пиршественная ночь набирала второе дыхание. Снова пили, ели, плясали, и уже даже у дяди Сандро, величайшего тамады всех времен и народов, покруживалась голова. Увидеть за одну ночь столько грозного и прекрасного даже для него было многовато.
Лакоба приспустил поводья тамады, чувствуя, что вождю строгий порядок кавказского застолья начинает надоедать.
– Прекрасную Сарью, просим, просим! – кричал Калинин, хлопая в ладони и любовно склоняя бородатую голову.
– «Мравалджамие»… «Мравалджамие»! – просили на том конце стола и затягивали ее.
– «Многие лета»! – кричали другие и затягивали абхазскую застольную.
– Теперь ты на коне, – кричал с того конца стола Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро, – благодать снизошла на тебя, благодать!
– У меня волос курчавый, как папоротник, – рассказывал повар одному из секретарей райкома, давая ему пощупать свои волосы, – яичко, как в гнездышке, лежит.
– Все же риск, – сказал секретарь, угрюмо щупая волосы повара.
– У людей жёны, – бормотал Берия, тяжело опустив голову на руки.
– Но, Лаврик, пойми… Мне было стыдно, и он совсем не рассердился.
– Дома поговорим…
– Но, Лаврик…
– Я для тебя больше не Лаврик…
– Но, Лаврик…
– У людей жёны…
– Какой же риск, мил-человек, у меня один волос на три пальца возвышается, – радостно разуверял повар недоверчиво косящегося на его голову секретаря райкома.
– А в голову не попадал?
– Конечно, нет, – радуясь его наивности, говорил повар, – риску тут мало, страху много.
– Все же риск, человек выпивший, – угрюмо придерживался своей версии секретарь райкома.
– Говорит «у вас на Кавказе», – качал головой другой секретарь, – а что мы ему сделали?
– Шота, прошу как брата, не обижайся на вождя, – утешал его товарищ.
– Я за него жизнь готов отдать, но у меня душа болит, – отвечал тот, бросая осиротевший взгляд на тот конец стола.
– Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя…
– Везунчик! Везунчик! – кричал захмелевший Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро. – Теперь вся Абхазия у тебя в кармане!
Дядя Сандро укоризненно качал головой, намекая на непристойность таких криков, тем более направленных в самую гущу правительства. Но Махаз не понимал его знаков.
– Не притворяйся, что не в кармане! – кричал он. – Не притворяйся, везунчик!
– Что это он все кричит? – даже Лакоба обратил внимание на Махаза.
– Глупости, – сказал дядя Сандро и подумал: «Хорошо, хоть по-абхазски кричит, а не по-русски».
– Это что! – пытался повар развлечь угрюмистого секретаря. – Я еще во времена принца Ольденбургского здесь, в Гаграх, учеником повара начинал. Принц, как Петр, с палкой ходил. Обед для рабочих сами пробовали. Случалось, поваров палкой бивали, но всегда за дело.
– Все же риск, – угрюмо качал головой секретарь. Он чувствовал себя перебравшим, и мысль его застряла на стрельбе по яйцам.
– Это что! – пытался отвлечь его повар удивительными воспоминаниями. – Сюда приезжали государь император…
– Зачем выдумываешь? – неохотно отвлекся секретарь.
– Крестом клянусь, на крейсере! Сам крейсер остановился на рейде… Государь на катере причалили, а государыня не пожелали причалить, чем обидели принца, – рассказывал повар.
– Придворные интриги, – угрюмо перебил его секретарь.
…Рано утром, когда по велению Лакобы директор санатория раздвинул тяжелые занавески и нежно-розовый августовский рассвет заглянул в банкетный зал, он (нежно-розовый рассвет) увидел многих секретарей райкомов спящими за столами – кто откинувшись на стуле, а кто прямо лицом на столе.
Одному из них, спавшему, откинувшись на стуле, друзья сунули в рот редиску, что могло вызвать у нежно-розового рассвета только недоумение, потому что поросят, держащих в оскаленных зубах по редисинке, на столе не оставалось, а шутливая аналогия была понятна лишь посвященным.
Участники ансамбля один за другим подходили к Сталину. Сталин сгребал со стола конфеты, печенье, куски мяса, жареных кур, хачапури и другую снедь. Приподняв полу черкески или подставив башлыки, они принимали подарки и, поблагодарив, отходили от вождя.
– Марш, – говорил Сталин, накидав очередному танцору гостинцев. Он старался всем раздавать поровну, приглядывался к кускам мяса, к жареным курам и если в чем-то одном недодавал, то старался побольше наложить другого. Так деревенский патриарх, Старший в Доме, после большого пиршества раздает гостям дорожные и соседские паи.
– Все равно все на Сталина спишут, – шутил вождь, накладывая снедь в растопыренные полы черкески, все равно скажут – Сталин все скушал…
Некоторые участники ансамбля, раз такое дело, перемигнувшись, прихватывали с собой бутылки с вином.
* * *
На трех переполненных легковых машинах ансамбль возвращался в Мухус. Когда садились в машины, произошло любопытное замешательство. Рядом с шофером первой машины сел, конечно, руководитель ансамбля Платон Панцулая. Рядом с шофером второй машины должен был сесть, как обычно, Пата Патарая. Он уже занес было голову в открытую дверцу, но потом вытащил ее оттуда и предложил сесть дяде Сандро, случайно (будем думать) оказавшемуся рядом.
Дядя Сандро стал отказываться, но после вежливых пререканий ему все-таки пришлось уступить настояниям Паты Патарая и сесть рядом с шофером во вторую машину.
Было решено доехать до реки Гумисты, выбрать там место поживописней и устроить завтрак на траве. Ехали весело, с песнями. Нередко по дороге попадались ребятишки, и тогда им из машины бросали конфеты и печенье. Дети кидались собирать божий дар.
– Знали бы, с какого стола, – устало улыбались танцоры.
За Эшерами, там, где дорога проходила между зарослями папоротников, ежевики и дикого ореха, внезапно машинам преградило путь небольшое стадо коз. Машины притормозили, а козы, тряся бородами и пофыркивая, переходили дорогу. Пастушка не было видно, но голос его доносился из зарослей, откуда он выгонял отставшую козу.
– Хейт! Хейт! – кричал мальчишеский голос, волнуя дядю Сандро какой-то странной тревогой. Время от времени мальчик кидал камни, и они, хрястнув по густому сплетению, глухо, с промежутками падали на землю. И когда камень мальчика попал в невидимую козу, дяде Сандро показалось, что он за миг до того угадал, что именно этот камень в нее попадет. И, когда коза, крякнув, выбежала из-за кустов и вслед за ней появился подросток и, увидев легковые машины, смущенно замер, дядя Сандро, холодея от волнения, все припомнил.
Да, да, почти так это и было тогда. Мальчик перегонял коз в котловину Сабида. И тогда вот так же одна коза застряла в кустах, и он так же кидал камни и кричал. Вот так же, как сейчас, когда он попал в нее камнем, она крякнула и выскочила из кустов, и следом за ней выскочил мальчик и замер от неожиданности.
В нескольких шагах от него по тропе проходил человек и гнал перед собой навьюченных лошадей. Услышав треск кустов, человек дернулся и посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, с какой на него никогда никто не смотрел.
В первое мгновенье мальчику показалось, что ярость человека вызвана неожиданностью встречи, но и успев разглядеть, что перед ним только мальчик и козы, человек еще раз бросил на него взгляд, словно какую-то долю секунды раздумывал, что с ним делать: убить или оставить. Так и не решив, он пошел дальше и только дернул плечом, закидывая карабин, сползавший с покатого плеча.
Человек шел с необыкновенной быстротой, и мальчику почувствовалось, что он оставил его в живых, чтобы не терять скорость. В руках у человека не было ни палки, ни камчи, и мальчику показалось странным, что лошади без всякого понукания движутся с такой быстротой.
Через несколько секунд тропа вошла в рощу, и человек вместе со своими лошадьми исчез. Но в самое последнее мгновенье, еще шаг – и скроется за кустом, он опять вскинул карабин, сползавший с покатого плеча, и, оглянувшись, поймал мальчика глазами. Мальчику почудился отчетливый шепот в самое ухо:
– Скажешь – вернусь и убью…
Стадо уже было далеко внизу, и мальчик побежал по зеленому откосу, подгоняя козу. Он знал, что роща, в которую вошел человек со своими лошадьми, скоро кончится, и тропа их выведет на открытый склон по ту сторону котловины Сабида.
Когда он добежал до стада и посмотрел вверх, то увидел, как там, на зеленом склоне, одна за другой стали появляться навьюченные лошади. Восемь лошадей и человек, отчетливые на зеленом фоне травянистого склона, быстро прошли открытое пространство и исчезли в лесу. Даже сейчас, на расстоянии примерно километра, было заметно, что лошади и человек идут очень быстро. И тут мальчик догадался, что этому человеку и не надо никакой палки или камчи, что он из тех, кого лошади и безо всякого понукания боятся.
Перед тем как исчезнуть в лесу, человек снова оглянулся и, тряхнув покатым плечом, поправил сползающий карабин. Хотя лица его теперь нельзя было разглядеть, мальчик был уверен, что он оглянулся очень сердито.
Через день до Чегема дошли слухи, что какие-то люди ограбили пароход, шедший из Поти в Одессу. Грабители действовали точно и безжалостно. Мало того, что их возле Кенгурска ждал человек с заранее купленными лошадьми, они сумели склонить к участию в грабеже четырех матросов. Ночью они связали и заперли в капитанской каюте самого капитана, рулевого и нескольких матросов. Спустили шлюпки, на которые погрузили награбленное, и отплыли к берегу.
К вечеру следующего дня трупы четырех матросов нашли в болоте возле местечка Тамыш. Через день нашли еще два трупа, до полной неузнаваемости изъеденные шакалами. Было решено, что грабители поссорились между собой, и двое, оставшиеся в живых, увезли груз неизвестно куда или даже погибли в болотах. И все-таки еще через несколько дней, уже совсем недалеко от Чегема, нашли труп еще одного человека, убитого выстрелом в спину и сброшенного с обрывистой атарской дороги чуть ли не на головы жителям села Наа, упрямо расположившимся под этими обрывистыми склонами. Труп сохранился, и в нем признали человека, месяц назад покупавшего лошадей в селе Джгерды.
Чегемцы довольно спокойно отнеслись ко всей этой истории, потому что дела долинные – это чужие дела, тем более дела пароходные. И только мальчик с ужасом догадывался, что он видел того человека в котловине Сабида.
Дней через десять после той встречи к их дому подъехал всадник в абхазской бурке, но в казенной фуражке, издали показывающей, что он, как нужный человек, содержится властями.
Всадник, не спешиваясь, остановился возле плетня, поджидая, пока к нему подойдет отец мальчика. Потом, вытащив ногу из стремени и поставив ее на плетень, всадник разговаривал с отцом мальчика. Отгоняя собак, мальчик вертелся возле плетня, прислушиваясь к тому, что говорили взрослые.
– Не видел кто из ваших, – спросил всадник у отца, – чтобы кто-нибудь с навьюченными лошадьми проходил по верхнечегемской дороге?
– Про дело слыхал, – ответил отец, – а человека не видел.
– Да не по верхней, а по нижней! – чуть не крикнул мальчик, да вовремя прикусил язык.
Человек, продолжая разговаривать, нашел ногой стремя и поехал дальше.
– Кто это, па? – спросил мальчик у отца.
– Старшина, – ответил отец и молча вошел в дом.
И только глубокой осенью, когда они с отцом, нагрузив ослика мешками с каштанами, подымались из котловины Сабида, а потом присели отдохнуть на той самой нижнечегемской тропе, чуть ли не на том же месте, он не удержался и все рассказал отцу.
– Так вот почему ты перестал сюда коз гонять? – усмехнулся отец.
– Вот и неправда! – вспыхнул мальчик: отец попал в самую точку.
– Что ж ты молчал до сих пор? – спросил отец.
– Ты бы только видел, как он посмотрел, – сознался мальчик, – я все думаю, как бы он не вернулся…
– Теперь его сюда на веревке не затащишь, – сказал отец, вставая и погоняя ослика хворостиной, – но если бы ты сразу сказал, его еще можно было поймать.
– Откуда ты знаешь, па? – спросил мальчик, стараясь не отставать от отца. С тех пор как он встретился с этим человеком, он не любил эти места, не доверял им.
– Человек с навьюченными лошадьми дальше одного дня пути никуда не уйдет, – сказал отец и взмахнул хворостинкой: ослик то и дело норовил остановиться, подъем был крутой.
– А ты знаешь, как он быстро шел! – сказал мальчик.
– Но никак не быстрее своих лошадей, – возразил отец и, подумав, добавил: – Да он и убил этого последнего, потому что знал – один переход остался.
– Почему, па? – спросил мальчик, все еще стараясь не отстать от отца.
– Вернее, потому и оставил его в живых, – продолжал отец размышлять вслух, – чтобы тот помог ему навьючить лошадей для последнего перехода, а потом уже прихлопнул.
– Откуда ты знаешь это все? – спросил мальчик, уже не стараясь догнать отца, потому что они вышли на взгорье, откуда был виден их дом.
– Знаю я их гяурские обычаи, – сказал отец, – им лишь бы не работать, да я о них и думать не хочу.
– Я тоже не хочу, – сказал мальчик, – но почему-то все время вспоминаю про того.
– Это пройдет, – сказал отец.
И в самом деле это прошло и с годами настолько далеко отодвинулось, что дядя Сандро, иногда вспоминая, сомневался – случилось ли все это на самом деле или же ему, мальчишке, все это привиделось уже после того, как пошли разговоры об ограблении возле Кенгурска парохода.
Но тогда, после знаменитого на всю его жизнь банкета, который произошел в одну из августовских ночей 1935 года или годом раньше, но никак не позже, все то увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил бога за свою находчивость.
Об этой пиршественной ночи дядя Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после Двадцатого съезда и просто знакомым людям, добавляя к рассказу свои отроческие не то виденья, не то воспоминания.
– Как сейчас вижу, – говаривал дядя Сандро, – все соскальзывает с плеча его карабин, а он все его зашвыривает на ходу, все подтягивает не глядя. Очень уж у Того покатое плечо было…
При этом дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае не нижнечегемским путем.
И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды от не слишком благодарных потомков. Скорее всего по взгляду его можно было сказать, что он, жалея, что не сказал, не прочь получить награду.
Впрочем, эта некоторая двойственность его взгляда заключала в себе дозу демонической иронии, как бы отражающей неясность и колебания земных судей в его оценке.
Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на религиозную мысль, что бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью.