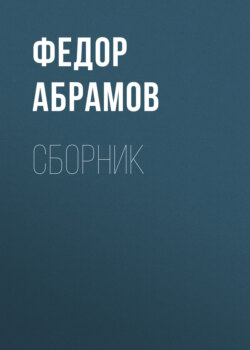Читать книгу Ф. А. Абрамов. Сборник - Федор Абрамов - Страница 36
Братья и сестры
Книга первая
Братья и сестры
Глава тридцать пятая
ОглавлениеЛукашин вышел из больницы пошатываясь. На крыльце сидела Настина мать, за одну ночь ставшая старухой.
Он сел рядом, неловко обнял ее за плечи.
– Ничего, ничего, – успокаивал он, а перед глазами его все еще стояла темная, с занавешенными окнами палата… Тяжелый запах лекарств, одинокая койка в углу, глухой стон…
Лукашин провел рукой по лицу, расстегнул душивший ворот гимнастерки.
На больничном дворе было тихо и безлюдно. Старые, узловатые сосны, зеленым забором окружавшие районную больницу, стояли немо и неподвижно, как часовые.
За соснами кипел разноголосый, прокаленный августовским солнцем трудовой день. С шумом и грохотом пронеслась грузовая машина, в полях трещали жатки, и там, далеко, кто-то охрипшим голосом кричал: «Да неси же, черт, воды!.. Пошевеливайся!..»
Лукашин, не находя слов, гладил судорожно вздрагивающие плечи старухи.
И вдруг он увидел молоденькую, ослепительно белую березку. Она стояла одна, посреди двора, далеко отбежав вперед от застарелых сосен, и, тоненькая, высокая, словно на цыпочках, тянулась навстречу ласковым лучам солнца.
Он прикрыл ладонью глаза. Нет, это невыносимо…
– Как и отцу-то написать!.. – всхлипнула мать. – С ума сойдет. Ведь она у нас самая желанная, самая расхорошая… Бывало, училась в районе… Сам придет с работы, на ногах едва держится… «Какой сегодня день? Суббота?» И пошел встречать свою Настеньку… Ох, беда, беда… Да что же вы молчите-то? – вдруг схватила она его за рукав. – Что с ней будет? Никто правды не говорит.
Что он мог ей сказать? В том, что Настя выживет, доктор не сомневался. А вот глаза?
В памяти мелькнуло далекое детство. Деревенская улица, босая старуха с холщовой сумой, батогом нащупывающая дорогу… Мать, пытаясь утихомирить его, пугает: «Вот я тебе, позову Екимовну… в сумку-то запихает…»
«Нет! Нет!» – с ужасом содрогнулся Лукашин.
Он вскочил на ноги и, грохоча сапогами по деревянному настилу, побежал к калитке…
Секретарь райкома встретил его упреком:
– Как же вы – не уберегли такую девушку?
– А на войне всех уберегают? – зло уставился Лукашин на Новожилова.
С шумом дыша, он прошел к столу, сел в кресло.
– Вот что, секретарь, – сказал он, не глядя на него. – За расчетом пришел. С меня хватит.
– Как это хватит?
Лукашин ощетинился:
– Хватит, говорю, с бабами по тылам околачиваться. Воевать надо!
– Так… – сухо заметил Новожилов. – У тебя, видно, пожар еще в голове шумит.
Лукашину показалось это намеком. Он разом побагровел:
– Ну знаешь… У меня не пожар, а совесть шумит! Не как у некоторых. Сидят – пороху не нюхали…
– Это кто же пороху не нюхал? – тихо, сдерживая себя, спросил Новожилов. – Договаривай.
Лукашин резко повернулся к нему.
– А думаешь, не договорю? – Он недобрым взглядом смерил тучную фигуру Новожилова.
Новожилов тяжело навалился на стол, задышал, как запаленная лошадь. Одутловатое лицо его посинело. Затем он резко поднялся на ноги и, не спуская с Лукашина темных разъяренных глаз, хрипло выкрикнул:
– Сукин сын! Жиру моему позавидовал? Да я с двадцатого пулю под сердцем ношу – ты об этом знаешь? Тыл… Да разве не видишь, как живем? Люди на износ работают. Насмерть! А кто? Те самые бабы да ребятишки, которых вы на фронте защищаете. Понял?
Лукашин протестующие поднял руку.
– Нет, ты погоди, послушай. Залезь хоть на минутку в мою шкуру. Приедешь в колхоз – дети голодные, бабы высохли от недоедания да от тяжести. А ты выгребаешь дочиста. Фронт требует. У ней ни черта ни и избе, ни на себе, а ты ей про военный заем… Давай, давай!.. Один раз вот агитирую так. А какая-то баба сбоку шепчет другой. Вишь, говорит, шейку наел. Наши мужики, говорит, кровь проливают, а этот всю войну языком воевать будет. Каково? А что ты сделаешь? Арестуешь? Оправдываться станешь: не зря, мол, хлеб ем! Да я перед этой бабой, если хочешь знать, на колени готов стать. Я бы ей при жизни памятник поставил. Ну-ка! Сколько человек в Пекашине на войну взято? Человек шестьдесят. А поля засеяны? Сеноуборка к концу? Да ведь это понимаешь что? Ну как, если бы бабы заново шестьдесят мужиков родили… Ты вот на фронте оборону строил, а мы тут знаешь что делали? Людей ковали! Да, да! Председателей колхозов нет, бригадиров нет. А районом управлять надо? Понимаешь – все заново! Я иной раз задумаюсь, как это наша баба из пристяжной коренником стала? Помнишь, у Ленина: каждая хозяйка должна управлять государством…
– Кухарка, – поправил Лукашин.
– Ну кухарка. Так в этом все дело. Слова-то эти я запомнил давно, а вот понял их как следует только теперь. Бывало, как под начало бабе попадешь, нос воротишь. А представляешь, что бы сейчас было, если бы мы эту самую бабу двадцать лет в коренники не готовили? Вот чего, между прочим, не взял в расчет этот полоумный Гитлер.
Наступило молчание.
Новожилов тяжело, с высвистом дыша, вытирал платком градом выступивший на лбу пот. Лукашин сидел не двигаясь, упрямо стиснув зубы. Ни тот, ни другой не мог заговорить первым.
Звонок телефона все поставил на свое место. К Новожилову тотчас вернулась обычная уверенность, и, берясь за трубку, он сказал Лукашину уже твердо и по-хозяйски:
– Ну вот что. Погорячились – и хватит. А теперь иди, занимайся своим делом. И, пожалуйста, впредь не козыряй своим патриотизмом.
…Он смутно помнил, как вышел из райкома, шагал по лесной дороге… Оглянулся – кругом толстые, незнакомые сосны. Где он, куда забрел? Нет, возвращаться не стоит. Должна же куда-то вывести эта глухая, затравеневшая тропинка. Вскоре впереди замелькали просветы, потянуло свежестью. Он вышел на вырубку, ощетинившуюся молодым сосняком.
Возле штабеля старого леса он сел и снова задумался.
Да, пора во всем разобраться. Так больше нельзя. И эта неврастеническая выходка в райкоме, и эти постоянные укоры совести – будто ты виноват перед всеми бабами, перед детишками. И откуда это? Почему? Разве он бездельничает? Ношу не по себе несет? Да, да, в этом все дело. Слишком уж легко ему живется… – Признайся честно, сколько раз ты был голоден за последние недели? Ни разу. Тебя щадят, за тобой ухаживают. В одном колхозе – хлеб, в другом масло, в райцентр приедешь – чай, сахар. А эти бабы, которых ты агитируешь? Многие ли из них хоть раз наелись досыта за все лето? А дети? У кого из них побывал кусок сахару во рту? Нет, коммунист тот, кто может сказать: я умирал столько, сколько и вы, и даже больше; мое брюхо кричало от голода так же, как ваше; вы ходили босые, оборванные – и я. Всю чашу горя и страданий испил я с вами – во всем и до конца!
И сейчас ему с особой горечью припомнилось все то, что было накануне. Как? В те самые минуты, когда обгорелая девушка в бреду, беспамятстве боролась со смертью, когда мать ее захлебывалась слезами, он… Сукин сын! Он всю ночь грезил Анфисой, своей любовью. А утром, как мальчишка, бежал на свидание. Нет, тысячу раз была права Анфиса, встретив его холодным, негодующим взглядом. Пора кончать с этим. И не прав, черт побери, Новожилов: его место на фронте!