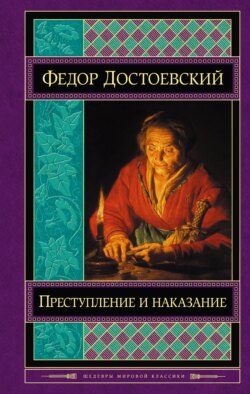Читать книгу Преступление и наказание - Федор Достоевский, Fyodor Dostoevsky, Tolstoi León - Страница 7
Часть первая
VI
ОглавлениеВпоследствии Раскольникову случилось как-то узнать, зачем именно мещанин и баба приглашали к себе Лизавету. Дело было самое обыкновенное и не заключало в себе ничего такого особенного. Приезжее и забедневшее семейство продавало вещи, платье и проч., всё женское. Так как на рынке продавать невыгодно, то и искали торговку, а Лизавета этим занималась: брала комиссии, ходила по делам и имела большую практику, потому что была очень честна и всегда говорила крайнюю цену: какую цену скажет, так тому и быть. Говорила же вообще мало, и как уже сказано, была такая смиренная и пугливая…
Но Раскольников в последнее время стал суеверен. Следы суеверия оставались в нем еще долго спустя, почти неизгладимо. И во всём этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений. Еще зимой один знакомый ему студент, Покорев, уезжая в Харьков, сообщил ему как-то в разговоре адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что заложить. Долго он не ходил к ней, потому что уроки были и как-нибудь да пробивался. Месяца полтора назад он вспомнил про адрес; у него были две вещи, годные к закладу: старые отцовские серебряные часы и маленькое золотое колечко с тремя какими-то красными камешками, подаренное ему при прощании сестрой, на память. Он решил отнести колечко; разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение, взял у нее два «билетика» и по дороге зашел в один плохонький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень, очень занимала его.
Почти рядом с ним на другом столике сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на биллиарде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным: он сейчас оттуда, а тут как раз про нее же. Конечно, случайность, но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления, а тут как раз ему как будто кто-то подслуживается: студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне разные подробности.
– Славная она, – говорил он, – у ней всегда можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная…
И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц и т. д. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту…
– Вот ведь тоже феномен! – вскричал студент и захохотал.
Они стали говорить о Лизавете. Студент рассказывал о ней с каким-то особенным удовольствием и всё смеялся, а офицер с большим интересом слушал и просил студента прислать ему эту Лизавету для починки белья. Раскольников не проронил ни одного слова и зараз всё узнал: Лизавета была младшая, сводная (от разных матерей) сестра старухи, и было ей уже тридцать пять лет. Она работала на сестру день и ночь, была в доме вместо кухарки и прачки и, кроме того, шила на продажу, даже полы мыть нанималась, и всё сестре отдавала. Никакого заказу и никакой работы не смела взять на себя без позволения старухи. Старуха же уже сделала свое завещание, что известно было самой Лизавете, которой по завещанию не доставалось ни гроша, кроме движимости, стульев и прочего; деньги же все назначались в один монастырь в Н-й губернии, на вечный помин души. Была же Лизавета мещанка, а не чиновница, девица, и собой ужасно нескладная, росту замечательно высокого, с длинными, как будто вывернутыми ножищами, всегда в стоптанных козловых башмаках, и держала себя чистоплотно. Главное же, чему удивлялся и смеялся студент, было то, что Лизавета поминутно была беременна…
– Да ведь ты говоришь, она урод? – заметил офицер.
– Да, смуглая такая, точно солдат переряженный, но знаешь, совсем не урод. У нее такое доброе лицо и глаза. Очень даже. Доказательство – многим нравится. Тихая такая, кроткая, безответная, согласная, на всё согласная. А улыбка у ней даже очень хороша.
– Да ведь она и тебе нравится? – засмеялся офицер.
– Из странности. Нет, вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору совести, – с жаром прибавил студент.
Офицер опять захохотал, а Раскольников вздрогнул. Как это было странно!
– Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу, – загорячился студент. – Я сейчас, конечно, пошутил, но смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь?
– Ну, понимаю, – отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища.
– Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, – и всё это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает: она намедни Лизавете палец со зла укусила; чуть-чуть не отрезали!
– Конечно, она недостойна жить, – заметил офицер, – но ведь тут природа.
– Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Говорят: «долг, совесть», – я ничего не хочу говорить против долга и совести, – но ведь как мы их понимаем? Стой, я тебе еще задам один вопрос. Слушай!
– Нет, ты стой; я тебе задам вопрос. Слушай!
– Ну!
– Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты сам старуху или нет?
– Разумеется, нет! Я для справедливости… Не во мне тут и дело…
– А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости! Пойдем еще партию!
Раскольников был в чрезвычайном волнении. Конечно, всё это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им, в других только формах и на другие темы, молодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговор и такие мысли, когда в собственной голове его только что зародились… такие же точно мысли? И почему именно сейчас, как только он вынес зародыш своей мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о старухе?.. Странным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный, трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание…
Возвратясь с Сенной, он бросился на диван и целый час просидел без движения. Между тем стемнело; свечи у него не было, да и в голову не приходило ему зажигать. Он никогда не мог припомнить: думал ли он о чем-нибудь в то время? Наконец он почувствовал давешнюю лихорадку, озноб, и с наслаждением догадался, что на диване можно и лечь. Скоро крепкий, свинцовый сон налег на него, как будто придавил.
Он спал необыкновенно долго и без снов. Настасья, вошедшая к нему в десять часов, на другое утро, насилу дотолкалась его. Она принесла ему чаю и хлеба. Чай был опять спитой, и опять в ее собственном чайнике.
– Эк ведь спит! – вскричала она с негодованием, – и всё-то он спит!
Он приподнялся с усилием. Голова его болела; он встал было на ноги, повернулся в своей каморке и упал опять на диван.
– Опять спать! – вскричала Настасья, – да ты болен, что ль?
Он ничего не отвечал.
– Чаю-то хошь?
– После, – проговорил он с усилием, смыкая опять глаза и оборачиваясь к стене. Настасья постояла над ним.
– И впрямь, может, болен, – сказала она, повернулась и ушла.
Она вошла опять в два часа, с супом. Он лежал как давеча. Чай стоял нетронутый. Настасья даже обиделась и с злостью стала толкать его.
– Чего дрыхнешь! – вскричала она, с отвращением смотря на него. Он приподнялся и сел, но ничего не сказал ей и глядел в землю.
– Болен аль нет? – спросила Настасья, и опять не получила ответа.
– Ты хошь бы на улицу вышел, – сказала она, помолчав, – тебя хошь бы ветром обдуло. Есть-то будешь, что ль?
– После, – слабо проговорил он, – ступай! – и махнул рукой.
Она постояла еще немного, с состраданием посмотрела на него и вышла.
Через несколько минут он поднял глаза и долго смотрел на чай и на суп. Потом взял хлеб, взял ложку и стал есть.
Он съел немного, без аппетита, ложки три-четыре, как бы машинально. Голова болела меньше. Пообедав, протянулся он опять на диван, но заснуть уже не мог, а лежал без движения, ничком, уткнув лицо в подушку. Ему всё грезилось, и всё странные такие были грезы: всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верблюды; кругом пальмы растут целым кругом; все обедают. Он же всё пьет воду, прямо из ручья, который тут же, у бока, течет и журчит. И прохладно так, и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку… Вдруг он ясно услышал, что бьют часы. Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно, сообразил время и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с дивана. На цыпочках подошел он к двери, приотворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. Сердце его страшно билось. Но на лестнице было всё тихо, точно все спали… Дико и чудно показалось ему, что он мог проспать в таком забытьи со вчерашнего дня и ничего еще не сделал, ничего не приготовил… А меж тем, может, и шесть часов било… И необыкновенная лихорадочная и какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг, вместо сна и отупения. Приготовлений, впрочем, было немного. Он напрягал все усилия, чтобы всё сообразить и ничего не забыть; а сердце всё билось, стукало так, что ему дышать стало тяжело. Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить – дело минуты. Он полез под подушку и отыскал в напиханном под нее белье одну, совершенно развалившуюся, старую, немытую свою рубашку. Из лохмотьев ее он выдрал тесьму, в вершок шириной и вершков в восемь длиной. Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто (единственное его верхнее платье) и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Руки его тряслись пришивая, но он одолел и так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто. Иголка и нитки были у него уже давно приготовлены и лежали в столике, в бумажке. Что же касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка: петля назначалась для топора. Нельзя же было по улице нести топор в руках. А если под пальто спрятать, то все-таки надо было рукой придерживать, что было бы приметно. Теперь же, с петлей, стоит только вложить в нее лезвие топора, и он будет висеть спокойно, под мышкой изнутри, всю дорогу. Запустив же руку в боковой карман пальто, он мог и конец топорной ручки придерживать, чтоб она не болталась; а так как пальто было очень широкое, настоящий мешок, то и не могло быть приметно снаружи, что он что-то рукой, через карман, придерживает. Эту петлю он тоже уже две недели назад придумал.
Покончив с этим, он просунул пальцы в маленькую щель, между его «турецким» диваном и полом, пошарил около левого угла и вытащил давно уже приготовленный и спрятанный там заклад. Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто деревянная, гладко обструганная дощечка, величиной и толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница. Эту дощечку он случайно нашел, в одну из своих прогулок, на одном дворе, где, во флигеле, помещалась какая-то мастерская. Потом уже он прибавил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску, – вероятно, от чего-нибудь отломок, – которую тоже нашел на улице тогда же. Сложив обе дощечки, из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко, крест-накрест, ниткой; потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую белую бумагу и обвязал тоненькою тесемочкой, тоже накрест, а узелок приладил так, чтобы помудренее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком, и улучить таким образом минуту. Железная же пластинка прибавлена была для весу, чтобы старуха хоть в первую минуту не догадалась, что «вещь» деревянная. Всё это хранилось у него до времени под диваном. Только что он достал заклад, как вдруг где-то на дворе раздался чей-то крик:
– Семой час давно!
– Давно! Боже мой!
Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз свои тринадцать ступеней, осторожно, неслышно, как кошка. Предстояло самое важное дело – украсть из кухни топор. О том, что дело надо сделать топором, решено им было уже давно. У него был еще складной садовый ножик; но на нож, и особенно на свои силы, он не надеялся, а потому и остановился на топоре окончательно. Заметим кстати одну особенность по поводу всех окончательных решений, уже принятых им в этом деле. Они имели одно странное свойство: чем окончательнее они становились, тем безобразнее, нелепее, тотчас же становились и в его глазах. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда, ни на одно мгновение не мог уверовать в исполнимость своих замыслов, во всё это время.
И если бы даже случилось когда-нибудь так, что уже всё до последней точки было бы им разобрано и решено окончательно и сомнений не оставалось бы уже более никаких, – то тут-то бы, кажется, он и отказался от всего, как от нелепости, чудовищности и невозможности. Но неразрешенных пунктов и сомнений оставалась еще целая бездна. Что же касается до того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила, потому что не было ничего легче. Дело в том, что Настасьи, и особенно по вечерам, поминутно не бывало дома: или убежит к соседям, или в лавочку, а дверь всегда оставляет настежь. Хозяйка только из-за этого с ней и ссорилась. Итак, стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом, чрез час (когда всё уже кончится), войти и положить обратно. Но представлялись и сомнения; он, положим, придет через час, чтобы положить обратно, а Настасья тут как тут, воротилась. Конечно, надо пройти мимо и выждать, пока она опять выйдет. А ну как тем временем хватится топора, искать начнет, раскричится, – вот и подозрение или, по крайней мере, случай к подозрению.
Но это еще были мелочи, о которых он и думать не начинал, да и некогда было. Он думал о главном, а мелочи отлагал до тех пор, когда сам во всем убедится. Но последнее казалось решительно неосуществимым. Так, по крайней мере, казалось ему самому. Никак он не мог, например, вообразить себе, что когда-нибудь он кончит думать, встанет и – просто пойдет туда… Даже недавнюю пробу свою (то есть визит с намерением окончательно осмотреть место) он только пробовал было сделать, но далеко не взаправду, а так: «дай-ка, дескать, пойду и опробую, что мечтать-то!» – и тотчас не выдержал, плюнул и убежал, в остервенении на самого себя. А между тем, казалось бы, весь анализ, в смысле нравственного разрешения вопроса, был уже им покончен: казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений. Но в последнем случае он просто не верил себе и упрямо, рабски, искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и всё разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать.
Сначала – впрочем, давно уже прежде – его занимал один вопрос: почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления и так явно обозначаются следы почти всех преступников? Он пришел мало-помалу к многообразным и любопытным заключениям, и, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступление, как в самом преступнике: сам же преступник, и почти всякий, в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность. По убеждению его, выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления; продолжаются в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму; затем проходят так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же: болезнь ли порождает самое преступление или само преступление, как-нибудь по особенной натуре своей, всегда сопровождается чем-то вроде болезни? – он еще не чувствовал себя в силах разрешить.
Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем, неотъемлемо, во всё время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им – «не преступление»… Опускаем весь тот процесс, посредством которого он дошел до последнего решения; мы и без того слишком забежали вперед… Прибавим только, что фактические, чисто материальные затруднения дела вообще играли в уме его самую второстепенную роль. «Стоит только сохранить над ними всю волю и весь рассудок, и они, в свое время, все будут побеждены, когда придется познакомиться до малейшей тонкости со всеми подробностями дела…» Но дело не начиналось. Окончательным своим решениям он продолжал всего менее верить, и когда пробил час, всё вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно.
Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик, еще прежде чем он сошел с лестницы. Поровнявшись с хозяйкиною кухней, как и всегда отворенною настежь, он осторожно покосился в нее глазами, чтоб оглядеть предварительно: нет ли там, в отсутствие Настасьи, самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в ее комнате, чтоб она тоже как-нибудь оттуда не выглянула, когда он за топором войдет? Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидал, что Настасья не только на этот раз дома, у себя в кухне, но еще занимается делом: вынимает из корзины белье и развешивает на веревках! Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и всё время смотрела на него, пока он проходил. Он отвел глаза и прошел, как будто ничего не замечая. Но дело было кончено: нет топора! Он был поражен ужасно.
«И с чего взял я, – думал он, сходя под ворота, – с чего взял я, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему, почему, почему я так наверно это решил?» Он был раздавлен, даже как-то унижен. Ему хотелось смеяться над собою со злости… Тупая, зверская злоба закипела в нем.
Он остановился в раздумье под воротами. Идти на улицу, так, для виду, гулять, ему было противно; воротиться домой – еще противнее. «И какой случай навсегда потерял!» – пробормотал он, бесцельно стоя под воротами, прямо против темной каморки дворника, тоже отворенной. Вдруг он вздрогнул. Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза… Он осмотрелся кругом – никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабым голосом окликнул дворника. «Так и есть, нет дома! Где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта настежь». Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами; тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой; никто не заметил! «Не рассудок, так бес!» – подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно.
Он шел дорогой тихо и степенно, не торопясь, чтобы не подать каких подозрений. Мало глядел он на прохожих, даже старался совсем не глядеть на лица и быть как можно неприметнее. Тут вспомнилась ему его шляпа. «Боже мой! И деньги были третьего дня, и не мог переменить на фуражку!» Проклятие вырвалось из души его.
Заглянув случайно, одним глазом, в лавочку, он увидел, что там, на стенных часах, уже десять минут восьмого. Надо было и торопиться, и в то же время сделать крюк: подойти к дому в обход, с другой стороны…
Прежде, когда случалось ему представлять всё это в воображении, он иногда думал, что очень будет бояться. Но он не очень теперь боялся, даже не боялся совсем. Занимали его в это мгновение даже какие-то посторонние мысли, только всё ненадолго. Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслию об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на всё Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь. Тут заинтересовало его вдруг: почему именно, во всех больших городах, человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно наклонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь, и всякая гадость. Тут ему вспомнились его собственные прогулки по Сенной, и он на минуту очнулся. «Что за вздор, – подумал он. – Нет, лучше совсем ничего не думать!»
«Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге», – мелькнуло у него в голове, но только мелькнуло как молния; он сам поскорей погасил эту мысль… Но вот уже и близко, вот и дом, вот и ворота. Где-то вдруг часы пробили один удар. «Что это, неужели половина восьмого? Быть не может, верно, бегут!»
На счастье его, в воротах опять прошло благополучно. Мало того, даже, как нарочно, в это самое мгновение только что перед ним въехал в ворота огромный воз сена, совершенно заслонявший его всё время, как он проходил подворотню, и чуть только воз успел выехать из ворот во двор, он мигом проскользнул направо. Там, по ту сторону воза, слышно было, кричали и спорили несколько голосов, но его никто не заметил и навстречу никто не попался. Много окон, выходивших на этот огромный квадратный двор, было отперто в эту минуту, но он не поднял головы – силы не было. Лестница к старухе была близко, сейчас из ворот направо. Он уже был на лестнице…
Переведя дух и прижав рукой стукавшее сердце, тут же нащупав и оправив еще раз топор, он стал осторожно и тихо подниматься на лестницу, поминутно прислушиваясь. Но и лестница на ту пору стояла совсем пустая; все двери были заперты; никого-то не встретилось. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настежь, и в ней работали маляры, но те и не поглядели. Он постоял, подумал и пошел дальше. «Конечно, было бы лучше, если б их здесь совсем не было, но… над ними еще два этажа».
Но вот и четвертый этаж, вот и дверь, вот и квартира напротив; та, пустая. В третьем этаже, по всем приметам, квартира, что прямо под старухиной, тоже пустая: визитный билет, прибитый к дверям гвоздочками, снят – выехали!.. Он задыхался. На одно мгновение пронеслась в уме его мысль: «Не уйти ли?» Но он не дал себе ответа и стал прислушиваться в старухину квартиру: мертвая тишина. Потом еще раз прислушался вниз на лестницу, слушал долго, внимательно… Затем огляделся в последний раз, подобрался, оправился и еще раз попробовал в петле топор. «Не бледен ли я… очень? – думалось ему, – пев особенном ли я волнении? Она недоверчива… Не подождать ли еще… пока сердце перестанет?..»
Но сердце не переставало. Напротив, как нарочно, стучало сильней, сильней, сильней… Он не выдержал, медленно протянул руку к колокольчику и позвонил. Через полминуты еще раз позвонил, погромче.
Нет ответа. Звонить зря было нечего, да ему и не к фигуре. Старуха, разумеется, была дома, но она подозрительна и одна. Он отчасти знал ее привычки… и еще раз плотно приложил ухо к двери. Чувства ли его были так изощрены (что вообще трудно предположить), или действительно было очень слышно, но вдруг он различил как бы осторожный шорох рукой у замочной ручки и как бы шелест платья о самую дверь. Кто-то неприметно стоял у самого замка и точно так же, как он здесь, снаружи, прислушивался, притаясь изнутри и, кажется, тоже приложа ухо к двери…
Он нарочно пошевелился и что-то погромче пробормотал, чтоб и виду не подать, что прячется; потом позвонил в третий раз, но тихо, солидно и без всякого нетерпения. Вспоминая об этом после, ярко, ясно, – эта минута отчеканилась в нем навеки, – он понять не мог, откуда он взял столько хитрости, тем более что ум его как бы померкал мгновениями, а тела своего он почти и не чувствовал на себе… Мгновение спустя послышалось, что снимают запор.