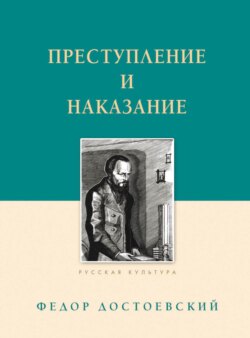Читать книгу Преступление и наказание - Федор Достоевский, Fyodor Dostoevsky, Tolstoi León - Страница 4
Часть первая
I
ОглавлениеВ начале июля[34], в чрезвычайно жаркое время[35], под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов[36] в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту[37].
Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.
Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий взор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, – нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.
Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.
«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он с странною улыбкой. – Гм… да… всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости… это уж аксиома… Любопытно, чего люди больше боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся… А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая… о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»
На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу[38], – всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество[39], и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел.
Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной[40], обилие известных заведений[41] и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться… А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!»[42] – и заорал во всё горло, указывая на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская[43], но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. – Я так и знал! – бормотал он в смущении, – я так и думал!
Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, слишком приметная шляпа… Смешная, потому и приметная…
К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят… главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее… Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и всё…
Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать[44]. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, «безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее.
С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к пре-огромнейшему дому, выходившему одною стеной на канаву[45], а другою в – ю улицу[46]. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками[47] – портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, «черная»[48], но он всё уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?..» – подумал он невольно, проходя в четвертый этаж[49]. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики[50], выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник. «Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо… на всякой случай…» – подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди[51]. В подобных мелких квартирах таких домов почти всё такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил… Он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость.
– Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, – поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее[52].
– Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, – отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.
– Так вот-с… и опять, по такому же дельцу… – продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи.
«Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил», – подумал он с неприятным чувством.
Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед:
– Пройдите, батюшка.
Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем[53]. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» – как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он всё в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трех грошовых картинок в желтых[54] рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках, – вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Всё было очень чисто: и мебель, и полы были оттерты под лоск; всё блестело. «Лизаветина работа», – подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. «Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», – продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую, крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат.
– Что угодно? – строго произнесла старушонка, входя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо.
– Заклад принес, вот-с! – И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная.
– Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул.
– Я вам проценты еще за месяц внесу; потерпите.
– А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать.
– Много ль за часы-то, Алена Ивановна?
– А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно[55].
– Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу.
– Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с.
– Полтора рубля! – вскрикнул молодой человек.
– Ваша воля. – И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он еще и за другим пришел.
– Давайте! – сказал он грубо.
Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть, верхний ящик, – соображал он. – Ключи она, стало быть, в правом кармане носит… Все на одной связке, в стальном кольце… И там один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатою бородкой, конечно, не от комода… Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка, али укладка… Вот это любопытно. У укладок всё такие ключи… А впрочем, как это подло всё…»
Старуха воротилась.
– Вот-с, батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтется с вас пятнадцать копеек, за месяц вперед-с. Да за два прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед двадцать копеек. А всего, стало быть тридцать пять. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек. Вот получите-с.
– Как! так уж теперь рубль пятнадцать копеек!
– Точно так-с.
Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно…
– Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях, еще одну вещь принесу… серебряную… хорошую… папиросочницу одну… вот как от приятеля ворочу… – Он смутился и замолчал.
– Ну тогда и будем говорить, батюшка.
– Прощайте-с… А вы всё дома одни сидите, сестрицы-то нет? – спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю.
– А вам какое до нее, батюшка, дело?
– Да ничего особенного. Я так спросил. Уж вы сейчас… Прощайте, Алена Ивановна!
Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это всё более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул:
«О Боже! как это всё отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц…»
Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей, как раз в эту минуту, выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу, за липким столиком, спросил пива и с жадностию выпил первый стакан. Тотчас же всё отлегло, и мысли его прояснели. «Всё это вздор, – сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, – и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое всё это ничтожество!..» Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная.
В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кроме тех двух пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышла еще разом целая ватага, человек в пять, с одною девкой и с гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались: один хмельной, но немного, сидевший за пивом, с виду мещанин; товарищ его, толстый, огромный, в сибирке и с седою бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке и изредка, вдруг, как бы спросонья, начинавший прищелкивать пальцами, расставив руки врозь, и подпрыгивать верхнею частию корпуса, не вставая с лавки, причем подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи, вроде:
Целый год жену ласкал,
Цел-лый год же-ну лас-кал…
Или вдруг, проснувшись, опять:
По Подьяческой пошел,
Свою прежнюю нашел…[56]
Но никто не разделял его счастия; молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы даже враждебно и с недоверчивостью.
Был тут и еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо, перед своею посудинкой, изредка отпивая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.
34
В начале июля… – Тихомиров (55), цитируя слова Мармеладова («шесть дней назад я первое жалованье мое <…> сполна принес»), пишет (без ссылки на источник сведений): «Поскольку узаконенным днем получения жалованья в казенных учреждениях на всей территории Российской империи было первое число месяца, слова Мармеладова дают возможность точно датировать начало действия в романе – 7 июля». Это справедливо лишь отчасти: по-видимому, в некоторых департаментах жалованье выдавалось именно по первым числам – так, чеховский Иванов говорит: «У меня сегодня ничего нет. Подождите до первого числа, когда жалованье получу» («Иванов», д. I, явл. 1). Но преобладающая часть чиновников получала жалованье по двадцатым числам текущего месяца; так, в «Воскресении» Л. Толстого сказано: «Это чиновники, озабоченные только 20-м числом. Он получает жалованье, ему нужно побольше, и этим и ограничиваются все его принципы» (часть II, гл. XI). Существовало даже выражение «люди двадцатого числа» (о чиновниках); ср. в романе К.М. Станюковича «Откровенные»: «Если б и нашелся “человек 20-го числа”, рискнувший на роль маркиза Позы, то такого Позу <…> уволили бы по третьему пункту» (часть I, гл. 2). Девятое число как день убийства назван в черновой редакции (ПСС. VII. 97); роман начинается за два дня до этого, то есть 7 июля.
35
…в чрезвычайно жаркое время… – вслед за Даниловым (249) последующие комментаторы связывают эту деталь с погодой лета (июня-июля) 1865 года; Данилов цитирует ПЛ № 91 (1865, 22 июня): «В городе в последнее время стоят страшные жары. Проходя по улицам, буквально задыхаешься от зноя. <…> Проход через улицы положительно невозможен – столько миазмов скопилось здесь». Но, продолжает Данилов (249), «невыносимая жара должна была содействовать обострению отрицательных впечатлений Раскольникова от окружающей жизни»; гораздо яснее об этом сказано у Кожинова (121): «“Чрезвычайно жаркое время” – это не просто метеорологическая примета: как таковая она была бы излишней в романе (не всё ли равно – летом или зимой совершается преступление?). Через весь роман пройдет атмосфера невыносимой жары, духоты, городской вони, сдавливающих героя, мутящих его сознание до обморока. Это не только атмосфера июльского города, но и атмосфера преступления…».
36
…нанимал от жильцов – т. е. снимал у тех жильцов, которые снимали у хозяина несколько комнат, пересдавая отдельные комнаты (иногда с обедом или с самоваром, т. е. утренним и вечерним чаем) другим – как правило, более бедным – постояльцам…
37
в С-м переулке, <…> к К-ну мосту – А.Г. Достоевская (а вслед за ней многие другие комментаторы) указывала, что имеются в виду Столярный переулок и Кокушкин мост (Гроссман, 56); иную точку зрения (несводимость зашифрованного топонима к одному конкретному названию) высказывают Кумпан и Конечный (184).
38
На улице жара стояла страшная… – Данилов (251–252) приводит текстуально близкий фрагмент из заметки в ПЛ (1865, № 196, 18 июля): «Жара невыносимая (сорок градусов на солнце), духота, зловоние из Фонтанки, каналов и ночных ящиков, оглушительная трескотня экипажей, пыль не столбом, а целым облаком над всем Петербургом от неполиваемой мостовой; известковая пыль от чистки штукатурки наружных стен домов днем, от разгрузки и развозки извести с каналов и Фонтанки ночью; серая от толстого слоя пыли зелень скверов и садов и т. д. – вот что представляет из себя Северная Пальмира уже более двух недель».
39
…вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество… – Данилов (252) приводит «Отрадную петербургскую статистическую заметку» из ПЛ (18 марта 1865, № 40): «В Столярном переулке находится 16 домов (по 8 с каждой стороны). В этих 16 домах помещается 18 питейных заведений, так что желающие насладиться подкрепляющей и увеселяющей влагой, придя в Столярный переулок, не имеют даже никакой необходимости смотреть на вывески: входи себе в любой дом, даже на любое крыльцо – везде найдешь вино». Газета «Весть» (1866, № 6. 20 января) перепечатывает из «Биржевых ведомостей» выразительную статистику: на 1 июля в городе было 3519 заведений, торгующих алкоголем; после ряда расчетов оказывается, что «на 80 взрослых жителей мужского пола приходится по одному питейному заведению».
40
Близость Сенной… – Сенная площадь в Петербурге (между Екатерининским каналом и Фонтанкой); Данилов (251) цитирует фельетон ПЛ (1865, № 1, 3 января): «Сенная удобопроходима только для потерявших обоняние. Среди белого дня провозят по улицам нечистоты из помойных ям… <…> Все эти бараки с преющими рогожами, с гниющей парусиной, грязными проходцами между балаганов, наваленными разными испортившимися продуктами, давно пора уничтожить, и еще есть господа, удивляющиеся появлению сибирской язвы? Жалок бывает иногда при дурной погоде петербургский дачник, но во сколько раз несчастнее его петербуржец, поставленный в необходимость провести лето в городе, где со всех сторон его охватывает пыль, духота, зловоние». Ср. Тихомиров (61): «В общей картине Петербурга Достоевского Сенная – концентрированное выражение всех пороков современной городской цивилизации, символ предельного унижения и уничтожения человеческой личности».
41
…обилие известных заведений… – имеются в виду публичные дома.
42
«Эй ты, немецкий шляпник!» – Р.Г. Назиров («Творческие принципы Ф.М. Достоевского». Саратов. 1982. С. 104) пишет: «На всем протяжении действия Раскольников окружен океаном народного морального сознания. Не только Соня, но и множество случайных голосов из уличной толпы опровергают его “идею” и мощно влияют на его судьбу. Уличная толпа играет исключительную роль: она дана в действии, участвует в развитии сюжета, порою напоминая хор античной трагедии, сочувствуя герою, осуждая его, комментируя его поступки <…>». Слово «немецкий» подчеркивает оторванность Раскольникова от народной почвы; в следующем романе явно нерусский наряд героя («башмаки со штиблетами» Мышкина напоминают наряд жителей альпийских деревень) дается по контрасту с его русским мироощущением.
43
…циммермановская… – Циммерман Карл Фридрих (1832–?) – владелец шляпной мастерской и магазина в Петербурге (Невский просп., 24; дом Петропавловской церкви).
44
…он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. – «Каморка, где жил Раскольников, ее местоположение, лестница, 13 ступенек, которые вели в каморку, кухня, мимо которой проходил Раскольников, дворницкая, где он нашел топор, – всё сходилось очень точно. Мы с Андреем Федоровичем <Достоевским, внуком писателя. – Л.С.> несколько раз ходили по этому дому, проделали скрупулезно описанный Достоевским путь Раскольникова от его каморки до дома, где жила старуха-процентщица, просчитали те самые 730 шагов, которые указаны Достоевским, – всё как нельзя более соответствовало роману». – Д. Гранин. Дом на углу. – Литературная газета. 1969. № 1. 1 января.
45
Канава – Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова).
46
…в – ю улицу. – Екатерингофская (ныне проспект Римского-Корсакова) улица (ПСС. VII. 363); Белов (50) называет Садовую или Гороховую. По мнению Тихомирова (с. 65), имеется в виду Средняя Подьяческая улица. «Дом старухи мог находиться на Подьяческих, Мещанских, Офицерской, Садовой и Гороховой», – пишут Кумпан и Конечный (184).
47
…заселен был всякими промышленниками. – Как указывает Белов (50), слово «промышленник» у Достоевского означает не владельца промышленного предприятия, а образовано от глагола «промышлять», т. е. добывать средства существования, часто мошенничеством.
48
Лестница была темная и узкая, «черная»… – В домах была парадная лестница (она вела в переднюю) и черная – для прислуги и разного рода поставщиков; как правило, она приводила в кухню.
49
…в четвертый этаж. – Число «4» часто встречается в ПН: кроме старухи, на четвертом этаже живут Мармеладовы, на таком же этаже находится полицейская контора; на дворе, где герой прячет взятые у старухи вещи, строится четырехэтажный дом, Раскольников четыре дня пребывает в горячке, Лазарь в евангельском рассказе (Евангелие от Иоанна – четвертое в Новом Завете) мертв четыре дня. См. подробнее Белов (51–52).
50
…отставные солдаты-носильщики… – Отставной солдат – закончивший службу (25 лет) или отставленный по ранению или болезни (см. элегию А.А. Дельвига «Отставной солдат»).
51
Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. – До изобретения электрического звонка в квартире с внутренней стороны двери висел медный (латунный, бронзовый) колокольчик, соединенный с веревкой, протянутой перед внешней стороной двери. Дергая за веревку, посетитель заставлял колокольчик звенеть.
52
Раскольников – Фамилию героя исследователи связывают с расколом (Миколка – «тоже из раскольников»), при этом Д. говорил и о «высшем» расколе после реформ Петра I – между простым народом и образованным сословием. См. подробнее Альтман (40–47).
53
«Косые лучи заходящего солнца» – «знак рокового часа, когда совершаются или замышляются решающие действия» – Топоров, 201. Тихомиров (69–70) обращает внимание на соотнесенность начала и конца романа: «Для символической структуры “Преступления и наказания” в целом показательно контрастное соотнесение мотива заходящего солнца в завязке романного действия («В начале июля <…> под вечер…» – с. 5) с картиной облитой утренним солнцем необозримой степи в финале».
54
…в желтых рамках… – О значении слов «желтый» и «жёлчный» см. Кожинов (122–124). В ПН «желтизна – это не собственный цвет вещи, но знак ее порчи (пожелтелая кацавейка, желтый кусок сахара, желтая вода, желтые лица и т. п.)». – Тихомиров (68).
55
Билетик (кредитный билет) – один рубль.
56
По Подьяческой пошел… – Песня «Трактирщик», переделанная Достоевским; см. Борисова В.В. Об одном фольклорном источнике в романах Достоевского. – МиИ=13. 1996. С. 65–73.