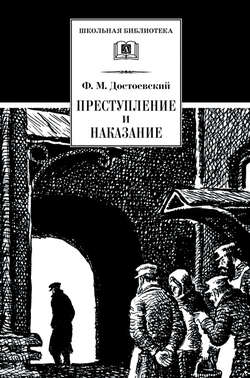Читать книгу Преступление и наказание - Федор Достоевский, Fyodor Dostoevsky, Tolstoi León - Страница 4
Часть вторая
ОглавлениеI
Так пролежал он очень долго. Случалось, что он как будто и просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. Наконец он заметил, что уже светло по-дневному. Он лежал на диване навзничь, еще остолбенелый от недавнего забытья. До него резко доносились страшные, отчаянные вопли с улицы, которые, впрочем, он каждую ночь выслушивал под своим окном, в третьем часу. Они-то и разбудили его теперь. «А! вот уж и из распивочных пьяные выходят, – подумал он, – третий час, – и вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана. – Как! Третий уже час!» Он сел на диване, – и тут все припомнил! Вдруг, в один миг все припомнил!
В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Страшный холод обхватил его; но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне. Теперь же вдруг ударил такой озноб, что чуть зубы не выпрыгнули и все в нем так и заходило. Он отворил дверь и начал слушать: в доме все совершенно спало. С изумлением оглядывал он себя и все кругом в комнате и не понимал: как это он мог вчера, войдя, не запереть дверей на крючок и броситься на диван, не только не раздевшись, но даже в шляпе: она скатилась и тут же лежала на полу, близ подушки. «Если бы кто зашел, что бы он подумал? Что я пьян, но…» Он бросился к окошку. Свету было довольно, и он поскорей стал себя оглядывать, всего, с ног до головы, все свое платье: нет ли следов? Но так нельзя было: дрожа от озноба, стал он снимать с себя все и опять осматривать кругом. Он перевертел все, до последней нитки и лоскутка, и, не доверяя себе, повторил осмотр раза три. Но не было ничего, кажется, никаких следов; только на том месте, где панталоны внизу осеклись и висели бахромой, на бахроме этой оставались густые следы запекшейся крови. Он схватил складной большой ножик и обрезал бахрому. Больше, кажется, ничего не было. Вдруг он вспомнил, что кошелек и вещи, которые он вытащил у старухи из сундука, все до сих пор у него по карманам лежат! Он и не подумал до сих пор их вынуть и спрятать! Не вспомнил о них даже теперь, как платье осматривал! Что ж это? Мигом бросился он их вынимать и выбрасывать на стол. Выбрав все, даже выворотив карманы, чтоб удостовериться, не остается ли еще чего, он всю эту кучу перенес в угол. Там, в самом углу, внизу, в одном месте были разодраны отставшие от стены обои: тотчас же он начал все запихивать в эту дыру, под бумагу: «вошло! все с глаз долой и кошелек тоже!» – радостно думал он, привстав и тупо смотря в угол, в оттопырившуюся еще больше дыру. Вдруг он весь вздрогнул от ужаса: «Боже мой, – шептал он в отчаянии, – что со мною? Разве это спрятано? Разве так прячут?»
Правда, он и не рассчитывал на вещи; он думал, что будут одни только деньги, а потому и не приготовил заранее места, – «но теперь-то, теперь чему я рад? – думал он. – Разве так прячут? Подлинно разум меня оставляет!» В изнеможении сел он на диван, и тотчас же нестерпимый озноб снова затряс его. Машинально потащил он лежавшее подле, на стуле, бывшее его студенческое зимнее пальто, теплое, но уже почти в лохмотьях, накрылся им, и сон, и бред опять разом охватили его. Он забылся.
Не более как минут через пять вскочил он снова и тотчас же, в исступлении, опять кинулся к своему платью. «Как это мог я опять заснуть, тогда как ничего не сделано! Так и есть, так и есть: петлю подмышкой до сих пор не снял! Забыл, об таком деле забыл! Такая улика!» Он сдернул петлю и поскорей стал разрывать ее в куски, запихивая их под подушку в белье. «Куски рваной холстины ни в каком случае не возбудят подозрения; кажется, так, кажется, так!» – повторял он, стоя среди комнаты, и с напряженным до боли вниманием стал опять высматривать кругом, на полу и везде, не забыл ли еще чего-нибудь? Уверенность, что все, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинала нестерпимо его мучить. «Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и есть!» Действительно, обрезки бахромы, которую он срезал с панталон, так и валялись на полу, среди комнаты, чтобы первый увидел! «Да что же это со мною!» – вскричал он опять как потерянный.
Тут пришла ему в голову странная мысль: что, может быть, и все его платье в крови, что, может быть, много пятен, но что он их только не видит, не замечает, потому что соображение его ослабело, раздроблено… ум помрачен… Вдруг он вспомнил, что и на кошельке была кровь. «Ба! Так, стало быть, и в кармане тоже должна быть кровь, потому что я еще мокрый кошелек тогда в карман сунул!» Мигом выворотил он карман, и – так и есть – на подкладке кармана есть следы, пятна! «Стало быть, не оставил же еще совсем разум, стало быть, есть же соображение и память, коли сам спохватился и догадался! – подумал он с торжеством, глубоко и радостно вздохнув всею грудью, – просто слабосилие лихорадочное, бред на минуту», – и он вырвал всю подкладку из левого кармана панталон. В эту минуту луч солнца осветил его левый сапог: на носке, который выглядывал из сапога, как будто показались знаки. Он сбросил сапог: «действительно знаки! Весь кончик носка пропитан кровью»; должно быть, он в ту лужу неосторожно тогда ступил… «Но что же теперь с этим делать? Куда девать этот носок, бахрому, карман?»
Он сгреб все это в руку и стоял среди комнаты. «В печку? Но в печке прежде всего начнут рыться. Сжечь? Да и чем сжечь? Спичек даже нет. Нет, лучше выйти куда-нибудь и все выбросить. Да! лучше выбросить! – повторял он, опять садясь на диван, – и сейчас, сию минуту, не медля!..» Но вместо того голова его опять склонилась на подушку; опять оледенил его нестерпимый озноб; опять он потащил на себя шинель. И долго, несколько часов, ему все еще мерещилось порывами, что «вот бы сейчас, не откладывая, пойти куда-нибудь и все выбросить, чтоб уж с глаз долой, поскорей, поскорей!» Он порывался с дивана несколько раз, хотел было встать, но уже не мог. Окончательно разбудил его сильный стук в двери.
– Да отвори, жив аль нет? И все-то он дрыхнет! – кричала Настасья, стуча кулаком в дверь, – целые дни-то деньские, как пес, дрыхнет! Пес и есть! Отвори, что ль. Одиннадцатый час.
– А може, и дома нет! – проговорил мужской голос. «Ба! это голос дворника… Что ему надо?»
Он вскочил и сел на диване. Сердце стучало так, что даже больно стало.
– А крюком кто ж заперся? – возразила Настасья, – ишь, запирать стал! Самого, что ль, унесут? Отвори, голова, проснись!
«Что им надо? Зачем дворник? Все известно. Сопротивляться или отворить? Пропадай…»
Он привстал, нагнулся вперед и снял крюк.
Вся его комната была такого размера, что можно было снять крюк, не вставая с постели.
Так и есть: стоят дворник и Настасья.
Настасья как-то странно его оглянула. Он с вызывающим и отчаянным видом взглянул на дворника. Тот молча протянул ему серую, сложенную вдвое бумажку, запечатанную бутылочным сургучом.
– Повестка, из конторы, – проговорил он, подавая бумагу.
– Из какой конторы?..
– В полицию, значит, зовут, в контору. Известно, какая контора.
– В полицию!.. Зачем?..
– А мне почем знать. Требуют, и иди. – Он внимательно посмотрел на него, осмотрелся кругом и повернулся уходить.
– Никак совсем разболелся? – заметила Настасья, не спускавшая с него глаз. Дворник тоже на минуту обернул голову. – Со вчерашнего дня в жару, – прибавила она.
Он не отвечал и держал в руках бумагу, не распечатывая.
– Да уж не вставай, – продолжала Настасья, разжалобясь и видя, что он спускает с дивана ноги. – Болен, так и не ходи: не сгорит. Что у те в руках-то?
Он взглянул: в правой руке у него отрезанные куски бахромы, носок и лоскутья вырванного кармана. Так и спал с ними. Потом уже, размышляя об этом, вспоминал он, что, и полупросыпаясь в жару, крепко-накрепко стискивал все это в руке и так опять засыпал.
– Ишь лохмотьев каких набрал и спит с ними, ровно с кладом… – И Настасья закатилась своим болезненно-нервическим смехом. Мигом сунул он все под шинель и пристально впился в нее глазами. Хоть и очень мало мог он в ту минуту вполне толково сообразить, но чувствовал, что с человеком не так обращаться будут, когда придут его брать. «Но… полиция?»
– Чаю бы выпил? Хошь, что ли? Принесу; осталось…
– Нет… я пойду: я сейчас пойду, – бормотал он, становясь на ноги.
– Поди, и с лестницы не сойдешь?
– Пойду…
– Как хошь.
Она ушла вслед за дворником. Тотчас же бросился он к свету осматривать носок и бахрому: «Пятна есть, но не совсем приметно; все загрязнилось, затерлось и уже выцвело. Кто не знает заранее – ничего не разглядит. Настасья, стало быть, ничего издали не могла приметить, слава Богу!» Тогда с трепетом распечатал он повестку и стал читать; долго читал он и наконец-то понял. Это была обыкновенная повестка из квартала явиться на сегодняшней день, в половине десятого, в контору квартального надзирателя.
«Да когда ж это бывало? Никаких я дел сам по себе не имею с полицией! И почему как раз сегодня? – думал он в мучительном недоумении. – Господи, поскорей бы уж!» Он было бросился на колени молиться, но даже сам рассмеялся, – не над молитвой, а над собой. Он поспешно стал одеваться. «Пропаду так пропаду, все равно! Носок надеть! – вздумалось вдруг ему, – еще больше затрется в пыли, и следы пропадут». Но только что он надел, тотчас же и сдернул его с отвращением и ужасом. Сдернул, но, сообразив, что другого нет, взял и надел опять – и опять рассмеялся. «Все это условно, все относительно, все это одни только формы, – подумал он мельком, одним только краешком мысли, а сам дрожа всем телом, – ведь вот надел же! Ведь кончил же тем, что надел!» Смех, впрочем, тотчас же сменился отчаянием. «Нет, не по силам…» – подумалось ему. Ноги его дрожали. «От страху», – пробормотал он про себя. Голова кружилась и болела от жару. «Это хитрость! Это они хотят заманить меня хитростью и вдруг сбить на всем, – продолжал он про себя, выходя на лестницу. – Скверно то, что я почти в бреду… я могу соврать какую-нибудь глупость…»
На лестнице он вспомнил, что оставляет все вещи так, в обойной дыре, – «а тут, пожалуй, нарочно без него обыск», – вспомнил и остановился. Но такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели вдруг овладели им, что он махнул рукой и пошел дальше.
«Только бы поскорей!..»
На улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть и голова его совсем закружилась, – обыкновенное ощущение лихорадочного, выходящего вдруг на улицу в яркий солнечный день.
Дойдя до поворота во вчерашнюю улицу, он с мучительною тревогой заглянул в нее, на тот дом… и тотчас же отвел глаза.
«Если спросят, я, может быть, и скажу», – подумал он, подходя к конторе.
Контора была от него с четверть версты. Она только что переехала на новую квартиру, в новый дом, в четвертый этаж. На прежней квартире он был когда-то мельком, но очень давно. Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил мужик с книжкой в руках: «дворник, значит; значит, тут и есть контора», и он стал подниматься наверх наугад. Спрашивать ни у кого ни об чем не хотел.
«Войду, стану на колена и все расскажу…» – подумал он, входя в четвертый этаж.
Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырех этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была страшная духота. Вверх и вниз всходили и сходили дворники с книжками под мышкой, хожалые и разный люд обоего пола – посетители. Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошел и остановился в прихожей. Тут все стояли и ждали какие-то мужики. Здесь тоже духота была чрезвычайная и, кроме того, до тошноты било в нос свежею, еще невыстоявшеюся краской на тухлой олифе вновь покрашенных комнат. Переждав немного, он рассудил подвинуться еще вперед, в следующую комнату. Все крошечные и низенькие были комнаты. Страшное нетерпение тянуло его все дальше и дальше. Никто не замечал его. Во второй комнате сидели и писали какие-то писцы, одетые разве немного его получше, на вид все странный какой-то народ. Он обратился к одному из них.
– Чего тебе?
Он показал повестку из конторы.
– Вы студент? – спросил тот, взглянув на повестку.
– Да, бывший студент.
Писец оглядел его, впрочем, без всякого любопытства. Это был какой-то особенно взъерошенный человек с неподвижною идеей во взгляде.
«От этого ничего не узнаешь, потому что ему все равно», – подумал Раскольников.
– Ступайте туда, к письмоводителю, – сказал писец и ткнул вперед пальцем, показывая на самую последнюю комнату.
Он вошел в эту комнату (четвертую по порядку), тесную и битком набитую публикой – народом, несколько почище одетым, чем в тех комнатах. Между посетителями были две дамы. Одна в трауре, бедно одетая, сидела за столом против письмоводителя и что-то писала под его диктовку. Другая же дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди, величиной в чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала. Раскольников сунул письмоводителю свою повестку. Тот мельком взглянул на нее, сказал: «подождите» и продолжал заниматься с траурною дамой.
Он перевел дух свободнее. «Наверно, не то!» Мало-помалу он стал ободряться, он усовещивал себя всеми силами ободриться и опомниться.
«Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать! Гм… жаль, что здесь воздуху нет, – прибавил он, – духота… Голова еще больше кружится… и ум тоже…»
Он чувствовал во всем себе страшный беспорядок. Он сам боялся не совладеть с собой. Он старался прицепиться к чему-нибудь и о чем бы нибудь думать, о совершенно постороннем, но это совсем не удавалось. Письмоводитель сильно, впрочем, интересовал его: ему все хотелось что-нибудь угадать по его лицу, раскусить. Это был очень молодой человек, лет двадцати двух, с смуглою и подвижною физиономией, казавшеюся старее своих лет, одетый по моде и фатом, с пробором на затылке, расчесанный и распомаженный, со множеством перстней и колец на белых отчищенных щетками пальцах и золотыми цепями на жилете. С одним бывшим тут иностранцем он даже сказал слова два по-французски, и очень удовлетворительно.
– Луиза Ивановна, вы бы сели, – сказал он мельком разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом.
– Ich danke[7], – сказала та и тихо, с шелковым шумом, опустилась на стул. Светло-голубое с белою кружевною отделкой платье ее, точно воздушный шар, распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама, очевидно, робела того, что занимает полкомнаты и что от нее так несет духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством.
Траурная дама наконец кончила и стала вставать. Вдруг, с некоторым шумом, весьма молодцевато и как-то особенно повертывая с каждым шагом плечами, вошел офицер, бросил фуражку с кокардой на стол и сел в кресла. Пышная дама так и подпрыгнула с места, его завидя, и с каким-то особенным восторгом принялась приседать; но офицер не обратил на нее ни малейшего внимания, а она уже не смела больше при нем садиться. Это был поручик, помощник квартального надзирателя, с горизонтально торчавшими в обе стороны рыжеватыми усами и с чрезвычайно мелкими чертами лица, ничего, впрочем, особенного, кроме некоторого нахальства, не выражавшими. Он искоса и отчасти с негодованием посмотрел на Раскольникова: слишком уж на нем был скверен костюм, и, несмотря на все принижение, все еще не по костюму была осанка; Раскольников, по неосторожности, слишком прямо и долго посмотрел на него, так что тот даже обиделся.
– Тебе чего? – крикнул он, вероятно удивляясь, что такой оборванец и не думает стушевываться от его молниеносного взгляда.
– Потребовали… по повестке… – отвечал кое-как Раскольников.
– Это по делу о взыскании с них денег, с студента, – заторопился письмоводитель, отрываясь от бумаги. – Вот-с! – и он перекинул Раскольникову тетрадь, указав в ней место, – прочтите!
«Денег? Каких денег? – думал Раскольников, – но… стало быть, уж наверно не то!» И он вздрогнул от радости. Ему стало вдруг ужасно невыразимо легко. Все с плеч слетело.
– А в котором часу вам приходить написано, милостисдарь? – крикнул поручик, все более и более неизвестно чем оскорбляясь, – вам пишут в девять, а теперь уже двенадцатый час!
– Мне принесли всего четверть часа назад, – громко и через плечо отвечал Раскольников, тоже внезапно и неожиданно для себя рассердившийся и даже находя в этом некоторое удовольствие. – И того довольно, что я больной в лихорадке пришел.
– Не извольте кричать!
– Я и не кричу, а весьма ровно говорю, а это вы на меня кричите; а я студент и кричать на себя не позволю.
Помощник до того вспылил, что в первую минуту даже ничего не мог выговорить, и только какие-то брызги вылетали из уст его. Он вскочил с места.
– Извольте ма-а-алчать! Вы в присутствии. Не гр-р-рубиянить, судырь!
– Да и вы в присутствии, – вскрикнул Раскольников, – а кроме того, что кричите, папиросу курите, стало быть, всем нам манкируете. – Проговорив это, Раскольников почувствовал невыразимое наслаждение.
Письмоводитель с улыбкой смотрел на них. Горячий поручик был видимо озадачен.
– Это не ваше дело-с! – прокричал он наконец как-то неестественно громко, – а вот извольте-ка подать отзыв, который с вас требуют. Покажите ему, Александр Григорьевич. Жалобы на вас! Денег не платите! Ишь какой вылетел сокол ясный!
Но Раскольников уже не слушал и жадно схватился за бумагу, ища поскорей разгадки. Прочел раз, другой – и не понял.
– Это что же? – спросил он письмоводителя.
– Это деньги с вас по заемному письму требуют, взыскание. Вы должны или уплатить со всеми издержками, пенными и прочими, или дать письменно отзыв, когда можете уплатить, а вместе с тем и обязательство не выезжать до уплаты из столицы и не продавать и не скрывать своего имущества. А заимодавец волен продать ваше имущество, а с вами поступить по законам.
– Да я… никому не должен!
– Это уж не наше дело. А к нам вот поступило ко взысканию просроченное и законно протестованное заемное письмо в сто пятнадцать рублей, выданное вами вдове, коллежской асессорше Зарницыной, назад тому девять месяцев, а от вдовы Зарницыной перешедшее уплатою к надворному советнику Чебарову, мы и приглашаем вас посему к отзыву.
– Да ведь она ж моя хозяйка?
– Ну так что ж, что хозяйка?
Письмоводитель смотрел на него с снисходительною улыбкой сожаления, а вместе с тем и некоторого торжества, как на новичка, которого только что начинают обстреливать: «Что, дескать, каково ты теперь себя чувствуешь?» Но какое, какое было ему теперь дело до заемного письма, до взыскания! Стоило ли это теперь хоть какой-нибудь тревоги, в свою очередь, хотя какого-нибудь даже внимания! Он стоял, читал, слушал, отвечал, сам даже спрашивал, но все это машинально. Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности – вот что наполняло в эту минуту все его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов. Это была минута полной, непосредственной, чисто животной радости. Но в эту самую минуту в конторе произошло нечто вроде грома и молнии. Поручик, еще весь потрясенный непочтительностию, весь пылая и, очевидно, желая поддержать пострадавшую амбицию, набросился всеми перунами на несчастную «пышную даму», смотревшую на него, с тех самых пор как он вошел, с преглупейшею улыбкой.
– А ты, такая-сякая и этакая, – крикнул он вдруг во все горло (траурная дама уже вышла), – у тебя там что прошедшую ночь произошло? а? Опять позор, дебош на всю улицу производишь. Опять драка и пьянство. В смирительный мечтаешь! Ведь я уж тебе говорил, ведь я уж предупреждал тебя десять раз, что в одиннадцатый не спущу! А ты опять, опять, такая-сякая ты этакая!
Даже бумага выпала из рук Раскольникова, и он дико смотрел на пышную даму, которую так бесцеремонно отделывали; но скоро, однако же, сообразил, в чем дело, и тотчас же вся эта история начала ему очень даже нравиться. Он слушал с удовольствием, так даже, что хотелось хохотать, хохотать, хохотать… Все нервы его так и прыгали.
– Илья Петрович! – начал было письмоводитель заботливо, но остановился выждать время, потому что вскипевшего поручика нельзя было удержать иначе, как за руки, что он знал по собственному опыту.
Что же касается пышной дамы, то вначале она так и затрепетала от грома и молнии; но странное дело: чем многочисленнее и крепче становились ругательства, тем вид ее становился любезнее, тем очаровательнее делалась ее улыбка, обращенная к грозному поручику. Она семенила на месте и беспрерывно приседала, с нетерпением выжидая, что наконец-то и ей позволят ввернуть свое слово, и дождалась.
– Никакой шум и драки у меня не буль, господин капитэн, – затараторила она вдруг, точно горох просыпали, с крепким немецким акцентом, хотя и бойко по-русски, – и никакой, никакой шкандаль, а они пришоль пьян, и это я все расскажит, господин капитэн, а я не виноват… у меня благородный дом, господин капитэн, и благородное обращение, господин капитэн, и я всегда, всегда сама не хотель никакой шкандаль. А они совсем пришоль пьян и потом опять три путилки спросил, а потом один поднял ноги и стал ногом фортепьян играль, и это совсем нехорошо в благородный дом, и он ганц фортепьян ломаль, и совсем, совсем тут нет никакой манир, и я сказаль. А он путилку взял и стал всех сзади путилкой толкаль. И тут как я стал скоро дворник позваль и Карль пришоль, он взял Карль и глаз прибиль, и Генриет тоже глаз прибиль, а мне пять раз щеку биль. И это так неделикатно в благородный дом, господин капитэн, и я кричаль. А он на канав окно отворяль и стал в окно, как маленькая свинья, визжаль; и это срам. И как можно в окно на улиц, как маленькая свинья, визжаль; и это срам. Фуй-фуй-фуй! И Карль сзади его за фрак от окна таскаль и тут, это правда, господин капитэн, ему зейн рок изорваль. И тогда он кричаль, что ему пятнадцать целковых ман мус штраф платиль. И я сама, господин капитэн, пять целковых ему зейн рок платиль. И это неблагородный гость, господин капитэн, и всякой шкандаль делаль! Я, говориль, на вас большой сатир гедрюкт будет, потому я во всех газет могу про вас все сочиниль.
– Из сочинителей, значит?
– Да, господин капитэн, и какой же это неблагородный гость, господин капитэн, когда в благородный дом…
– Ну-ну-ну! Довольно! Я уж тебе говорил, говорил, я ведь тебе говорил…
– Илья Петрович! – снова значительно проговорил письмоводитель. Поручик быстро взглянул на него; письмоводитель слегка кивнул головой.
– …Так вот же тебе, почтеннейшая Лавиза Ивановна, мой последний сказ, и уж это в последний раз, – продолжал поручик. – Если у тебя еще хоть один только раз в твоем благородном доме произойдет скандал, так я тебя самое на цугундер, как в высоком слоге говорится. Слышала? Так литератор, сочинитель, пять целковых в «благородном доме» за фалду взял? Вон они, сочинители! – и он метнул презрительный взгляд на Раскольникова. – Третьего дня в трактире тоже история: пообедал, а платить не желает; «я, дескать, вас в сатире за то опишу». На пароходе тоже другой, на прошлой неделе, почтенное семейство статского советника, жену и дочь, подлейшими словами обозвал. Из кондитерской намедни в толчки одного выгнали. Вот они каковы, сочинители, литераторы, студенты, глашатаи… тьфу! А ты пошла! Я вот сам к тебе загляну… тогда берегись! Слышала?
Луиза Ивановна с уторопленною любезностью пустилась приседать на все стороны и, приседая, допятилась до дверей; но в дверях наскочила задом на одного видного офицера, с открытым свежим лицом и с превосходными густейшими белокурыми бакенами. Это был сам Никодим Фомич, квартальный надзиратель. Луиза Ивановна поспешила присесть чуть не до полу и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетела из конторы.
– Опять грохот, опять гром и молния, смерч, ураган! – любезно и дружески обратился Никодим Фомич к Илье Петровичу, – опять растревожили сердце, опять закипел! Еще с лестницы слышал.
– Да што! – с благородною небрежностию проговорил Илья Петрович (и даже не што, а как-то: «Да-а шта-а!»), переходя с какими-то бумагами к другому столу и картинно передергивая с каждым шагом плечами, куда шаг, туда и плечо; – вот-c, изволите видеть: господин сочинитель, то бишь студент, бывший то есть, денег не платит, векселей надавал, квартиру не очищает, беспрерывные на них поступают жалобы, а изволили в претензию войти, что я папироску при них закурил! Сами п-п-подличают, а вот-с, извольте взглянуть на них: вот они в самом своем привлекательном теперь виде-с!
– Бедность не порок, дружище, ну да уж что! Известно, порох, не мог обиды перенести. Вы чем-нибудь, верно, против него обиделись и сами не удержались, – продолжал Никодим Фомич, любезно обращаясь к Раскольникову, – но это вы напрасно: на-и-бла-га-а-ар-р-роднейший, я вам скажу, человек, но порох, порох! Вспылил, вскипел, сгорел – и нет! И все прошло! И в результате одно только золото сердца! Его и в полку прозвали: «поручик-порох»…
– И какой еще п-п-полк был! – воскликнул Илья Петрович, весьма довольный, что его так приятно пощекотали, но все еще будируя.
Раскольникову вдруг захотелось сказать им всем что-нибудь необыкновенно приятное.
– Да помилуйте, капитан, – начал он весьма развязно, обращаясь вдруг к Никодиму Фомичу, – вникните и в мое положение… Я готов даже просить у них извинения, если в чем с своей стороны манкировал. Я бедный и больной студент, удрученный (он так и сказал: «удрученный») бедностью. Я бывший студент, потому что теперь не могу содержать себя, но я получу деньги… У меня мать и сестра в – й губернии… Мне пришлют, и я… заплачу. Хозяйка моя добрая женщина, но она до того озлилась, что я уроки потерял и не плачу четвертый месяц, что не присылает мне даже обедать… И не понимаю совершенно, какой это вексель! Теперь она с меня требует по заемному этому письму, что ж я ей заплачу, посудите сами!..
– Но это ведь не наше дело… – опять было заметил письмоводитель…
– Позвольте, позвольте, я с вами совершенно согласен, но позвольте и мне разъяснить, – подхватил опять Раскольников, обращаясь не к письмоводителю, а все к Никодиму Фомичу, но стараясь всеми силами обращаться тоже и к Илье Петровичу, хотя тот упорно делал вид, что роется в бумагах и презрительно не обращает на него внимания, – позвольте и мне с своей стороны разъяснить, что я живу у ней уж около трех лет, с самого приезда из провинции и прежде… прежде… впрочем, отчего ж мне и не признаться в свою очередь, с самого начала я дал обещание, что женюсь на ее дочери, обещание словесное, совершенно свободное… Это была девушка… впрочем, она мне даже нравилась… хотя я и не был влюблен… одним словом, молодость, то есть я хочу сказать, что хозяйка мне делала тогда много кредиту и я вел отчасти такую жизнь… я очень был легкомыслен…
– С вас вовсе не требуют таких интимностей, милостисдарь, да и времени нет, – грубо и с торжеством перебил было Илья Петрович, но Раскольников с жаром остановил его, хотя ему чрезвычайно тяжело стало вдруг говорить.
– Но позвольте, позвольте же мне, отчасти, все рассказать… как было дело и… в свою очередь… хотя это и лишнее, согласен с вами, рассказывать, – но год назад эта девица умерла от тифа, я же остался жильцом, как был, и хозяйка, как переехала на теперешнюю квартиру, сказала мне… и сказала дружески… что она совершенно во мне уверена и все… но что не захочу ли я дать ей это заемное письмо в сто пятнадцать рублей, всего что она считала за мной долгу. Позвольте-с: она именно сказала, что, как только я дам эту бумагу, она опять будет меня кредитовать сколько угодно и что никогда, никогда, в свою очередь, – это ее собственные слова были, – она не воспользуется этой бумагой, покамест я сам заплачу… И вот теперь, когда я и уроки потерял, и мне есть нечего, она и подает ко взысканию… Что ж я теперь скажу?
– Все эти чувствительные подробности, милостисдарь, до нас не касаются, – нагло отрезал Илья Петрович, – вы должны дать отзыв и обязательство, а что вы там изволили быть влюблены и все эти трагические места, до этого нам совсем дела нет.
– Ну уж ты… жестоко… – пробормотал Никодим Фомич, усаживаясь к столу и тоже принимаясь подписывать. Ему как-то стыдно стало.
– Пишите же, – сказал письмоводитель Раскольникову.
– Что писать? – спросил тот как-то особенно грубо.
– А я вам продиктую.
Раскольникову показалось, что письмоводитель стал с ним небрежнее и презрительнее после его исповеди, но, странное дело, – ему вдруг стало самому решительно все равно до чьего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту. Если б он захотел подумать немного, то, конечно, удивился бы тому, как мог он так говорить с ними, минуту назад, и даже навязываться с своими чувствами? И откуда взялись эти чувства? Напротив, теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его. Не низость его сердечных излияний перед Ильей Петровичем, не низость и поручикова торжества над ним перевернули вдруг так ему сердце. О, какое ему дело теперь до собственной подлости, до всех этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, контор и проч., и проч.! Если б его приговорили даже сжечь в эту минуту, то и тогда он не шевельнулся бы, даже вряд ли прослушал бы приговор внимательно. С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтоб он понимал, но он ясно ощущал, всею силою ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже с чем бы то ни было ему уже нельзя более обращаться к этим людям, в квартальной конторе, и будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним и даже ни в каком случае жизни; он никогда еще до сей минуты не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее – это было более ощущение, чем сознание, чем понятие; непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнию пережитых им ощущений.
Письмоводитель стал диктовать ему форму обыкновенного в таком случае отзыва, то есть заплатить не могу, обещаюсь тогда-то (когда-нибудь), из города не выеду, имущество ни продавать, ни дарить не буду и проч.
– Да вы писать не можете, у вас перо из рук валится, – заметил письмоводитель, с любопытством вглядываясь в Раскольникова. – Вы больны?
– Да… голова кругом… говорите дальше!
– Да все; подпишитесь.
Письмоводитель отобрал бумагу и занялся с другими.
Раскольников отдал перо, но вместо того, чтоб встать и уйти, положил оба локтя на стол и стиснул руками голову. Точно гвоздь ему вбивали в темя. Странная мысль пришла ему вдруг: встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему все вчерашнее, все до последней подробности, затем пойти вместе с ними на квартиру и указать им вещи, в углу, в дыре. Позыв был до того силен, что он уже встал с места, для исполнения. «Не обдумать ли хоть минуту? – пронеслось в его голове. – Нет, лучше и не думая, и с плеч долой!» Но вдруг он остановился как вкопанный: Никодим Фомич говорил с жаром Илье Петровичу, и до него долетели слова:
– Быть не может, обоих освободят! Во-первых, все противоречит; судите: зачем им дворника звать, если б это их дело? На себя доносить, что ли? Аль для хитрости? Нет, уж было бы слишком хитро! И, наконец, студента Пестрякова видели у самых ворот оба дворника и мещанка в самую ту минуту, как он входил: он шел с тремя приятелями и расстался с ними у самых ворот и о жительстве у дворников расспрашивал, еще при приятелях. Ну, станет такой о жительстве расспрашивать, если с таким намерением шел? А Кох, так тот, прежде чем к старухе заходить, внизу у серебряника полчаса сидел и ровно без четверти восемь от него к старухе наверх пошел. Теперь сообразите…
– Но позвольте, как же у них такое противоречие вышло: сами уверяют, что стучались и что дверь была заперта, а через три минуты, когда с дворником пришли, выходит, что дверь отперта?
– В том и штука: убийца непременно там сидел и заперся на запор; и непременно бы его там накрыли, если бы не Кох сдурил, не отправился сам за дворником. А он именно в этот-то промежуток и успел спуститься по лестнице и прошмыгнуть мимо их как-нибудь. Кох обеими руками крестится: «Если б я там, говорит, остался, он бы выскочил и меня убил топором». Русский молебен хочет служить, хе-хе!..
– А убийцу никто и не видал?
– Да где ж тут увидеть? Дом – Ноев ковчег, – заметил письмоводитель, прислушивавшийся с своего места.
– Дело ясное, дело ясное! – горячо повторил Никодим Фомич.
– Нет, дело очень неясное, – скрепил Илья Петрович.
Раскольников поднял свою шляпу и пошел к дверям, но до дверей он не дошел…
Когда он очнулся, то увидал, что сидит на стуле, что его поддерживает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек, с желтым стаканом, наполненным желтою водою, и что Никодим Фомич стоит перед ним и пристально глядит на него; он встал со стула.
– Что это, вы больны? – довольно резко спросил Никодим Фомич.
– Они и как подписывались, так едва пером водили, – заметил письмоводитель, усаживаясь на свое место и принимаясь опять за бумаги.
– А давно вы больны? – крикнул Илья Петрович с своего места и тоже перебирая бумаги. Он, конечно, тоже рассматривал больного, когда тот был в обмороке, но тотчас же отошел, когда тот очнулся.
– Со вчерашнего… – пробормотал в ответ Раскольников.
– А вчера со двора выходили?
– Выходил.
– Больной?
– Больной.
– В котором часу?
– В восьмом часу вечера.
– А куда, позвольте спросить?
– По улице.
– Коротко и ясно.
Раскольников отвечал резко, отрывисто, весь бледный как платок и не опуская черных воспаленных глаз своих перед взглядом Ильи Петровича.
– Он едва на ногах стоит, а ты… – заметил было Никодим Фомич.
– Ни-че-го! – как-то особенно проговорил Илья Петрович. Никодим Фомич хотел было еще что-то присовокупить, но, взглянув на письмоводителя, который тоже очень пристально смотрел на него, замолчал. Все вдруг замолчали. Странно было.
– Ну-с, хорошо-с, – заключил Илья Петрович, – мы вас не задерживаем.
Раскольников вышел. Он еще мог расслышать, как по выходе его начался оживленный разговор, в котором слышнее всех отдавался вопросительный голос Никодима Фомича… На улице он совсем очнулся.
«Обыск, обыск, сейчас обыск! – повторял он про себя, торопясь дойти; – разбойники! подозревают!» Давешний страх опять охватил его всего, с ног до головы.
II
«А что, если уж и был обыск? Что, если их как раз у себя и застану?»
Но вот его комната. Ничего и никого; никто не заглядывал. Даже Настасья не притрогивалась. Но, Господи! Как мог он оставить давеча все эти вещи в этой дыре?
Он бросился в угол, запустил руку под обои и стал вытаскивать вещи и нагружать ими карманы. Всего оказалось восемь штук: две маленькие коробки с серьгами или с чем-то в этом роде – он хорошенько не посмотрел; потом четыре небольшие сафьянные футляра. Одна цепочка была просто завернута в газетную бумагу. Еще что-то в газетной бумаге, кажется орден…
Он поклал все в разные карманы, в пальто и в оставшийся правый карман панталон, стараясь, чтоб было неприметнее. Кошелек тоже взял заодно с вещами. Затем вышел из комнаты, на этот раз даже оставив ее совсем настежь.
Он шел скоро и твердо, и хоть чувствовал, что весь изломан, но сознание было при нем. Боялся он погони, боялся, что через полчаса, через четверть часа уже выйдет, пожалуй, инструкция следить за ним; стало быть, во что бы ни стало надо было до времени схоронить концы. Надо было управиться, пока еще оставалось хоть сколько-нибудь сил и хоть какое-нибудь рассуждение… Куда же идти?
Это было уже давно решено: «Бросить все в канаву, и концы в воду, и дело с концом». Так порешил он еще ночью, в бреду, в те мгновения, когда, он помнил это, несколько раз порывался встать и идти: «поскорей, поскорей, и все выбросить». Но выбросить оказалось очень трудно.
Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с полчаса, а может и более, и несколько раз посматривал на сходы в канаву, где их встречал. Но и подумать нельзя было исполнить намерение: или плоты стояли у самых сходов и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат, да и отовсюду с набережных, со всех сторон, можно видеть, заметить: подозрительно, что человек нарочно сошел, остановился и что-то в воду бросает. А ну как футляры не утонут, а поплывут? Да и конечно так. Всякий увидит. И без того уже все так и смотрят, встречаясь, оглядывают, как будто им и дело только до него. «Отчего бы так, или мне, может быть, кажется», – думал он.
Наконец пришло ему в голову, что не лучше ли будет пойти куда-нибудь на Неву? Там и людей меньше, и незаметнее, и во всяком случае удобнее, а главное – от здешних мест дальше. И удивился он вдруг: как это он целые полчаса бродил в тоске и тревоге, и в опасных местах, а этого не мог раньше выдумать! И потому только целые полчаса на безрассудное дело убил, что так уже раз во сне, в бреду решено было! Он становился чрезвычайно рассеян и забывчив и знал это. Решительно надо было спешить!
Он пошел к Неве по В – му проспекту; но дорогою ему пришла вдруг еще мысль: «Зачем на Неву? Зачем в воду? Не лучше ли уйти куда-нибудь очень далеко, опять хоть на Острова, и там где-нибудь, в одиноком месте, в лесу, под кустом, – зарыть все это и дерево, пожалуй, заметить?» И хотя он чувствовал, что не в состоянии всего ясно и здраво обсудить в эту минуту, но мысль ему показалась безошибочною.
Но и на Острова ему не суждено было попасть, а случилось другое: выходя с В – го проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома. Слева, параллельно глухой стене и тоже сейчас от ворот, шел деревянный забор, шагов на двадцать в глубь двора, и потом уже делал перелом влево. Это было глухое отгороженное место, где лежали какие-то материалы. Далее, в углублении двора, выглядывал из-за забора угол низкого, закопченного, каменного сарая, очевидно, часть какой-нибудь мастерской. Тут, верно, было какое-то заведение, каретное или слесарное, или что-нибудь в этом роде; везде, почти от самых ворот, чернелось много угольной пыли. «Вот бы куда подбросить и уйти!» – вздумалось ему вдруг. Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворота и как раз увидал, сейчас же близ ворот, прилаженный у забора желоб (как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных, извозчиков и проч.), а над желобом, тут же на заборе, надписана была мелом всегдашняя в таких случаях острота: «Сдесь становитца воз прещено». Стало быть, уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился. «Тут все так разом и сбросить где-нибудь в кучку и уйти!»
Оглядевшись еще раз, он уже засунул и руку в карман, как вдруг у самой наружной стены, между воротами и желобом, где все расстояние было шириною в аршин, заметил он большой неотесанный камень, примерно, может быть, пуда в полтора весу, прилегавший прямо к каменной уличной стене. За этою стеной была улица, тротуар, слышно было, как шныряли прохожие, которых здесь всегда немало; но за воротами его никто не мог увидать, разве зашел бы кто с улицы, что, впрочем, очень могло случиться, а потому надо было спешить.
Он нагнулся к камню, схватился за верхушку его крепко, обеими руками, собрал все свои силы и перевернул камень. Под камнем образовалось небольшое углубление; тотчас же стал он бросать в него все из кармана. Кошелек пришелся на самый верх, и все-таки в углублении оставалось еще место. Затем он снова схватился за камень, одним оборотом перевернул его на прежнюю сторону, и он как раз пришелся в свое прежнее место, разве немного, чуть-чуть казался повыше. Но он подгреб земли и придавил по краям ногою. Ничего не было заметно.
Тогда он вышел и направился к площади. Опять сильная, едва выносимая радость, как давеча в конторе, овладела им на мгновение. «Схоронены концы! И кому, кому в голову может прийти искать под этим камнем? Он тут, может быть, с построения дома лежит и еще столько же пролежит. А хоть бы и нашли: кто на меня подумает? Все кончено! Нет улик!» – и он засмеялся. Да, он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и все смеялся, все время, как проходил через площадь. Но когда он ступил на К – й бульвар, где третьего дня повстречался с тою девочкой, смех его вдруг прошел. Другие мысли полезли ему в голову. Показалось ему вдруг тоже, что ужасно ему теперь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой он тогда, по уходе девочки, сидел и раздумывал, и ужасно тоже будет тяжело встретить опять того усача, которому он тогда дал двугривенный: «Черт его возьми!»
Он шел, смотря кругом рассеянно и злобно. Все мысли его кружились теперь около одного какого-то главного пункта, – и он сам чувствовал, что это действительно такой главный пункт и есть и что теперь, именно теперь, он остался один на один с этим главным пунктом, – и что это даже в первый раз после этих двух месяцев.
«А черт возьми это все! – подумал он вдруг в припадке неистощимой злобы. – Ну началось, так и началось, черт с ней и с новою жизнию! Как это, Господи, глупо!.. А сколько я налгал и наподличал сегодня! Как мерзко лебезил и заигрывал давеча с сквернейшим Ильей Петровичем! А впрочем, вздор и это! Наплевать мне на них на всех, да и на то, что я лебезил и заигрывал! Совсем не то! Совсем не то!..»
Вдруг он остановился; новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос разом сбил его с толку и горько его изумил:
«Если действительно все это дело сделано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелек и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шел? Да ведь ты в воду его хотел сейчас бросить, кошелек-то, вместе со всеми вещами, которых ты тоже еще не видал… Это как же?»
Да, это так; это все так. Он, впрочем, это и прежде знал, и совсем это не новый вопрос для него; и когда ночью решено было в воду кинуть, то решено было безо всякого колебания и возражения, а так, как будто так тому и следует быть, как будто иначе и быть невозможно… Да, он это все знал и все помнил; да чуть ли это уже вчера не было так решено, в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал… А ведь так!..
«Это оттого, что я очень болен, – угрюмо решил он наконец, – я сам измучил и истерзал себя и сам не знаю, что делаю… И вчера, и третьего дня, и все это время терзал себя… Выздоровлю и… не буду терзать себя… А ну как совсем и не выздоровлю? Господи! Как это мне все надоело!..» Он шел не останавливаясь. Ему ужасно хотелось как-нибудь рассеяться, но он не знал, что сделать и что предпринять. Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им все более и более почти с каждой минутой: это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, – гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил…
Он остановился вдруг, когда вышел на набережную Малой Невы, на Васильевском острове, подле моста. «Вот тут он живет, в этом доме, – подумал он. – Что это, да никак я к Разумихину сам пришел! Опять та же история, как тогда… А очень, однако же, любопытно: сам я пришел или просто шел да сюда зашел? Все равно; сказал я… третьего дня… что к нему после того на другой день пойду, ну что ж, и пойду! Будто уж я и не могу теперь зайти…»
Он поднялся к Разумихину в пятый этаж.
Тот был дома, в своей каморке, и в эту минуту занимался, писал, и сам ему отпер. Месяца четыре как они не видались. Разумихин сидел у себя в истрепанном до лохмотьев халате, в туфлях на босу ногу, всклокоченный, небритый и неумытый. На лице его выразилось удивление.
– Что ты? – закричал он, осматривая с ног до головы вошедшего товарища; затем помолчал и присвистнул.
– Неужели уж так плохо? Да ты, брат, нашего брата перещеголял, – прибавил он, глядя на лохмотья Раскольникова. – Да садись же, устал небось! – и когда тот повалился на клеенчатый турецкий диван, который был еще хуже его собственного, Разумихин разглядел вдруг, что гость его болен.
– Да ты серьезно болен, знаешь ты это? – Он стал щупать его пульс; Раскольников вырвал руку.
– Не надо, – сказал он, – я пришел… вот что: у меня уроков никаких… я хотел было… впрочем, мне совсем не надо уроков…
– А знаешь что? Ведь ты бредишь! – заметил наблюдавший его пристально Разумихин.
– Нет, не брежу… – Раскольников встал с дивана. Подымаясь к Разумихину, он не подумал о том, что с ним, стало быть, лицом к лицу сойтись должен. Теперь же, в одно мгновение, догадался он, уже на опыте, что всего менее расположен, в эту минуту, сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете. Вся желчь поднялась в нем. Он чуть не захлебнулся от злобы на себя самого, только что переступил порог Разумихина.
– Прощай! – сказал он вдруг и пошел к двери.
– Да ты постой, постой, чудак!
– Не надо!.. – повторил тот, опять вырывая руку.
– Так на кой черт ты пришел после этого! Очумел ты, что ли? Ведь это… почти обидно. Я так не пущу.
– Ну, слушай: я к тебе пришел, потому что, кроме тебя, никого не знаю, кто бы помог… начать… потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь… А теперь я вижу, что ничего мне не надо, слышишь, совсем ничего… ничьих услуг и участий… Я сам… один… Ну и довольно! Оставьте меня в покое!
– Да постой на минутку, трубочист! Совсем сумасшедший! По мне ведь как хочешь. Видишь ли: уроков и у меня нет, да и наплевать, а есть на Толкучем книгопродавец Херувимов, это уж сам в своем роде урок. Я его теперь на пять купеческих уроков не променяю. Он этакие изданьица делает и естественнонаучные книжонки выпускает, – да как расходятся-то! Одни заглавия чего стоят! Вот ты всегда утверждал, что я глуп; ей-богу, брат, есть глупее меня! Теперь в направление тоже полез; сам ни бельмеса не чувствует, ну а я, разумеется, поощряю. Вот тут два с лишком листа немецкого текста, – по-моему, глупейшего шарлатанства: одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек? Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что человек. Херувимов это по части женского вопроса готовит; я перевожу; растянет он эти два с половиной листа листов на шесть, присочиним пышнейшее заглавие в полстраницы и пустим по полтиннику. Сойдет! За перевод мне по шести целковых с листа, значит, за все рублей пятнадцать достанется, и шесть рублей взял я вперед. Кончим это, начнем об китах переводить, потом из второй части «Confessions» какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили, переводить будем; Херувимову кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде Радищев. Я, разумеется, не противоречу, черт с ним! Ну, хочешь второй лист «Человек ли женщина?» переводить? Коли хочешь, так бери сейчас текст, перьев бери, бумаги – все это казенное – и бери три рубля: так как я за весь перевод вперед взял, за первый и за второй лист, то, стало быть, три рубля прямо на твой пай и придутся. А кончишь лист – еще три целковых получишь. Да вот что еще, пожалуйста, за услугу какую-нибудь не считай с моей стороны. Напротив, только что ты вошел, я уж и рассчитал, чем ты мне будешь полезен. Во-первых, я в орфографии плох, а во-вторых, в немецком иногда просто швах, так что все больше от себя сочиняю и только тем и утешаюсь, что от этого еще лучше выходит. Ну а кто его знает, может быть, оно и не лучше, а хуже выходит… Берешь или нет?
Раскольников молча взял немецкие листки статьи, взял три рубля и, не сказав ни слова, вышел. Разумихин с удивлением поглядел ему вслед. Но дойдя уже до первой линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листы, и три рубля, опять-таки ни слова не говоря, пошел вон.
– Да у тебя белая горячка, что ль! – заревел взбесившийся наконец Разумихин. – Чего ты комедии-то разыгрываешь! Даже меня сбил с толку… Зачем же ты приходил после этого, черт?
– Не надо… переводов… – пробормотал Раскольников, уже спускаясь с лестницы.
– Так какого же тебе черта надо? – закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться.
– Эй, ты! Где ты живешь?
Ответа не последовало.
– Ну так чер-р-рт с тобой!..
Но Раскольников уже выходил на улицу. На Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски, за то что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то что кучер раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он, отскочив к перилам (неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех.
– И за дело!
– Выжига какая-нибудь.
– Известно, пьяным представится да нарочно и лезет под колеса; а ты за него отвечай.
– Тем промышляют, почтенный, тем промышляют…
Но в ту минуту, как он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел: пожилая купчиха, в головке и козловых башмакам, и с нею девушка, в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно дочь. «Прими, батюшка, ради Христа». Он взял, и они прошли мимо. Денег двугривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, а подаче целого двугривенного он, наверно, обязан был удару кнута, который их разжалобил.
Он зажал двугривенный в руку, прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение. Боль от кнута утихла, и Раскольников забыл про удар; одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально; это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, – чаще всего возвращаясь домой, – случалось ему, может быть, раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина… Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он про эти прежние свои вопросы и недоумения, и показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался… еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и все, все… Казалось, он улетал куда-то вверх и все исчезало в глазах его… Сделав одно невольное движение рукой, он вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двугривенный. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту.
Он пришел к себе уже к вечеру, стало быть, проходил всего часов шесть. Где и как шел обратно, ничего он этого не помнил. Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся…
Он очнулся в полные сумерки от ужасного крику. Боже, что это за крик! Таких неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета, слез, побой и ругательств он никогда еще не слыхивал и не видывал. Он и вообразить не мог себе такого зверства, такого исступления. В ужасе приподнялся он и сел на своей постели, каждое мгновение замирая и мучаясь. Но драки, вопли и ругательства становились все сильнее и сильнее. И вот, к величайшему изумлению, он вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, выпуская слова так, что и разобрать нельзя было, о чем-то умоляя, – конечно, о том, чтоб ее перестали бить, потому что ее беспощадно били на лестнице. Голос бившего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел, но все-таки и бивший тоже что-то такое говорил, тоже скоро, неразборчиво, торопясь и захлебываясь. Вдруг Раскольников затрепетал как лист: он узнал этот голос; это был голос Ильи Петровича. Илья Петрович здесь и бьет хозяйку! Он бьет ее ногами, колотит ее головою о ступени, – это ясно, это слышно по звукам, по воплям, по ударам! Что это, свет перевернулся, что ли? Слышно было, как во всех этажах, по всей лестнице собиралась толпа, слышались голоса, восклицания, всходили, стучали, хлопали дверями, сбегались. «Но за что же, за что же, и как это можно!» – повторял он, серьезно думая, что он совсем помешался. Но нет, он слишком ясно слышит!.. Но, стало быть, и к нему сейчас придут, если так, «потому что… верно, все это из того же… из-за вчерашнего… Господи!» Он хотел было запереться на крючок, но рука не поднялась… да и бесполезно! Страх, как лед, обложил его душу, замучил его, окоченил его… Но вот наконец весь этот гам, продолжавшийся верных десять минут, стал постепенно утихать. Хозяйка стонала и охала, Илья Петрович все еще грозил и ругался… Но вот наконец, кажется, и он затих; вот уж и не слышно его; «неужели ушел! Господи!» Да, вот уходит и хозяйка, все еще со стоном и плачем… вот и дверь у ней захлопнулась… Вот и толпа расходится с лестниц по квартирам, – ахают, спорят, перекликаются, то возвышая речь до крику, то понижая до шепоту. Должно быть, их много было; чуть ли не весь дом сбежался. «Но, Боже, разве все это возможно! И зачем, зачем он приходил сюда!»
Раскольников в бессилии упал на диван, но уже не мог сомкнуть глаз; он пролежал с полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении безграничного ужаса, какого никогда еще не испытывал. Вдруг яркий свет озарил его комнату: вошла Настасья со свечой и с тарелкой супа. Посмотрев на него внимательно и разглядев, что он не спит, она поставила свечку на стол и начала раскладывать принесенное: хлеб, соль, тарелку, ложку.
7
Благодарю (нем.).