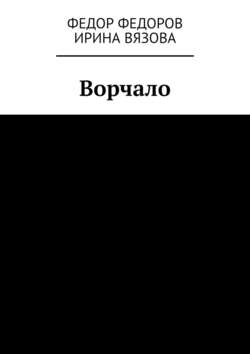Читать книгу Ворчало - Федор Федоров - Страница 6
Ворчало
Поход
ОглавлениеПредставьте себе: вас разбудил будильник, ну, где-то около пяти, и с размаху, не проснувшись, вы шагнули в раннее утро. Тогда, возможно, почувствуете на себе, как мне хотелось спать! Спать хотелось ужасно. Однако ничего не поделаешь, раз уж проснулся, надо продолжать делать задуманное, запланированное, назначенное и, может быть, даже предрешенное силами, нам не ведомыми. Одним словом, надо. Есть такое слово – «надо». Хотя есть еще и такое слово, как «хочу». Или более подходящее для данного случая – «не хочу». Впереди двадцать дней в лодке, в палатке, в лесу, у костра. Романтика… Чтоб ей пусто стало… То есть, пусто было. То есть, как это правильно сказать?
Турбазовская лодочная станция располагалась в небольшой заводи. Несколько лилий, сбившись в кучку, тыкались в противоположный берег.
Безветренно.
Зябко.
Тихо.
И чертовски красиво.
На маленьком дощатом причале безмолвно и сонно топталась половина группы. Та половина, которая отправлялась в лодочный поход впервые, поэтому нервничала и пришла пораньше. Вторая половина, состоявшая из «бывалых» путешественников, подтягивалась еще полчаса. Стандартная ситуация для начала любого лодочного похода. Хвостолапы загружали лодки рюкзаками, продуктами и другой дребеденью. Уже просматривались лидеры, трудяги и лентяи. Пока неярко, но все же выделялись суетливые и шумные пылевглазапускатели. На этот раз народ подобрался в возрастном диапазоне от шестнадцати до пятидесяти. Что с ними делать – известно только Богу. Как сколотить команду, когда характеры, взгляды, привычки и все остальное, уже только по возрастному цензу находятся на противоположных полюсах? А если не получится команды, значит, будет не поход, а сплошная склока и нервотрепка. Необходима была цель, при достижении которой у группы не останется времени заниматься всякими дрязгами. Нужно, чтобы все, дружно, очень захотели чего-то одного: большого и гладкого, зеленого и загадочного, блестящего и круглого, но обязательно труднодоступного. Тогда все будет в порядке.
Первый симптом несовместимости проявился при распределении по лодкам. Кто-то с кем-то не хотел в одну лодку и, наоборот, в другую пытались пристроиться столько желающих, что лодка могла просто затонуть. Пришлось вмешаться и волевым решением рассадить хвостолапов более-менее равномерно.
Итак, ранним утром, немного поскандалив, моя группа из шестнадцати обитателей турбазы «Лисицкий Бор», включая меня, разместившись на четырех лодках, отправилась в двадцатидневный поход вверх по реке – кормить комаров, в поисках приключений, романтики и другой дряни.
Махать веслами в течение дня – удовольствие весьма сомнительное, особенно если без привычки. Во-первых, у всех участников сразу появляются мозоли, в-третьих, казалось бы, не очень утомительное занятие выматывает народ так, что к вечеру никто уже ничего не соображает, и следующий день также можно считать пропавшим. Зная это, я действовал по давно отработанной схеме и поначалу давал группе минимальную нагрузку.
Через пару часов лодки уже шли ровно и не кидались из стороны в сторону, как курицы. Трудяги в лодках постепенно начинали понимать, что нужно, а чего вовсе и не обязательно делать, чтобы продвигаться вперед.
Обед решили не проводить, подзакусили на ходу, зато пораньше стали на прикол. С небольшими разборками из серии «кому что делать» поставили палатки, собрали и напилили дров, приготовили шикарный ужин из макарон и тушенки. К вечеру разлеглись у костра. Началось самое замечательное время баек, душистого чая, гитары и комаров величиной с собаку.
Вот тут-то я и решил начать свое черное дело по глобальному и беспрецедентному обману пятнадцати индивидуумов, очень разных, еще незнакомых, но уже интересных. Подловив момент, когда возникла неожиданная и томная пауза, я, звонко прикончив комара на своей щеке, предложил народу одну легенду, услышанную мною от местных жителей. (Эту легенду мне действительно рассказала Баб Нюра, прожившая в Лисицком Бору все свои девяносто три года, в качестве благодарности за проделанную мной работу по починке не вовремя забарахлившего самогонного аппарата.)
Разомлевшие хвостолапы с радостью согласились внимательно меня выслушать.
Потрескивали сухие ветки. Искры улетали вверх, к вершинам черных елей. Световой круг от костра ограничивал мир. Рядом, в темноте, угадывалась невидимая живая река. Я неторопливо, с долгими, но оправданными паузами, начал свой рассказ.
Случилось это в далекие, далекие времена, когда родной прабабушке Баб Нюры от роду было всего десять лет, и она, беззаботная и босолапая, бегала со своими подружками купаться в реке. В те времена деревня Лисицкий Бор была небольшой, но с зажиточными дворами. Нужды её жители не испытывали, книг не читали, в политической жизни царства-государства не участвовали. Все необходимое они получали от земли, реки, леса и пастбищ своим трудом – и этим были счастливы.
Но вот однажды из Городни пришла дурная весть. Весть принесли два монаха, которые на лодке плыли вверх по реке и остановились на ночлег в деревне. Монахи рассказали, мол, на Городню идет войско: «мечами звенят – пощады не жди». Монахи везли в лодке святые книги, злато, серебро и каменья драгоценные, чтобы спрятать все это в тайнике, известном только им, от налетчиков кровожадных. Они всегда так делали, когда над Городней нависала напасть. Переночевав, монахи ранним утром уплыли. Жители деревни попрятались в домах и стали молиться.
То ли молитвы помогли, то ли то, что Лисицкий Бор располагался на другой стороне реки, но злая участь обошла поселок стороной.
В Городне же порезали всех. Не помогли даже каменные стены церкви, которую построили городенцы. Всего неделю продержались они за её крепкими, белокаменными стенами. Прошел слух, что это сам Царь-Государь Иван ходил с войском по землям и наказывал подданных своих за непослушание. Так ли было или со страху врали хвостолапы – неизвестно. И монахи те, говорят, сгинули. И тайну свою унесли в могилу.
Я замолчал.
Длинную паузу прервал Володя:
– А тайник нашли?
Галка выкатила свои огромные глаза и почему-то шепотом ответила:
– Сказали же тебе: унесли с собой в могилу!
– Тайник?
– Да не тайник, а тайну!
– Значит, тайник остался? И где-то сейчас есть? И мы плывем по Волге там же, где плыли монахи?!
В темноте, со стороны реки, зашуршало. Все притихли.
– Ну ладно, хватит. Пора спать, завтра снимаемся, – заявил я и отправился в свою палатку. Народ не сразу последовал моему примеру. Они еще долго сидели у полупотухшего костра и о чем-то шептались.
«Пусть созревают», – подумал я и с чувством исполненного долга уснул.
Утром оказалось: хвостолапы за ночь неожиданно быстро созрели. Это проявлялось в прекрасной организованности при решении насущных бытовых проблем. Все были предупредительны и крайне доброжелательны друг к другу, без напоминания хватались за любую работу. В глазах у каждого горел загадочный огонек. Создавалось впечатление, что группа – единый организм. Честно говоря, я не ожидал такой быстрой реакции, но все равно искренне порадовался.
Меньше, чем за час, мы позавтракали, свернули лагерь, упаковались в лодках и дружно замахали веслами. На следующей ночевке, вечером, разговоры у костра постоянно вертелись вокруг легенды о городенских монахах. Каких только предположений я не услышал. Среди них были и весьма разумные. Степаныч, по-видимому, самый мудрый среди нас, поделился своими догадками. Он, как оказалось, неплохо знал историю здешних мест. В его гипотезу о местонахождении клада входили все известные ему факты о тех временах и нравах. Он считал, что вполне можно допустить существование нетронутого клада. Весомость аргументов не только окончательно доконала мою группу, но и меня самого несколько смутила. После его выступления Галка заерзала, закатила глаза и предложила наплевать на поход и завтра же утром срочно отправиться по следам монахов, и немедленно найти тайник.
Возникла тяжелая пауза. Все, не мигая, смотрели на меня.
Я встал, поправил косынку на шее и очень важно и серьезно заявил:
– Согласен.
Народ взвыл от счастья.
Итак, цель была определена, осталось разработать детальный план и неукоснительно ему следовать. Я не вмешивался. В конце концов, какая разница между походом и экспедицией? Все равно комаров придется кормить, веслами махать, да и трасса экспедиции к тайнику совершенно случайно совпала с ранее намеченным походным маршрутом. Но про это, кроме меня, никто не вспомнил. Им не до того: они собрались искать клад, остальное – неважно.
Искать тайник решили на территории заброшенного старинного монастыря. (Там удобнее разместиться с лагерем: и родник рядом, и лес под боком, и небольшая речка есть. Орша.) Развалины монастыря находились километрах в трех от Волги и в двух днях ходьбы на веслах от того места, где мы сейчас стояли.
Через полтора дня, к обеду, мы прибыли к точке разгрузки. Представляете, с какой скоростью мы плыли? Лодки спрятали, вытащив на берег. Быстро перекусив, напялили рюкзаки и дружно отправились к монастырю, несмотря на жару.
Ближе к вечеру, хорошо пропотев, мы благополучно добрались до монастыря.
Нам открылась грустная картина.
Развалины всегда грустная картина.
Храм сохранился лучше остальных построек. Вся площадь, занимаемая монастырем, когда-то была обнесена каменным забором, построенным, по-видимому, в более поздние времена. Забор огораживал территорию примерно триста на триста метров. По углам угадывались небольшие башенки. Храм стоял в центре этого четырехугольника. Остальные постройки либо вообще отсутствовали, либо были в таком состоянии, что трудно было догадаться об их назначении. Свалив рюкзаки в кучу, мы все зашли в храм.
Вам знакомо ощущение невесомости, когда после длинного перехода снимаешь рюкзак?
Не идешь, а подпрыгиваешь.
Правда, необычное ощущение?
Из трапезной через дыры видно небо. Купол над алтарем сохранился. Каменная лестница винтом ковыляла на остатки от колокольни. Кое-где на стенах виднелись небольшие фрагменты фресок, но понять сюжеты – невозможно. Кругом мусор, полусгнившие деревяшки, вывернутые из стен камни.
Хвостолапы разбрелись по развалинам. Никто не высказывался. Не ожидали… Грустно все это…
Лагерь поставили за территорией, недалеко от родника. Ребята притащили сухое дерево и распилили его. Дров теперь должно хватить на пару дней. За ужином, естественно, разговор крутился только вокруг монастыря. Степаныч считал: монахи не дураки и наверняка устроили тайник не на территории монастыря, но и не слишком далеко. Остальные согласились и готовы были облазить все окрестности в поисках клада.
Пусть изучают родимый край, от этого, кроме пользы, никаких последствий не предвиделось.
Родимый край в радиусе двух километров изучился довольно быстро. Никаких намеков на тайник обнаружено не было. Степаныч говорил, что клад в любом случае должен быть отмечен каким-то знаком, который обязан пережить века, чтобы дойти до нас… А как по-другому? По-другому никак! По-другому попробуй найти этот клад!
Значит, знак – нелапотворный.
Причем хитрый и неприметный.
Например, какой-нибудь большой камень.
– А на нем надпись: «Налево пойдешь…» – пробурчал Володя.
Камня, естественно, не нашли. А также не нашли вообще ничего, хоть как-то указывающего на наличие тайника. Зато нашли беличий домик в дупле. Пушехвостая хозяйка совсем и не испугалась незваных гостей и даже проявила некоторое любопытство и участие. Блестящие, умные глазки смотрели на ребят и о чем-то говорили. Очень важное и нужное.
Знать бы этот язык, понять бы…
Наградив белку сухариками, ребята оставили её в покое. А может она сама так решила, и оставила их в покое? Как знать?
Вечером засиделись допоздна. Луна, белоликая красавица, расстелив серебристые волосы нам под лапы, смотрела, не мигая, на монастырские стены. Идея посетить монастырь в такой неурочный час с моей помощью родилась сама собой.
Ну и поперлись.
Сдуру.
Чем ближе мы подходили к храму, тем тише себя вели. В результате в храм не вошли, а проскользнули незаметными тенями. Сбившись в кучку посередине трапезной, шепотом стали выяснять, на кой ляд мы сюда притопали. Неожиданно Галка тихо пискнула и молча стала тыкать лапкой в сторону одной стены. Мы посмотрели на стену и тоже хором тихо пискнули. Небольшая часть стены светилась неяркими зелененькими точками. Точки были разбросаны совершенно хаотично и напоминали звездное небо. А вот границы явления были строго определены. Метр на полтора, причем вверху – полукругом.
– Что делать? – спросил меня Семеныч.
Извечный русский вопрос… Как трижды прав Классик, затронувший в своих размышлениях русскую душу и бытиё бренного тела! Вы что?! Это же не из той оперы! Пардон, пардон, больше не буду… Мешать… В одну кучу…
– Так что же делать?
– А ничего, – ответил я. – Утро вечера мудрючнее. То есть, ну, в общем, умное утро. Всегда. Завтра разбираться будем.
– А может, выковырнем одну звездочку ножиком? – предложил Володя.
– А вдруг она радиоактивная? – мимоходом заметил я.
Все пискнули еще раз.
Нет, и все-таки, как трижды прав…
Тихо и осторожно, стараясь ни до чего не дотрагиваться, мы вернулись восвояси. Догоревший костер шевелился седым мерцающим пеплом. После перенесенного стресса наши палатки показались уютными и безопасными. Мы молча разбрелись.
Утро на самом деле оказалось вечера мудренее. После завтрака хвостолапы весьма серьёзно занялись подготовкой к исследовательской экспедиции – изучать светящуюся стену, и, захватив с собой все, что только представилось возможным захватить, отправились в приключение.
В храме – порядок. Все на своих местах. Никаких намеков на ночные звездочки. Каменная кладка стены ничем не отличалась от остальных стен. Только на ней не сохранилась штукатурка. Камни были голые. И никаких светящихся точек. Это нас не смутило: очевидно, свечение можно заметить только в темноте! Собственно, изучать-то было нечего. Ничего необычного или интересного. Камни как камни. Степаныч решил выворотить один из них и забрать с собой, а потом, на работе, подвергнуть детальному исследованию.
На том и порешили.
Выворотить оказалось не так-то просто. Наши предки умели строить (не то, что некоторые). Разозленный неподдающимся камнем, Володя, в сердцах, со всей дури ахнул по нему обухом. Камень неожиданно легко юркнул в стену. Вместо него открылась черная дыра. Володя заглянул в дыру.
Темно.
Из дыры пахнуло прошедшими веками. Ребята облепили дыру, как тараканы.
– Это клад! – уверенно заявил Степаныч.
Дальше все происходило как во сне, только очень быстро и даже, можно сказать, судорожно. Дыра расширялась на глазах и скоро превратилась в проем размером метр на полтора, вверху – полукругом.
Вход в тоннель! Не точно!
Вход в подземный ход! Не красиво!
Таинственное начало чего-то! Длинно!
Забодал ты меня! Отстань! Понял, пробуй сам.
Дыра, обложенная каменной кладкой, резко уходила вниз!
Ну вот! Теперь дыры ходят. Сами. Пешком…
На коротком производственном совещании с единственным пунктом «Что делать?» мы решили вернуться в лагерь и отдохнуть.
Извечный русский вопрос… Как трижды прав Классик…
Впрочем, об этом я уже…
Вот вам и здрасте! Вот вам и баба Нюра! (Ответ классику.)
После обеда, прихватив большой пустой рюкзак для злата и серебра, фонарики, длинную веревку, мы отправились в монастырь. Я стал спускаться в подземный ход первым. Девчат решили оставить наверху. Мало ли что…
В затылок сопел Володя.
Ход – длинный.
Пройдя около двадцати метров, я остановился.
Жутковато.
Звуки голоса мгновенно затухали, такое впечатление, как будто говоришь в вату.
Впереди, кроме каменной кладки уходящего вдаль тоннеля, ничего не видно.
Володя – прямо в ухо:
– А вдруг там скелеты лежат?!!
Все.
Устал.
Уже ПЯТЫЙ час пошел!
Скоро рассвет…
Тихо-то как!
Пойду, поджарю блинчики. Знаете, такие полуфабрикаты продаются. «Блинчики с мясом» называются. А то титилинские сосиски надоели до невозможности.
Итак, продолжим. С новыми силами.
Володя – прямо в ухо:
– А вдруг там скелеты лежат?!!
Я вздрогнул.
– Ну, да… И зубами щелкают. Посвети-ка лучше вот сюда. Видишь?
– Вижу.
– Смотри, головкой не стукнись. Головку беречь надо…
– Я думал, в подземном ходе сверху капать будет.
– Да пригнись ты! А то думать нечем будет!
– Что это? Железяка какая-то… Ржавая.
– Дай посмотрю. Ладно, потом разберемся, пошли дальше.
– Ну, вот и пришли…
Нас остановил завал. В этом месте свод рухнул, образовав вверху нишу. Вернее, рваную полукруглую щель.
– Тащи лопату.
Остаток дня мы расчищали завал. Это была серьезная работа. Участвовали все, даже женщины. Я командовал.
К вечеру вымотались так, что на посиделки у костра никто не остался. Быстро поужинали и завалились спать. На следующий день завал был окончательно расчищен, и мы продолжили путешествие по подземному ходу. Кончались батарейки для фонариков. Остался только один свежий комплект, пришлось экономить. Попробовали факел – не получилось, без вентиляции от дыма некуда деваться. Неудачный эксперимент отбросил наши исследования еще на один день. Пока проветривалось.
Зато появилась возможность нормально отдохнуть и спокойно осмыслить происходящее. Нас волновал вопрос: куда ведет ход. Когда экспериментировали с факелами, удалось добраться до следующего завала. Он находился довольно далеко, расчистить его трудно, а может быть, и невозможно: нет нужного инструмента, не в чем выносить землю, а самое главное – проблема с освещением. Длина подземного хода до второго завала (по моим замерам) – двести тридцать семь шагов. Это приблизительно сто десять метров. Ход не был прямым, он плавно поворачивал то влево, то вправо, поэтому представить, куда он направлялся, – сложно, только примерно. Весьма примерно. Я знал: достичь заветной цели нам не удастся. Мы были не готовы. Но и резко останавливать ребят – нечестно. У нас же еще есть время – несколько дней.
Проблема за проблемой! Мы старались найти выход. Но «выход» постоянно ускользал. Был только вход. И то не тот! (См. В. Высоцкий. Песня.) Я понимал, какой удар хватит всю мою группу, когда станет очевидной наша несостоятельность. Когда все поймут, что клад уплыл прямо из-под носа! Ведь вот он! Еще чуть-чуть – и бери – голыми лапами!
Пора было переключать ребят.
Назрело время «Русалок».
Однажды на турбазе, оказавшись по какому-то делу на кухне, я увидел, как повара чистили огромных рыбин. Чешуя от них тоже была огромная. Я раньше такую никогда не видел! Это меня поразило, и я, на всякий случай, набрал себе суперчешуи. Что с ней делать, тогда еще не придумал. Но потом мне пришла в голову мысль: наверное, именно такую чешую я видел только на русалках. И стал дурить голову всем желающим: мол, имею чешую, которую собрал в том месте, где русалки на дереве сидят! А где именно – не признавался. Кто-то верил, кто-то нет, но веселились все.
Так вот.
Я решил провести операцию «Русалка».
Недалеко от нас (очень кстати) протекала маленькая речка Орша. Дождавшись, когда лагерь уснет после тяжелого трудового дня, я сбегал к речке и, выбрав там, недалеко от воды, подходящее дерево, насыпал под ним чешуи. В самом лагере, около входа в продуктовую палатку, сделал то же самое. В палатке же все перекопал и навел беспорядок. У костра тоже насыпал чешуи и раскидал печенье и конфеты, надкусив их. Налив в кружки чай, расставил эти кружки вокруг костра, предварительно испачкав края помадой. Потом, раздув угли, подложил дров.