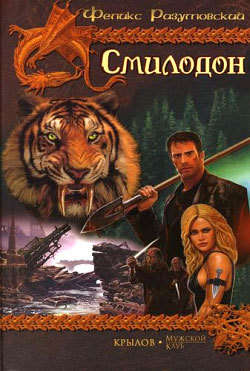Читать книгу Смилодон в России - Феликс Разумовский - Страница 9
Часть I
Арап Копта Великого
IX
ОглавлениеУ каждого своя охота. Пока Буров и Калиостро изводили крупных хищников, Потемкин и Анагора тоже времени зря не теряли. Владыка Тавриды, оказывается, увез порнодионку к себе, и возвратилась та лишь на третий день – усталая, красивая и заневестившаяся, с бесстыдным блеском в ошалелых глазах. От переизбытка впечатлений, от переполнявших ее чувств она сделалась убийственно болтлива, требовала внимания и перманентного общения и, позабыв про такт, сдержанность и стыд, работала языком, словно метлой. Скоро Буров – да что там Буров! – все узнали, что князь Таврический неутомим, как бык, любвеобилен, страстен и в махании амурном[191] зело приятен, обожает грызть сырую репу, редиску и морковь, а министров принимает по-простому, не церемонясь, – босиком, в халате нараспашку, с голой грудью. Ну право же, такой Геракл, Аполлон Таврический, шарман и симпатик. В нее же, Анагору, влюбился без памяти, подарил горсть бриллиантов, жемчугу несчитано и, как пить дать, скоро предложит руку и сердце. И небезответно, видят боги, небезответно…
Если и раньше девушка блистала больше ляжками, чем умом, то теперь вообще… Словесный понос прогрессировал в вербальную дизентерию. По идее, конечно, фонтан этот следовало немедленно заткнуть, а Анагоре указать, чтоб впредь держалась скромнее, да только Калиостро было не до того: его (правда, за глаза), обозвали вором, мошенником, банальным шарлатаном и вызвали на дуэль с правом выбора оружия. Лейб-медик Роджерсон расстарался, распушил хвост, как видно, усмотрел опасного соперника, каналья. Вероятно, не понравилось ему, что заезжий маг вылечил графиню Бобринскую от родильной лихорадки, бригадира Ротмистрова – от падучей и паралича, а княжну Волконскую – от падагры, сепсиса и прогрессирующего слабоумия. Самому-то слабо, теперь вот, гад, и выступает. С одной стороны, это было даже хорошо – реклама двигатель торговли, а вот с другой… Лишняя потеря времени и нервов. Как бы там ни было, а наглецу следовало дать достойнейший отпор, так, чтобы и императрица поняла – Калиостро прибыл с серьезными намерениями.
– Проткните его шпагой, брат магистр, и всего делов, – с убийственным спокойствием посоветовал Елагин, и ноздри его носа хищно раздулись. – Насадите этого мерзкого червя на булавку. С вашими-то способностями, мессир, это раз плюнуть.[192]
Сам он убивал людей неоднократно и особых угрызений совести по этому поводу не испытывал.
– А может, все же лучше взорвать его к чертям собачьим? – выразил сомнение хмурый Мелиссино, и худощавое, породистое лицо его несколько оживилось. – Пуд, а лучше два, пороху в карету. Правда, лошадей и кучера жаль…
Человек военный, привыкший мыслить с размахом, он во всем любил основательность и масштабный подход.
– Да бросьте вы, брат, ваши игры в Суворова. Шум, гам, кому это нужно? – отозвался Разумовский, сделал резкий жест, поднялся с кресла и с учтивым поклоном повернулся к Калиостро: – Одно ваше слово, великолепный брат магистр, и от этого лекаришки не останется и следа. Ну разве что круги на воде. Или небольшая кучка земли. Только дайте знать.
Практик и прагматик до мозга костей, он привык всегда действовать по принципу: не эффектность, а эффективность.
– Братья, вы, похоже, забыли, что In Nobis Regnat Iesus.[193] Ну право же, так нельзя. – Строганов порывисто вздохнул, сделался угрюм и сосредоточен. – Может, дать этому Роджерсону денег? Много! Чтоб угомонился!
У него самого денег было столько, что никогда никаких проблем ни в чем не возникало.
– Браво, брат! Все правильно, пусть угомонится. – Мелиссино с чувством кивнул, и в больших оливковых глазах его вспыхнули огни. – А выждав время, мы его успокоим навсегда…
Послушал-послушал Калиостро единомышленников, посоветовался с Spiritus Directores,[194] да и послал лейб-медику ответ, писанный с иезуитской изощренностью: мол, ладно, заметано, согласен, дуэли быть. Только не банальной, а с токсическим уклоном: каждому надо будет выпить яд противника, а затем, само собой, не откладывая дело в долгий ящик, нейтрализовать отраву. Чтобы самому в ящик-то… Так что чье противоядие будет лучше, тот и победит. Хотя, без сомнения, антидот царя Митридата,[195] полученный им, Калиостро, от самого изобретателя, является самым действенным уже на протяжении двух тысяч лет. В общем, пишите завещание, готовьте дубовый макинтош, обувайте белые тапки. До встречи.
Только рандеву не состоялось, более того, Роджерсон даже не ответил на послание – поскучнел, притих и заткнулся с концами. А Калиостро, дабы неповадно было, подверг несчастного лейб-медика еще и энвольтованию:[196] вылепил его восковую копию, истыкал ее иголками и в конце концов превратил в бесформенную массу. И долго потом несчастный эскулап страдал желудком, головой и вялостью члена, проклиная тот день, когда связался с этим поганым итальянцем, продавшим – и это уж как пить дать! – свою ничтожную душонку дьяволу…
А между тем все-таки пришла весна. В парке у Елагина просели сугробы, прямо по Саврасову прилетели грачи, с крыш бессильно свесились фаллосы сосулек, снежное убранство города превратилось в талую грязь. И сразу стало обескураживающе ясно, что улицы в основном стланы досками,[197] берега Невы лишь в малой своей мере забраны в гранит,[198] а канализация еще только строится.[199] Зато набухли почки в скверах и садах, извозчики сменили сани на роспуски и дрожки, и Медный всадник расстался наконец со своей белой, словно саван, пелериной. Весна пришла в стольный град Петров, зажурчала мутными ручьями, обозначилась колесным скрипом, зачирикала по-воробьиному, разразилась судорожным кошачьим мявом. Весна… Пора любви, страстей и пения гормонов. Время совершения ошибок, подвигов и несусветных глупостей…
Да уж… Князь Таврический, к примеру, разошелся не на шутку, повадился теперь по три раза на неделе умыкать порнодионку в свой чертог, естественно, на ночь глядя, с концами, до утра. Анагора возвращалась взволнованная, счастливая, преисполненная эмоций, демонстрировала подарки и делилась впечатлениями. Со всеми смачными подробностями, скорее интимными, чем пикантными, коих в нескончаемых ее россказнях содержалось множество. В общем, вела себя глупо, вызывающе, громко кликала невзгоды на свою дурную голову. Однако Калиостро пока не вмешивался, сопел, хранил зловещее молчание – ждал, когда же все-таки князь Таврический устроит ему встречу с императрицей. Пора бы уже, пора, сундук с проклятым металлом поспел, давно дошел до нужных кондиций. Все, что должно было быть утроено, – с гарантией утроено. Так что хорошо бы деньги против стульев, как и уговаривались. А потом, откровенно говоря, великому волшебнику было просто некогда – он взял работу на дом. Собственно, подбросили враги, а отказаться не было никакой возможности.
А случилось так, что у графа Рокотова смертельно занемог наследник, единственный сынок, грудничок-кровинушка, одиннадцати месяцев от роду. Консилиум эскулапов с лейб-медиком во главе вынес беспощадный вердикт: исход, без сомнения, летален, наука медицинская здесь бессильна. И тут сволочь Роджерсон, желая насолить, с наигранным участием заметил:
– Ну разве что поможет волшебство. Обратитесь-ка вы к графу Фениксу. Вот кто дока по части чудес, так уж дока, говорят, для него нет ничего невозможного.
Утопающий хватается за соломинку. Безутешный отец привез Калиостро кучу золота, привет от Роджерсона и больного младенца. Вернее, доставил уже отмучившимся. Куда волшебнику податься – пришлось взять, с условием полного выздоровления где-то в течение месяца: именно за это время без труда можно вырастить приличного гомункула. И вот на крылах надежды граф Рокотов отчалил, а Калиостро, проклиная свою долю, принялся за спагирическое,[200] действо. Алхимическая процедура была хоть и отлажена, но весьма непроста: сперва требовалось поместить человеческое семя в плотно закупоренную бутыль, затем бутыль – в лошадиный навоз и уж только потом заниматься истечением флюидов – «магнетизированием». Итак, все началось со спермы. С тонкой проницательностью Калиостро понял, что наследник мавр или индус будет графу Рокотову явно не по душе, а потому озадачил в плане семени посвященного из Монсегюра. Тот, несмотря на consolamentum[201] принес в избытке, лошадиный навоз тоже нашелся без труда, и процесс пошел. А труп законного наследника графа Рокотова Калиостро расчленил, извлек arcanum sanguinis hominis,[202] коагулировал и заключил в нефритовый сосуд, запечатанный именем Невыразимого. Пусть будет, пригодится.
Однако Бурова все эти алхимические дебри трогали мало. Ему больше нравилось бродить среди зарослей елагинского парка, думать о своем, смотреть на черные скелеты кленов, с чувством, не спеша, месить размякшие хребты аллей. Ласково светило солнышко, с бодростью свистели птички, мысли были добрые, несуетные, ленивые. Ползли себе по кругу обожравшимся питоном. Сытым, тяжелым и пока что неопасным. Эх, хорошо, когда некуда спешить… И вот однажды, когда все вокруг дышало миром и великолепием, а на душе у Бурова царила полная гармония, из-за деревьев вышли трое. Вразвалочку, с оглядочкой. Ба, знакомые все рожи – это были три богатыря от Орлова-Чесменского: Ботин, Соколин да Сема Трещала. Мудозвоны, клоуны тряпичные, уже как-то битые Буровым на невском льду. Неужели им, падлам в ботах, все мало! А утро-то такое благостное, а солнышко-то такое ласковое, а на душе-то так уютно, приятственно. Не дай Бог какая сволочь нарушит гармонию. «Ну все, если только сунутся, убью, – твердо, про себя, решил Буров, насупился и непроизвольно потянулся к сапогу, где покоился испытанный в мокром деле ножичек. – Загрызу, придушу, четвертую и утоплю в пруду. Вот ведь суки, неймется им!»
Однако богатырская рать пришла не «на вы», с миром.
– Ну, что ли, здравствуй! – сразу покладисто сказал Соколик и горестно вздохнул. – Эфиоп ты наш рукастый!
Говорил он, из-за выбитых зубов, шепеляво, а выглядел, из-за свернутого клюва, неважно.
– И ногастый! – с вескостью подтвердил Ботин и непроизвольно тронул плавающие заживающие ребра. – Еще какой…
– По здорову ли, Маргадонушка? – протянул огромную, лопатообразную ладонь Трещала, и щекастое, все еще обвязанное тряпицей лицо его умилилось улыбкой. – А мы ведь, сударик, к тебе по делу. Их сиятельство граф Орлов-Чесменский прислали. С поручением.
Он кашлянул, выдержал недолгую паузу и начал разговор издалека.
– Волшебник-то твой как, харчем не обижает? А денежным припасом? А блядьми? Как живешь-то, Маргадонушка, можешь? Не тужишь?
– Да шел бы ты, сударик, к нам, от своего-то нехристя, – с ловкостью встрял в беседу ухмыляющийся Соколик и мощно крутанул тростью, какую по причине нездоровья держал теперь в руке вместо «маньки». – Граф Алексей Григорьевич магнат, фигура видная, не обидит. Да и в обиду не даст. Опять-таки прокорм, полнейшее довольствие, почет и уважение. И по блядской части изрядно. Скажи, Семен?
– Еще как изрядно, – с важностью кивнул Трещала, крякнул, сунул руку в карман штанов и энергично почесался. – Давай, давай, Маргадонушка, сыпь к нам. Кулобой[203] ты заправский, знатный, будешь у их сиятельства словно сыр в масле кататься.
– Все рыло будет в меду и в молоке, – веско пообещал Ботин, высморкался и снова тронул стонущие плавающие ребра. – Так что передать их сиятельству графу Орлову-Чесменскому?
И ведь спросил, гад, точно с интонацией покойного Филиппова из бессмертного шедевра про Ивана свет Васильевича, который все меняет свою профессию: «Так что передать моему кеннингу? Кемский волость? Я, я».
– Передай, что сразу соглашаются только бляди, – с твердостью ответил Буров, сухо поклонился и сделался суров. – А еще скажи, что Маргадон благодарит за честь и будет думу думать. Дело-то ведь непростое, нешутейное. А как надумает – свистнет.
Все правильно – отказаться никогда не поздно, а запасной вариант, он карман не тянет.
– Так ты смотри, передай Маргадону, чтобы он… Тьфу… В общем, давай, давай побыстрее, не томи, – обрадовались богатыри, с чувством поручкались с Буровым и с важностью отчалили.
Глядя на них, Буров вспомнил дурацкий, да к тому еще и бородатый анекдот про Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, который был вечно недоволен происходящим. «Не хочу! Не буду! Не стану! А-а-а!» Вот ведь память стерва, так и тянет зубами и когтями назад в прошлое, в прожитое, в двадцать первый век. А может, оно и к лучшему. Как там говорили-то древние – пока я мыслю, я живу? Фигушки. Пока я помню, я живу.
Где-то до полудня прогуливался Буров, любовался на белочек, панибратствовал с природой, а проголодавшись до кондиций санитара леса, отправился обедать, благо процедура столования у Елагина была проста, необременительна и поставлена широко, по хлебосольному принципу: нам каждый гость дарован Богом. Любой мог заглянуть на огонек, главное лишь, чтоб был он «видом приятен и ликом не гнусен», то есть в доброй одежде, с хорошими манерами и не на рогах, а на ногах. Сейчас же на пороге аванзалы к нему подскакивал лакей в ливрее, трепетно, с бережением снимал шубу, принимал с поклонами шапку и трость и препровождал к столу, уставленному водками, икрой, хреном, сыром, маринованными сельдями, ветчиной, бужениной, колбасами и эт сетера, эт сетера, эт сетера…,[204] Это был совершеннейший фуршет, здесь правил дух самообслуживания. Зато уж когда, изрядно выпив и, само собой, как следует закусив, гость подавался в соседнюю, освещенную в два света залу[205] сразу же к нему спешил улыбающийся дворецкий и с поклонами усаживал за необъятный табльдот. Мгновенно появлялись меню, салфетки, расторопнейшие лакеи и, как следствие, все благоухающие изыски русских и французских кухонь. Нежнейшие, свежайшие, восхитительнейшие на вкус. Да еще на халяву. А на нее, родимую, говорят, и уксус сладок.
– Филимон, отнеси ко мне. – Буров сбросил беличью, крытую бархатом кирею, сдвинул набекрень чалму и бодро, сглатывая слюну, направился к закусочному столу – угощаться балычком, икрой, редиской и прочими разносолами. Горячительного днем, а тем более наедине с самим собой он старался не употреблять – стрессов ноль, впечатлений минимум, так стоит ли понапрасну травить организм? Вот пожрать… Народу, то ли по причине раннего времени,[206] то ли ввиду раскисших дорожек, решительно не было – Буров индивидуально взял на зуб рыжиков под хреном, съел в охотку копченого угря, принял от души икры, паюсной, зернистой и с оттонками, отдал честь стерляжьему присолу, потребил изрядно заливного и ветчины и, преисполненный энергии и желудочного сока, отправился в обеденную залу. И сразу словно очутился на литературных чтениях – над табльдотом взмывали, барражировали, заходились в пике рифмованные строки. Только вот изящной словесностью здесь и не пахло – густо отдавало борделем, похотью, альковом, задранными юбками и спущенными штанами. А декламировал, размахивая вилкой, тощий, занюханного вида человек с лицом испитым, ерническим и донельзя блудливым. Возраст его был так же неуловим, как и взгляд бегающих глаз – мутных, потухших и остекленевших, какие бывают у людей с тяжело травмированным носом. Чувствовалось, что человек этот горячечно, невероятно пьян, но тем не менее еще способен покуролесить изрядно. Публика на матерную декламацию реагировала по-разному: Лоренца, плохо понимавшая по-русски, скучающе зевала, индус, начхав на слог и рифму, замозабвенно пил, скалящийся Мельхиор радовался жизни, а какой-то господин – при добром сюртуке, бриллиантовой булавке и сыне, один в один фонвизинском недоросле, косился в сторону Елагина недобро, с гневом – ай да бардак, ай да непотребство, в доме у директора-то театрального! Мат, срам, лай, блуд, стоило вести дите кормиться в этакий-то вертеп. Завтра же их светлости графу Панину все будет доложено в полнейшей обстоятельности…
Сам же хозяин дома смотрел на декламанта с уважением, благоговейно, трепетно внимал каждому его слову, млел и одобрительно кивал: «Ах, какой слог! Какой стиль! Вот он, пример для подражания![207]».
«Э, да никак это Лука Мудищев! – Буров, в бытность свою юниором начитавшийся всякого, сел за стол, заказал похлебку из рябцов с пармезаном и каштанами и взялся за расстегайчик с вязигой. – И, разрази меня гром, в исполнении автора![208]»
– Мелки в наш век пошли людишки:
Уж нет хуёв, одни хуишки, —
выдал между тем поэт, вспомнил про огурец на вилке, смачно откусил и громко, на смущение всем, жуя, глянул многозначительно на Лоренцу:
Без ебли, милая, зачахнешь,
И жизнь те будет не мила.
Смогу помочь такому горю,
У мя саженная елда.
– Мерси за угощение. Премного благодарны, – молвил, не дождавшись сладкого, осюртученный господин, с резкостью поднялся и грубо поволок из-за стола красного от восхищения недоросля. – Пошли, обалдуй, пошли, обормот. Нечего тебе это слушать, уши отпадут.
Да-да, завтра же их светлости графу Панину в полнейшей обстоятельности…
– Ну вот еще, не зачахну, – наконец-то переварила сказанное Лоренца, и прекрасное, словно у Рафаэлевой Мадонны, лицо ее сделалось печально. – У меня ведь есть муж, законный супруг… Граф Феникс, не слыхали?
Печалилась она не просто так: Великий Копт в последнее время дневал и ночевал в ротонде, у кучи лошадиного дерьма, где находилась герметичная емкость с зародышем будущего гомункула. Вот уж воистину – сажать вручную человека[209] дело непростое и хлопотливое.
– И слышать не желаю. – Фыркнув, литератор выпятил губу, грузно, словно куль с мукой, плюхнулся на стул, осоловелые глаза его стали закрываться. – Что нам графья, тьфу! Нас матушка императрица слезно благодарила, столом обильным трактовала и серебром жаловала…[210] Самодержица наша… Надежа и опора… Помазанница Божия… Так их всех, растак… И этак… Ебли ее и молодые, и старые, и пожилые, все, кому ебля по нутру, во вдовью лазили дыру…
Он оглушительно рыгнул, витиевато выругался и, ткнувшись мордой в раковые шейки, громоподобно захрапел. Со стороны казалось, будто он отдает черту душу.
– Какой дар Божий! Талантище! – Елагин уважительно вздохнул, почтительнейше склонил седую голову и пальцем, так, что брызнули рубиновые сполохи, поманил улыбчивого дворецкого. – Почивать господина поэта отведи в розовую гостиную. А как проснется, похмели по моей методе,[211] посади в экипаж и облагодетельствуй, – на мгновение он замолк, кашлянул и самодовольно хмыкнул, – двумястами рублями, серебром.
Глянул, как трепетно, с великим бережением Баркова потащили из-за стола, выпил не спеша чашку кофе, встал и, с дружеским расположением кивнув гостям, тоже подался из трапезной – к себе, в кабинет, работать. Думать, как изобразить явление свиньи народу на сцене Эрмитажного театра. Той самой, из-за которой их сиятельство граф Нарышкин грызся с их светлостью княгией Дашковой.
«Да, что-то плох столп срамословия, видно, скоро ему в камин».[212] Буров между тем приговорил похлебку, споро разобрался с филеем по-султански, справился с говядиной, гарнированной трюфелями, и стал приделывать ноги бараньей ноге. Расхристанный матерщинник-рифмоплет его не впечатлил. Все его словоблудие от несварения желудка, от желания выпендриться, от банальной зависти к более удачливым. Чьи музы, естественно, дешевые бляди.[213] И почему-то вспомнился Бурову зоновский простецкий вийон[214] Паша по прозвищу Крендель, оставшийся там, в лагере, в двадцать первом веке. Тот вот не бравировал знанием физиологии, не бубнил по муди на блюде, не хвалился личным опытом в области «женоебли». Нет, писал о том, что наболело, искренно, от души:
Автомат глядит мне в спину,
Как на стрельбище – в спину мне.
Этапирую на чужбину,
На чужбину в родной стране…
Или:
Звенят на ремне вертухая ключи,
Ночами он, падла, ногами сучит,
Вот взять бы его за очко посильней,
Чтоб, сука, не шастал у наших дверей…
Верно говорится, что бытие определяет сознание. Посадить этого Баркова в БУР этак на месяц – быстренько забудет про любовь и начнет сочинять вирши про жратву. Какой стол, такова и музыка…
Так, в раздумьях о возвышенном, Буров отдал честь «гусю в обуви», не погнушался горлицами по Нояливу и бекасом с устрицами, потребил гато из зеленого винограда, выпил кофе с «девичьим» жирным кремом и почувствовал вдруг с несказанным удивлением, что не то что есть – смотреть на еду не может. Пора было переходить от принятия пищи к активному приятному ее усвоению. Буров так и сделал – проиграл пару партий монсегюрцу в шахматы, побродив по галерее, пообщался с фламандцами и, испытывая потребность в энергичных движениях, потянул Мельхиора в фехтовальную залу – тот совсем неплохо махал эбеновой дубинкой и бронзовым палашом-кхопишем. В общем, день как день, даром что весенний – блеклый, неинтересный, отмеченный ничегонеделаньем. Примечательного ноль. Тоска. Впрочем, здесь Буров ошибался, опережал события – вечер-то выдался занятным, и весьма, полным таинственности, экспрессии и интриги. А уж эмоций-то, эмоций…
Сразу после ужина раздался стук копыт, весело всхрапнули осаженные лошади, и в аванзале послышались шаги – это явилась не запылилась Анагора, загостившаяся у Потемкина. Но Господи Боже ж мой, в каком виде! Бледная, зареванная, в сбитом набок «шишаке Минервином».[215] Судорожно всхлипывая, закусив губу, она молнией метнулась к себе, только выбили невиданную чечетку башмачки-стерлядки[216] да обмел наборные полы подол «робы на манер принцессиной», чертовски пикантной. Хлопнула дверь, застонала кровать, раздались рыдания. Похоже, рандеву выдалось не совсем удачным.
«Вот-вот, зачем вы, девочки, богатых любите», – посочувствовал порнодионке Буров и отправился по новой в фехтовальный зал, а тем временем для установления истины и принятия адекватных мер из ротонды был вызван Калиостро. Скоро к делу подключился Елагин, и начали открываться подробности. Таинственные, жутко интригующие. История, случившаяся с Анагорой, была необычайна и не то чтобы завораживала – настораживала. Когда, размякшая и счастливая, возвращалась она от князя, то, естественно, даже не заметила, как на облучке поменялся кучер. Вскоре заехали в какой-то двор, карета встала, и незнакомый зверообразный человек завел ее, бедняжку, в мрачную комнату. А там седенький старичок сидит под образами, просфору жует, весь такой ласковый, благостный, приветливый. Здравствуй, говорит, душа-девица. Не стесняйся, милая, будь как дома. И с улыбочкой эдакой располагающей указует Анагоре на кресло. Садись, милая, садись. В ногах правды-то нету. Пытать ее надо, родимую, пытать…
Анагора, еще не понимая ничего, взяла да и села. И тут же хитроумная механика приковала ее руки к подлокотникам, а само кресло провалилось вниз, так что над полом остались лишь голова и плечи. Жуть. Однако это были еще цветочки. Снова, видимо, сработала хитрая механика, так как кресло вдруг осталось без сиденья, и опытные руки, заворотив подол, стали стаскивать с Анагоры панталоны, шелковые, французские, в блондах и кружевах, надетые с любовью для Потемкина. Трудно даже представить, что она, бедняжка, испытала в этот миг – ужас, стыд, смятение, позор. Неужели она попала в лапы к изощренным развратникам и сейчас у нее заберут все самое дорогое, что имеется в запасе у честной девушки? О, если бы так! Свистнул рассекаемый воздух, и от резкой, невыносимой боли Анагора обмочилась – это пошла гулять по ее бедрам, по сахарным, белоснежным ягодицам плеть-семихвостка. Еще хвала богам, что не кнут, кончик которого замачивается в молоке и высушивается на солнце, отчего становится твердым и острым, словно нож.[217] Старичок же с просфорой подошел, присел на корточки и ну давай учить Анагору жизни – ты-де, девка, под их сиятельство Григория Александровича не подлаживайся, а то будешь вечно с подрумяненной задницей. И языком-то, слышь, девка, не болтай, а то быстренько останешься без языка-то. У нас здесь с этим просто, без мудрствований. Ну, а потом вроде как подобрел и принялся вопросы задавать всякие разные: чем занят нынче маг Калиостро, да как его жена, да что за люди-человеки крутятся вокруг? Есть ли фармазоны, много ли жидов? А снизу все свистит-посвистывает семихвостая плеть, вольно похаживает себе по бедрам да по ягодицам. Ох! В самом кошмарном сне такое не привидится. От стыда, боли, потерянности и муки Анагора впала в какой-то жуткий ступор, она даже не заметила, как опять очутилась в карете, как откуда-то взялся прежний, тоже не понимающий ничего кучер и, мотая гудящей головой, трудно взялся за неподъемные возжи. Кто, что, откуда, зачем? Только-то и ясно, что у кого-то болит башка, а у кого-то адским пламенем полыхает задница. В общем, темная история, кромешный мрак, совершеннейшая тайна, сплошные непонятки.
Однако если и было что загадочного в случившемся, то только не для обер-гофмейстера Елагина.
– М-да, а ведь длинный язык доводит не только до Киева, – мудро, аки змей, заметил он, вытащил платиновую табакерку и дружески, с шутливой назидательностью воззрился на Калиостро. – А еще и до беды. Грация-то ваша болтливая, брат, побывала в гостях у инквизитора нашего российского, Степки Шешковского.[218] У мизерабля сего для подобных случаев оборудован особый дом в Аничковской слободе, неподалеку от пересечения Невского и Фонтанной. А кресло с секретом изготовил Ивашка Кулибин, механик при Академии.[219] Он мне еще машину делал в Эрмитажном театре для эллинских трагедий. Deus ex machina,[220] у меня теперь чертом из табакерки скачет.
Он шумно потянул ноздрями табачок, покрутил раздвоенным на конце массивным носом и чихнул, будто выстрелил.
– Такие вот, любезный брат, дела у нас в отечестве. Ежели глянуть в корень, Торквемаде-то нашему все едино, с кем машется Потемкин-Таврический, да только он не сам по себе – человек государственный. – Елагин хмыкнул с циничной откровенностью, опять оглушительно чихнул и, хоть были они в комнате с Калиостро вдвоем, с оглядочкой перешел на шепот: – А во главе государства-то кто? Матушка императрица. Вот ей-то совсем не по нраву, когда воруют у нее, а потом еще болтают языком.[221] Хотя, чаю, и сам Шешковский не без умысла. Нет бы просто поздравить задницу с праздником. Так ведь нет – вопросы, расспросы, высказывание интереса. Ищет все крамолу, пес, за то и обласкан, и в бриллиантовом ошейнике. Такому и кости не надо – дай только вцепиться в глотку.[222] Достукается – будет на живодерне… Вот с кого бы хорошо содрать шкуру. Ну а потом сделать чучело и поместить в Кунсткамеру, к уродам. Потому как монстр. Кстати, уважаемый мессир, как там поживает ваш гомункул? Магнетизировали уже? И каков же aquastor?[223] Удался?
Тихий голос его внезапно окреп, в сузившихся глазах вспыхнули огни, он даже забыл про открытую табакерку – так была приятна и близка ему алхимическая тема. Какая там императрица, происки Шешковского и рульный табачок! Гомункул, творимый из Mysterium magnum,[224] тщательно, в соответствии с архаусом, с полным отделением плотного от тонкого – вот это да!
– Весьма неплох, весьма. Дозревает, – не без профессиональной гордости ответил Калиостро, с пафосом вздохнул и ненадолго отвлекся от реалий плотной сферы. – Однако не так быстро, как хотелось бы. Слишком много abessi в Астрале, не тонкие планы, а сплошной rebis.[225] Ну ничего, я добавлю spiritus vitae,[226] подкорректирую evestrum.[227] Как это говорится у вас, русских? Будет как огурчик. Ха-ха…
Ужасная история, случившаяся с Анагорой, его нисколько не тронула – поделом же ей, этой шлюхе, дешевке и дряни, единственное достоинство которой только в том, что она приходится родственницей Лоренце. Дали ума в задние ворота – и славно, может, теперь задумается, не будет вешаться на каждого мужика. Между прочим, что это Потемкин молчит? Все тащит, как говорят здесь, кота за яйца? Пора бы ему расстараться с рандеву, пора. А то наобещал с три короба, золотишко взял и все, привет, с концами. Будто не ведомо ему, что с Калиостро шутки плохи. Вот останется сам без конца…[228]
– Могу ли я, достопочтенный брат магистр, – Елагин, вздрогнув от наплыва чувств, просыпал табачок, лицо его выразило благоговение, невиданный восторг и смутную надежду, – хотя бы на мгновение, одним глазком…
Господи, неужели…
– И не на миг, уважаемый брат, и не одним глазком, а не спеша и в полной мере, – несколько по-менторски ответил Калиостро и улыбнулся, как триумфатор. – Peu de science eloigne de Dieu, beacoup de science y ramena.[229] Вы согласны со мной, уважаемый брат?
Елагин был не против. Так что оба Hommes de desir допили выдержанное кипрское, кликнули слугу с масляным фонарем и направили стопы в ротонду, к куче дерьма. Там им было куда интереснее.
191
Махание – термин, обозначающий любовные проявления в самом широком понимании. Отсюда современное подмахивать.
192
По отзывам современников, Калиостро блестяще владел шпагой, причем обеими руками одинаково, и во времена своей буйной молодости угробил достаточно людей на дуэлях.
193
Нами правит Иисус (лат.).
194
Дух направляющий (лат.).
195
Понтийский царь Митридат VI Эвпатор (120—63 до н. э.), страшно опасаясь быть отравленным, плотно занимался вопросами антидотов, а разработав универсальное противоядие, долго принимал его, чтобы ввести в обмен веществ. И, как видно, перестарался: когда царю понадобилось отравиться, то все известные токсины оказались бессильны. Так что пришлось бедняге броситься на меч и унести с собой в могилу тайну бесценного препарата.
196
Обретение с помощью магических действий власти над астросомом и физическим телом человека.
197
Вымощены камнем были только три центральные улицы, примыкающие к Адмиралтейству.
198
Гранитная набережная была у Зимнего дворца, протяженность ее составляла около трех верст.
199
Прокладывали подземные кирпичные трубы шириною в три фута, работы велись под начальством генерала Бауэра.
200
То есть алхимическое.
201
Здесь – целибат. У Совершенных, жрецов катаров, существовало строжайшее табу на любые сексуальные проявления.
202
Тайная человеческая сила.
203
Кулачный боец.
204
И так далее (лат. et cetera).
205
Двухярусное освещение. Это говорит о солидных размерах помещения.
206
Обедать садились обычно позже.
207
Иван Перфильевич Елагин всю жизнь баловался похабной словесностью. Стихотворения его, весьма скабрезного характера, ходившие по рукам в многочисленных списках, пользовались популярностью и имели успех.
208
Речь идет о талантливом русском литераторе, авторе знаменитых непристойных стихов, поэм и пьес, Иване – то ли Семеновиче, то ли Степановиче, то ли Ивановиче – Баркове. Все в его жизни тайна – и рождение, и творчество, и смерть. Несмотря на потуги историков, информация, касающаяся поэта-срамословца, туманна, отрывочна и полна противоречий. Известно, что он учился в духовной семинарии, откуда и был изгнан за пьянство и кутежи. Не секрет, что ему покровительствовал Ломоносов и поручал готовить к изданию свои рукописи. Не вызывает сомнений и тот факт, что Барков был отлично образован и замечательные переводы из Горация Флакка – это его рук дело. А вот в остальном… Трудно, ох как нелегко проникнуть за туманную завесу истории.
209
Имеется в виду тот факт, что когда кого-то из великих, то ли Сократа, то ли Диогена, прилюдно занимавшегося сексом, спросили насчет характера действа, то ответ был таков: «Сажаю человека».
210
Имеется в виду слух, что будто бы именно Барков придумал знаменитую надпись на пьедестале Медного всадника: «Петру Первому Екатерина Вторая», за что и получил сто рублей серебром. Деньги, если верить поэту, были истрачены следующим образом:
Девяносто три рубли
мы на водку впотребли,
остальные семь рублей
впотребли мы на блядей.
Если учесть, что в те времена бутылка английского портера стоила двадцать пять копеек, пива – две копейки, красного бордоского вина – тридцать, то выпито, видать, было сильно.
211
Метода сия с позиций тех времен ничего особенного из себя не представляла и состояла в следующем: вначале щи – сквашенная в больших бутылях белокочанная капуста, в которую для вкуса и приятного брожения добавлялась пригоршня изюма, ну а уж затем густо перченный «кавардак» – род окрошки из разных рыб (стерляди, осетров, белуг и лососей), вязига с хреном и паюсная икра. И конечно, водочки, водочки, водочки, непременно холодненькой, настоянной на вишневых косточках. Помогало решительно всем.
212
По одной из версий, Барков покончил с собой, засунув голову в камин. На белый свет выглядывал лишь голый зад, из которого торчал очередной незаконченный опус.
213
Свою литературную деятельность Барков начинал как вполне лояльный и благовоспитанный поэт. Так, в 1672 году в Санкт-Петербурге были напечатаны «Сочинения и переводы» И. С. Баркова с вполне приличными шаблонными произведениями. Однако на фоне творчества Сумарокова, Державина, Хвостова будущий срамословец оказался не замечен. В общем, не пошло. Вот тогда-то Барков и решил тесно подружить физиологию с поэзией. Причем особо не перетруждаясь – начал с написания похабных «переворотов» (пародий) на трагедии Сумарокова. Нечего и говорить, что самолюбивого и раздражительного российского Расина это приводило в бешенство, и чем больше он брызгал слюной, тем быстрее росла популярность Баркова.
214
Франсуа Вийон, если верить историкам, был вором. Сидел по тюрьмам, в ожидании приговоров строчил гениальные стихи. Именно ему принадлежат бессмертные строки:
Я – Франсуа, чему не рад.
Увы, ждет смерть злодея.
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.
215
«Шишак Минервин», или шишак по-драгунски, – модный в те времена женский головной убор.
216
Остроносые, словно морда у стерляди, модные туфли.
217
Обычно при экзекуциях кнут меняли после шести ударов, так как от крови истязаемого размягчалась кожа.
218
Степан Иванович Шешковский (1727–1794) – начальник Тайной экспедиции, располагавшейся в Петербурге в Петропавловской крепости.
219
Иван Петрович Кулибин (1735–1818) – гениальный механик-самоучка, родом из Нижнего Новгорода. За три года кропотливой работы он сделал уникальные часы с музыкой и мини-театром. Сюжет представления был прост: ежечасно открывались Царские двери, ангел крыльями отваливал камень от гроба Господня, молящиеся падали ниц, и появлялись две мироносицы. Потом куранты вызванивали псалом «Христос воскресе», все верующие в ликовании поднимались, и двери под музыку захлопывались. Да, немудреный сюжетец, простой, но часы-то были карманные, размером с гусиное яйцо. Хронометр сей был преподнесен государыне императрице, естественно, произвел должное впечатление, и Кулибин получил место заведующего мастерской при Академии наук, на коем и оставался в течение тридцати лет. За этот период талантливый самоучка изготовил фонарь с параболическим отражателем, речное судно с вододвижущим двигателем, способное перемещаться против течения, «самоходящую карету» с педальным приводом, наладил производство оптического стекла, разработал конструкцию одноарочного моста через Неву, модель которого была построена и успешно испытана. Однако это лишь небольшая толика всего задуманного и воплощенного Кулибиным – пожар, случившийся в 1813 году, уничтожил все записи, архивы и модели. Умер Иван Петрович в бедности и забвении, как и полагается настоящему гению на Руси.
220
Бог из машины (лат.). В античном театре бог, появлявшийся на сцене из машины, вмешивался в сюжет пьесы и приводил ее к развязке.
221
Весьма либеральная в вопросах морали, Екатерина II тем не менее постоянно ратовала за соблюдение внешних приличий. В специально изданном «Указе о неболтании лишнего» всем болтунам, говорунам и любителям посудачить ясно предписывалось: заткнуться накрепко. Потому как длинный язык доводит не только до Киева и беды, но еще и до укорачивания шеи.
222
Тяга к сыскному делу открылась у Степана Ивановича с младых ногтей. Сын московского подьячего, Шешковский отроком был пристроен родителем в Сибирский приказ, этакую настоящую «серебряную копь» для чиновника. Однако там не задержался и приложил все силы, чтоб попасть в Тайную канцелярию, впоследствии Тайную экспедицию. Что же стояло за этим? Скорее всего, личные амбиции. Сладостное ощущение тайного могущества, упоительного всезнания, полной безнаказанности и близости к власть имущим – вот что манило Шешковского, человека серого, внешне неприглядного и особыми достоинствами не отмеченного. Зато уж старательного-то, трудолюбивого-то… Во время допросов Емельяна Пугачева он так и горел на работе, ночуя в соседней с бунтовщиком камере.
223
Существо, созданное силой воображения (лат.).
224
Первичная материя, сущность внутренней природы (лат.).
225
Abessi, rebis – отбросы, фекальные субстанции (лат.).
226
Жизненный дух (лат.).
227
Астральное тело (лат.).
228
Имеется в виду эгильет, «завязка» члена, магическая операция по лишению мужской силы.
229
Малая мудрость удаляет от Господа, великая мудрость приближает Оного (фр.).