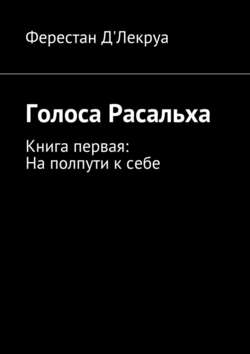Читать книгу Голоса Расальха. Книга первая: На полпути к себе - Ферестан Д'Лекруа - Страница 15
Голос второй. Морская
Часть четвёртая. Четвёртая стена
ОглавлениеВ картах алая масть не нужна
коль и так все черви кровавы…
Сергей Рипмавен. Алая Колода
«Кали-Ола». Рязань. Утро
– Четверка – знак смерти.
– Это ещё почему? Опять твоя кабалистика и мистицизм?
– Рассуждай трезво, но с оглядкой на мою логику. Нет, это я буду рассуждать трезво, но с оглядкой на твою логику, Марина. Начнём с Триединого…
– Да, да, знаю. Отец, сын и святой дух.
– Вот видишь? Три, а не четыре. Он, точнее второе лицо святой Троицы прославлял жизнь, а был распят на кресте. А крест предполагает четыре внутренних угла – тот самый знак… смерть. Символ.
– Тогда почему не пять?
– По той же причине, что и не семь. Пять – это пентакль, пять чувств, как и пять сомнений, управляющих ими, это символ, защищающий жизнь. Не смерть, – и он начертил пентаграмму на запотевшем оконном стекле кофейни.
– Ещё есть шестёрка, символ Зверя…
– Нет. Шесть – это иной знак, он губит, но не приносит смерть. Если отталкиваться от такой логики, есть ещё миллиарды чисел. Четверка же знак смерти. Четыре пера подписывали смертный приговор на суде в Вавилоне. Четыре стороны у могил-пирамид в древнем Египте. На четыре основные стихии распадается мир после своей смерти по Парацельсу, и эти же четыре стихии – алхимическая основа для сотворения чего-то нового, как жизнь, взращённая из праха своей предшественницы. И не негативный ли оттенок несёт в себе выражение, содержащее «в четырёх стенах»?
– И мы знакомы с тобой четыре года, —с усмешкой на лице завершила она и, посмотрев на стекающую каплями пентаграмму на стекле, добавила: – Хочу на море.
– И на какое? Чёрное, Каспийское, Красное или сразу на Мёртвое?
– Ты сегодня добрый, – в глазах Морской вспыхнул на секунду синеватый огонь гнева и погас, истаял в фиолетовых лучах солнца, преломленных в оконном стекле кофейни на Есенинской улице. – А ещё четыре года минуло с тех самых пор, как ты пообещал заглянуть в мою мастерскую…
– Крупская, дом пятнадцать…
– Вот только я уже и адрес поменяла. На старом месте стали много за аренду брать. Только, боюсь, к твоему приходу мои кисточки с картинами снова сменят место своего ночлега.
– Обещал, так загляну. Помнишь? Обещание колдуна больше его жизни!
– Не колдуна, а мага. Ты ведь добрый.
– Да, да, пожалуй, сегодня и загляну. Допивай кофе, пока теплый…
«Кали-Ола». Рязань. Ещё не вечер
Улица Пушкина, дом двадцать три дробь четыре. И квартира четвёртая.
– Юлька, не отставай!
Неприветливый подъезд оранжевой облезлой пятиэтажки, площадка на четыре предквартирные двери, все без номеров. Только студия Марины видна сразу – на двери наклеен (странно, что не нарисован) огромный плакат: тоненькая девушка-статуя в пол-оборота, снятая со спины. Лицо статуи повернуто к далёкой точке – вроде тюрьме. На ум пришло название той тюрьмы: Кресты. А девушка? Таковой могла быть Цветаева, хотя нет, Анна и точно Ахматова. Тоненький юный демон на службе у юного мага.
– Юля, постучи, меня Марина сразу узнает. Пусть сюрприз будет.
– Хорошо, – и четыре еле слышных удара кулачком в дверь. Фотография идёт волной, и, кажется, сама дверь. Внутри студии идёт волна по связывающим события линиям судьбы. Фатум вторит каждому удару громовыми раскатами в далёком и недалёком будущем.
– Спасибо, – и тут же, только в мыслях: «Спасибо, Фатум, за обман…»
Дверь открывается. Хозяйка выходит к нам навстречу и возвращается попутно в себя. Верно, спала.
– Сергий.
– Доброе время, мисс Морская, – и чопорный поклон.
– А я Юлия, ваша коллега по мазкам.
– Простите, маскам? – и обе девушки смеются ведомой только им шутке.– Входите, ребята.
Дверь закрывается за спинами вошедших людей, и площадка следом за хлопком двери скатывается, подобно листу бумаги, в звенящую спираль.
Квартира оказалась лабиринтом: некий Дедал выстроил в старенькой советской квартирке несколько десятков перегородок, перемешав имеющееся пространство в паутину узких коридорчиков и геометрических фигур. Налево – треугольный тупик, направо – развилка с округлыми стенами. Шаг, шаг – хозяйка вела их по единственному правильному, известному только ей маршруту. А белые стены смотрели вслед троице десятком развешанных на них картин – её картин. И везде только море и космос. Да, и персонажи мифов – крылатые боги-змеи коатли, сторукие ужасы древних греков, боги и демоны, вершащие суд над людьми. Будто она сама видела их в живую и изображала по памяти, выплёскивая свои воспоминания, лишь бы не видеть где-то во сне красоту и кошмар изнанки человеческого мира.
Да, такими они и были – знаешь ли ты, Морская, как близка к действительности? Каждый оживший миф, посмотрев на твои картины, узнал бы в них себя. И что страшнее – покажи свои мазки, свои маски людям, и многие забытые боги вернутся из Расальхата, города забытых богов, питаемые верой и страхом очевидцев их мощи в твоих картинах. Такие картины не для следующего столетия, не для будущего отцифрованного восприятия людей. Настоящее искусство не для своего века и часто даже не для следующего. Или? Или-ли. Если подумать: настоящее искусство – для всякого столетия.
А вот рядом с одним рисунком я остановился и вгляделся: ребёнок пяти-шести лет держит в руках картину, на которой изображен мужчина-герой. Самая примечательная деталь картины – слеза ребёнка по герою. Нет! Вот же: слеза героя по ребёнку! И большие каменные горы… Отворачиваюсь и продолжаю путь, ступая след в след за чуть приостановившейся, дожидаясь меня, Мариной. Дожидающейся меня и Юлии.
– Это один человек, – я оглядываюсь через плечо, внимая словам Юльки. – Ну как бы ты мог заметить, что они очень похожи. Это один человек. Ребёнок получил изображение себя в будущем. Там, где он вспомнил своё детство, а ещё тот страшный путь, что сделал его героем. Раз и навсегда сделал. И ребёнок вроде как вспомнил этот путь, что он сделает. Раз и навсегда сделает.