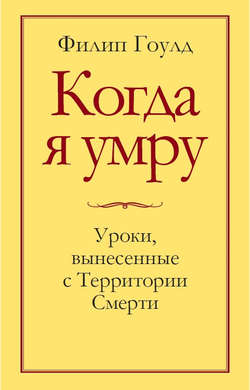Читать книгу Когда я умру. Уроки, вынесенные с Территории Смерти - Филип Гоулд - Страница 3
Отвага слабых
ОглавлениеЯ увидел над собой яркий свет и понял, что пока еще жив.
Я сглотнул с облегчением. Значит, жив, и это уже очень приятно. Вошла Гейл, я заговорил с ней, пригласил детей. Грейс выглядела озабоченной, Джорджия была просто счастлива. Этой ночью я совершенно не спал, смотрел телевизор и до утра ощущал прилив адреналина.
Я не помню, чтобы когда-нибудь еще чувствовал себя таким счастливым. Впрочем, отчасти это ощущение счастья было иллюзорным, вызванным принятыми стероидами. Наутро я перебрался в мою постоянную палату. Это была небольшая, скупо обставленная, строгая комнатка, которую я делил с одним подвижным ньюйоркцем, который болтал не умолкая. Окна в комнате не было. Забавно, конечно, но это помещение явно создавалось не для удовольствия, а с чисто утилитарными целями.
Гейл рассказала, как у нее прошел день. Это был сущий ад. Ждать, не имея никакой информации, пока наконец не появился Мюррей Бреннан в запачканном кровью белом халате, совершенно вымотанный, будто он все это время, как китобой, сражался с кашалотом. Он сказал, что операция оказалась исключительно тяжелой и он сделал все возможное, лишь бы только не пилить мне ребра. Вся борьба состояла в том, чтобы состыковать два обрезка пищевода, между которыми еще недавно располагалась опухоль.
Об этом дне Мюррей оставил запись в своем дневнике: «Сегодня провели эзофагогастроэктомию у лорда Гоулда. Операцию удалось провести со стороны желудка, однако из-за высокого анастомоза работать было очень трудно». Похоже, эта операция доставила ему хлопот – так же, как и мне.
Я устроился поудобнее в своей новой комнатке и затосковал. Отовсюду у меня торчали трубки – даже из носа. Лицо утратило естественный цвет, приобретя зловещую белизну. Как сказала Гейл, я больше походил на мертвеца, чем на живого человека. Ей было тяжело смотреть и на эту палату, и на тонкую занавеску, отделяющую меня от соседа, и на мое нездоровое лицо, и вообще на всю эту ненормальную ситуацию. Несколько дней я не мог пить и только сосал ватные палочки, смоченные водой.
Кроме того, возникла проблема взаимопонимания. Во рту у меня пересохло, из носа торчала трубка, так что я едва мог говорить, а если и говорил, то очень неразборчиво. Большинство медсестер не могли понять меня и подозревали, что я над ними издеваюсь. Я сравнивал себя с соседом-ньюйоркцем, который только хрипел, но все сестры понимали его без малейших затруднений.
В общем, день прошел так себе, однако ночь оказалась еще хуже. Под воздействием морфия ночные часы превратились в непрерывно копошащийся клубок из страхов и темных сил. Стены комнаты никак не могли стоять спокойно – они смещались, шевелились, выгибались и всячески стремились меня напугать. Вот на что были похожи эти ночи – на бесконечный нью-йоркский стеб и коварный текучий мрак.
На следующий день мое душевное состояние еще ухудшилось. Я проснулся, уже с утра чувствуя упадок сил, а боль, которую я испытывал после операции, меня совсем доконала. Я почувствовал, что единственный способ побороть эту ситуацию – отступление и попытка сохранить оставшиеся силы.
Для себя я назвал это (пусть и не очень удачно) «стратегией ящерицы». Залечь, спрятаться, замаскироваться, отступить. Впрочем, эта тактика не сработала. Зато и хирург, и медсестры по моему поведению сделали вывод, что у меня явно не хватает жизненной энергии, чтобы управлять своими внутренними процессами. Если я пытался прекратить излучение своей энергии вовне, то и ко мне не поступала никакая энергия из окружающего мира.
Мюррей укрепился в подозрениях, что мое подавленное состояние является следствием какого-то кровотечения, поскольку в ходе операции не удалось полностью и правильно соединить разрезанные части. Сразу же была назначена повторная компьютерная томография. Меня заставили выпить контрастную жидкость, что не доставило мне никакого удовольствия, а потом попросили на время сканирования принять такую позу, которая теперь, после операции, была почти невыносима. Томография не показала никакого кровотечения, но этот урок я усвоил хорошо. У меня все идет нормально, когда я настроен на позитив, а вот без оптимистических установок ситуация сама по себе тяготеет к развалу, а вовсе не наоборот. С этого момента я пошел на поправку и завоевал доверие персонала. Моя жизненная траектория явно смотрела вверх.
Прямо со второго дня, даже после такой тяжелой операции, как моя, медперсонал заставляет пациентов активно двигаться. В моем случае это помогло остановить накопление жидкости в легких. Это, как полагают, должно было снизить вероятность пневмонии.
Подвижность – это значит ходьба. Так или иначе, но меня выгнали из постели, прицепили все мои трубки и бутылочки к тележке и погнали меня на прогулку, которую я назвал дорогой смерти. Это было бесконечное движение по коридорам вокруг внутреннего дворика. Каждый шаг давался с немалым трудом, а полный круг по хирургическому отделению казался вечностью. Сначала от меня требовали пройти пять кругов, потом десять, потом двадцать.
В этом занятии я был не одинок. Были и другие пациенты, недавно перенесшие такие же или похожие операции. Они так же нарезали круги по коридорам, напоминая не людей, а какие-то передвижные агрегаты на колесиках, над которыми возвышаются человеческие головы – тщательно вымытые, бледные до белизны и с затравленными глазами. Никто не говорил ни слова и даже не улыбался. Мы просто брели по коридорам, как привидения.
Но отвлечемся от этого мрачного парада покойников – мои дела день за днем подвигались в лучшую сторону. От меня отключали одну за другой многочисленные трубки, а через неделю я уже мог ходить без посторонней помощи, демонстрируя фантастические возможности человеческого тела, когда речь идет о борьбе за жизнь.
Дважды в день меня навещала Гейл и проводила со мной немало времени – и это в ситуации, когда ей еще приходилось работать на пределе сил. В больнице ей не нравилось – она считала это заведение слишком черствым и бездушным. В некотором смысле она была права, но этот жесткий стиль лежал в основе всех здешних успехов. Мы наблюдали, как работает предприятие по уничтожению рака, и я не мог не уважать его бескомпромиссную нацеленность на борьбу с этой болезнью. Таков Нью-Йорк, город, где неженкам не место.
Каждый раз, когда Гейл пыталась перевести меня из двухместной палаты в какую-нибудь из одиночных, которые тоже имелись на нашем этаже, она сталкивалась с тем, что палата уже оказывалась занятой. Потом одна из медсестер подсказала мне тайный путь к у спеху. Она сказала, что единственный верный способ – это самовольный захват пустующей палаты. Просто берите все свои манатки и вселяйтесь в комнату, пока вас не опередили. Так я и поступил.
Такие вот порядки царят в нью-йоркских больницах. Впрочем, с каждым днем мне там нравилось все больше и больше.
Постепенно ко мне стал возвращаться дар речи. Это уже был не хрип и шипенье пересохшим ртом сквозь пластиковые трубки. Я хорошо узнал медсестер, и они оказались мастерами своего дела. Команда медсестер с нашего этажа была удостоена звания лучшей бригады по всему Северо-Востоку США. В среднем они проводили на рабочем месте больше десяти часов подряд и при этом не утрачивали ни заботливости, ни такта. Они обходились без униформы, ходили просто в джинсах и футболках, но свои обязанности выполняли поистине безупречно.
Врачи здесь тоже заслуживали самых высших похвал. Многие из них приехали сюда с разных концов света на должности практикантов – лишь бы обогатить свою профессиональную биографию коротким периодом работы в самой лучшей онкологической больнице. Все они отличались острым интеллектом и неугасимой любознательностью. Я проводил часы в беседах с ними. Короче, я бы не сказал, что полюбил эту больницу, но до сих пор восхищаюсь ею.
Через пять дней после операции Мюррей ворвался в мою палату, исполненный такого энтузиазма, которого я никак не ожидал при его сдержанном характере. «У нас на руках результаты гистологии, и они прекрасны!» – сказал он. Ни в одном из лимфатических узлов не обнаружено раковых клеток, так что я могу снова строить планы на жизнь.
Он все говорил, объяснив, что его прежняя немногословность была следствием опасений, что хотя бы в одном из лимфатических узлов обнаружится рак. Такой поворот событий резко снизил бы мои шансы на жизнь. Теперь же он просто лучился оптимизмом – у меня была честная 75-процентная вероятность прожить еще как минимум пять лет.
Я ощутил прилив надежды и того воодушевления, какое не раз посещало меня в жизни. Это бывало во время выборных кампаний, когда становилось ясно, что, несмотря на все препятствия, победа у меня в руках.
А через два дня, как это часто бывает в онкологии, после шага вперед пришлось сделать два шага назад. Шов покраснел и начал болеть. Мюррей сказал, что это результат инфекции. Он отказался использовать антибиотики, поскольку они провоцируют рост MRSA[6]. Оставалось только вскрыть зашитый разрез и создать все условия для естественного заживления. Доктор был уверен, что рана зарубцуется за две-три недели.
Из-за обнаружившейся инфекции мне пришлось испытать процедуру под названием «тампонирование», и не скажу, что это был самый приятный период в моем онкологическом путешествии. Тампонирование – это когда в открытую рану посредством деревянной лопаточки засовывают свернутую марлю. Комок марли впихивается до самого дна раны, а потом сверху добавляется еще марля до тех пор, пока все пространство раны не будет заполнено. Процедура была не очень болезненной, но приятной ее не назовешь.
Хуже, пожалуй, был только предшествовавший тампонированию процесс промывания раны, причем не снаружи, а изнутри. Трудно забыть вид этой огромной дышащей полости кроваво-красного цвета, уходящей так глубоко внутрь тела, что дна этой ямы я просто не видел. И все это пространство нужно было заполнить водой.
Такая процедура проводилась два раза в день более двух месяцев.
В день перед выпиской из больницы мою рану должен был освидетельствовать один из младших врачей.
Единственное место, где он мог это сделать, – амбулаторное отделение, которое по сути являлось службой скорой помощи. Именно через этот канал больница взаимодействовала с бедными слоями населения, получающими медобслуживание бесплатно. Это было весьма аскетично оборудованное помещение, которое в лучшем случае можно было бы назвать строго функциональным. Ни о каком комфорте здесь уже речи не шло. Многие из ожидающих помощи были из числа афроамериканцев, у многих на лице было написано отчаяние. Особенно мне запомнилась одна пара. Он – пожилой мужчина с трубкой для кормления, вставленной прямо в гортань. Ему было больно, он задыхался, и его хрипы разносились по всей комнате. Лицо его жены выражало одновременно любовь и ужас. Я улыбнулся ей, но она смотрела куда-то мимо меня и никак не отреагировала.
Но вот доктор пригласил пациента в кабинет, она осталась одна и сразу же ответила мне широкой улыбкой. Она сказала, что эти редкие минуты одиночества приносят ей облегчение, ведь когда она с мужем, расслабиться не удается ни на секунду. А ей постоянно приходится быть рядом с ним, все время, день за днем, ночь за ночью.
Я начал понимать, что такое рак для людей без лишних денег, без ухода, без страховки, без надежной медицинской помощи. Этим двоим еще по везло – мужчину все-таки лечили, причем в медицинском учреждении экстра-класса. А каково приходится тем, кому недоступно такое медицинское обслуживание, тем, кто живет не в США, а где-нибудь еще? Рак – это мучительное заболевание, но в бедности, без подобающего ухода и лечения он превращает жизнь человека в сущий ад.
На следующий день я покинул больницу и вышел на теплые солнечные улицы. Стояла середина мая. Деревья стояли в цвету, и трудно было хоть на миг не почувствовать себя счастливым. Ведь я прошел через испытание. Я победил.
Мы вернулись в гостиницу, и я попытался наладить обычную, нормальную жизнь. Однако норма теперь стала весьма относительным понятием. Я вышел по ужинать, съел немного курятины, и она застряла у меня в горле. Я едва добрел до дома, мучаясь от приступов боли и тошноты. Потребовалось два часа, чтобы очистить пищевод от остатков еды. И так повторялось раз за разом. И если для меня это было непросто, представляю себе, какой мукой это было для Гейл.
Тем временем тампонирование моей раны продолжалось. Два раза в день эту процедуру выполняли в больнице две медсестры. Все дни были подчинены строгому распорядку. Прогулка по парку, несколько неудачных попыток что-нибудь съесть, вечерами политические новости, где все вертелось вокруг американских праймериз.
Разумеется, мне было очень интересно вечер за вечером следить за предвыборной кампанией. Мне очень нравилась Хиллари Клинтон – и в политическом, и в чисто личном плане. Совместная работа с ее мужем в ходе кампании 1992 года разносторонне обогатила меня. Тем не менее я уже понимал, что победит Обама – наступил его час.
Был один момент, когда я нарушил устоявшуюся рутину. Ко мне наведался в гости Эд Виктор, мой литературный агент и давний друг. Мы вместе смотрели по телевизору финал Лиги чемпионов – матч между «Chelsea» и «Manchester United», проводившийся в Москве. Но все остальное время я делил между политическими новостями и дренированием раны.
Вот так и проходили дни моей нью-йоркской жизни.
Тридцатого мая я улетел в Лондон. Теперь я твердо решил сделать ставку на больницу Ройял Марсден и договорился о собеседовании с профессором Дэвидом Каннингемом, руководителем отделения желудочно-кишечных заболеваний.
Перед этой встречей я переговорил с моим частным онкологом Морисом Слевином. Он выразил полное несогласие с прогнозами Мюррея Бреннана. Он сказал, что слой здоровых тканей, вырезанных вместе с опухолью, был слишком тонок и что по его прикидкам вероятность метастазов в течение пятилетнего срока составляет 60 процентов. Иначе говоря, он сулил 40-процентную выживаемость за этот срок, а не 75 процентов, заявленных Мюрреем. Он настоятельно рекомендовал применить лучевую терапию, что прямо противоречило рекомендациям, полученным мной в Нью-Йорке.
Затем я повидался с хирургом из NHS, чьими услугами пренебрег с самого начала. Мой собеседник высказался весьма категорично. По его словам, операцию провели неправильно, удалили слишком мало лимфатических узлов, тогда как нужно было провести полную резекцию с доступом через грудную клетку. Кроме того, он с полной уверенностью заявил, что моя рана будет заживать еще месяц-полтора, что у меня обширная грыжа, что в результате инфекции и открытой раны у меня наблюдается спадание стенок желудка и для того, чтобы его спасти, потребуется еще одна весьма серьезная операция.
Эта ситуация привела меня в растерянность и напугала, хотя я был не первым и не последним. Медики редко бывают единодушны в своих суждениях. Разногласия неизбежны, иной раз в мелочах. А иногда и принципиальные. Я сообщил Мюррею, что мне сказал английский хирург-онколог, и за этим последовала яростная трансатлантическая битва. Мюррей был разозлен и не сомневался в своей правоте. Все это звучало как продолжение войны за независимость, и я был готов встать на сторону Мюррея.
Ройял Марсден мне понравился прямо с того момента, когда я ступил под его кров. Здесь теплая, дружелюбная обстановка сочеталась с высоким профессиональным уровнем. Со временем я пришел к убеждению, что для меня предпочтительнее больницы, полностью специализирующиеся на лечении рака. Врачей там объединяют сходная специализация и общая цель. Да и пациенты чувствуют себя как бы в одной лодке, и это понимание разделяется персоналом.
Со временем Марсден стал для меня как родной дом. По духу он принципиально отличается от американского Центра Слоуна – Кеттеринга, где все одержимы идеей функциональности, где на каждом шагу встречаешь толпы сверхкомпетентных консультантов и знаменитых врачей, уверенных в своем превосходстве и отважно штурмующих раковые бастионы.
Марсден, напротив, скромен по своим масштабам, что не мешает ему быть знаменитым по всему миру.
В нем культивируется принцип, согласно которому главная цель, состоящая в борьбе с раком, не должна вступать в противоречие с заботой о качестве жизни тех, кто участвует в этой борьбе. Здесь не бросается в глаза непреклонное упорство, характерное для Слоуна – Кеттеринга, но многочисленные эксперты мирового уровня, работающие в Марсдене, делают это британское учреждение равным американской больнице.
Обмен информацией внутри больницы поставлен не очень хорошо, и это иной раз может раздражать, и тем не менее достоинства Марсдена затмевают недостатки. Как я уже говорил, Марсден относится к системе государственного здравоохранения, и хотя 30 процентов ее доходов составляют поступления от частной клиентуры (и от меня в том числе), этот факт не оказывает принципиального влияния на здешний стиль работы.
Возможно, лечение в американской больнице внушает пациентам больше доверия и проходит более эффективно, но зато атмосфера в больнице Марсден несравненно теплее, менее формальна, а среди пациентов царит дух человеческого равенства.
Профессор Дэвид Каннингем, всемирно известный онколог, должен по праву считаться главным создателем системы химиотерапии MAGIC, которая спасла и продлила так много человеческих жизней. Когда в начале июня мы направились к нему на прием, он встретил нас с некоторой настороженностью. Я ведь вернулся в Марсден на середине прерванного лечебного цикла, отказавшись от услуг авторитетной больницы в США и от химиотерапии на Харли-стрит. Я хорошо понимал, как должен смотреть врач на такого пациента, тем более что наши прежние решения он явно не одобрял.
Я не сомневаюсь в его компетентности и других профессиональных качествах, однако при первой встрече он был с нами скорее холоден, чем радушен. Первое впечатление оказалось не вполне адекватным, и в дальнейшем я имел счастье увидеть все богатство его души, но эта сторона его натуры раскрывалась перед нами в течение долгого времени. Он обладал тем уровнем профессионализма, который требовался в нашем сложном случае. Правильные решения и глубинное видение проблемы приходили к нему именно в те моменты, когда они были нужнее всего.
У Дэвида было достаточно великодушия, чтобы признать все бесспорные достоинства больницы Слоуна – Кеттеринга и согласиться, что, если проходить химиотерапию в Лондоне, лучшим вариантом было лечение у Мориса Слевина. Это было очень мило с его стороны, но, думаю, и мои аргументы сыграли определенную роль.
Он несколько изменил протокол химиотерапии, предписав прием капецитабина не в течение двух недель из трех, а без пропусков, строго каждый день. Я был обеспокоен тем, что, вопреки рекомендациям Мориса, отказался от лучевой терапии. В этом отношении он успокоил меня, сказав, что и сам не рекомендует эту процедуру.
Я спросил его, каковы мои шансы на жизнь. Он не взял на себя какой-то конкретной ответственности, но успокоил меня, сказав, что все не так уж плохо. В общем, когда мы расставались, я был о нем более высокого мнения, чем он обо мне.
Спокойно и уверенно я приступил к послеоперационной химиотерапии. Этот урок мы уже проходили, и мне было нетрудно его повторить. Правда, тут меня ждало еще одно заблуждение, характерное для онкологических больных, – все мы слишком легко доверяемся чужим суждениям.
Процесс заживления шел медленнее, чем под присмотром Мориса, но все-таки шел, а младший медперсонал работал безупречно. Мы приезжали в больницу к девяти, а домой отправлялись в пять. Это были тяжелые дни, но мы как-то справлялись.
Но когда я добирался до дома, все выглядело уже по-другому.
Во время первого цикла химиотерапии мой организм легко справлялся с потоком вливаемых препаратов, но теперь изобилие сильных ядов, закачанных мне в кровеносную систему, явно давало о себе знать. Я ощущал непрерывное болезненное покалывание в пальцах и стопах, так что всякое прикосновение к чему-либо, вынутому из холодильника, было почти невыносимо. Я постоянно ощущал себя во власти циркулирующих по моему телу чуждых мне препаратов. Давнее ощущение холодной шапочки, столь раздражавшее меня во время первого цикла химиотерапии, теперь распространилось с головы до ног.
Ужас химиотерапии состоит в том, что ты круглые сутки пребываешь в ее власти. Эти вещества постоянно в тебе присутствуют, преследуют тебя неприятными ощущениями, совершенно не похожими на обычную боль или послеоперационный дискомфорт. Там вы можете при некотором волевом усилии воздвигнуть ментальный барьер между этими ощущениями и вашим сознанием. А вот в случае химиотерапии этот барьер полностью отсутствует. Ваш организм уже трудно отделить от медикаментозного воздействия, а ваша кровь превращается в ядовитый раствор, омывающий каждую частицу вашего существа.
В течение следующей пары дней стероиды как-то держали меня на ногах, но уже к выходным я почувствовал в горле кислое жжение, за которым последовали слабость и тошнота. Возникли проблемы с приемом таблеток, не говоря уж о простом питании. Мой организм взбунтовался, будто я непрерывно страдал морской болезнью. В таких муках прошли две недели, но на третью стало полегче, и я смог чуть расслабиться.
Второй цикл давался мне гораздо тяжелее. Кислое жжение не просто поселилось в моем горле, а полностью его захватило. Тошнота не отступала ни на миг и сопровождала каждую попытку что-нибудь съесть. Прием таблеток стал настоящей мукой, битый час я сидел в кресле у окна и через силу пропихивал в горло одну таблетку за другой.
Мое время стало отмеряться не днями и часами, а минутами, а потом я отсчитывал его секунду за секундой. Такова жизнь онкологического больного – она не похожа на отчаянное героическое сражение. Это тысячи мелких стычек, крошечных побед, когда вы движетесь к финалу шаг за шагом, преодолевая свое несчастье глоток за глотком, минуту за минутой. Это отвага слабых.
Я лежал, ссутулившись на диване и отдавая все силы процессу существования, глядя прямо перед собой, не желая ни есть, ни говорить, ни даже шевелиться. Гейл потом рассказала мне, что для нее это были самые тяжелые дни, когда я с белым, как у привидения, лицом лежал неподвижно, глядя в одну точку.
В больнице, видя мои мучения, предлагали сократить объемы инъекций, чтобы несколько облегчить химиотерапию, однако я не желал идти ни на какие компромиссы со своей болезнью, хотя, честно говоря, уже был на грани капитуляции.
Ситуация тем временем становилась все хуже и хуже. Это был единственный момент во всей моей онкологической истории, когда я действительно начал падать духом, растекаться, как квашня.
Мне позвонила Маргарет Макдонах, неукротимая личность, бывший генеральный секретарь лейбористской партии. «Эта химиотерапия меня доконает», – сказал я. Маргарет, которая всегда была стальным стержнем в сердцевине движения «новых лейбористов», была просто оскорблена тем, сколь бесстыдно я демонстрирую свою слабость, и заорала на меня в голос: «Филип, ты опять все напутал! Это не химия тебя доканывает, а ты, лично ты вот-вот ее прикончишь!»
Меня так напугало ее бешенство, что ничего не оставалось, кроме как взять себя в руки и продолжить борьбу.
Позвонил Дэвид Бланкетт[7], приказал мне держаться до последнего и выразил уверенность, что меня ничто не остановит. В словах Дэвида была какая-то животная сила. В ней можно было почувствовать след пережитых несчастий и мужество, которое выковалось в борьбе с ними. Нечего и говорить, он вдохнул в меня столь необходимое упорство.
К тому времени у меня скопилась целая коллекция средств от тошноты. Ее хватило бы на небольшую аптеку, причем новинки поступали в нее практически ежедневно. Но все это – увы! – не действовало.
Как-то в субботу в конце дня я почувствовал, что моя правая рука теряет чувствительность. Затем этот эффект перешел на левую руку, потом на шею, лицо, губы. Постепенно меня охватывал паралич. Я запаниковал, уверенный, что это сердечный приступ или удар.
Практически утратив дар речи, я как-то объяснил Гейл, что со мной происходит, и мы поехали в отделение скорой помощи при больнице Университетского колледжа (University College Hospital, UCH). Там в приемном покое было полно народу, как всегда по субботам. Я стоял посреди холла, не чувствуя ни лица, ни рук, ни шеи, молча раскачиваясь из стороны в сторону подобно обветшавшему огородному пугалу. Мое лицо, рассказывала потом Гейл, выглядело как ископаемая окаменелость.
Перед нами в очереди стояли еще двое, и у обоих наверняка были веские причины для обращения к врачу, но мою жену уже ничто не могло остановить. «У него сердечный приступ, и это на фоне рака!» – прокричала она. Через минуту я уже лежал в отдельной палате и мне снимали кардиограмму, после чего сделали еще уйму анализов.
Врачи практически сразу догадались, что все мои симптомы отражали болезненную реакцию на одно из лекарств, которые я принимал от тошноты. Они вкололи мне антидот. Буквально через несколько минут паралич отступил и я почувствовал себя, как прежде. И вообще я благодарен этой больнице – они были очень добры ко мне, и во всех критических ситуациях, через которые я прошел, их помощь была бесценной.
Лечение тем временем продолжалось, как продолжалось и тампонирование моей раны, и этой муке не было конца. И тут появилась Донна Луиза Спенсер. Старшая медсестра из больницы Святого Фомы (St’ Thomas’ Hospital), она по совместительству обслуживала и таких больных, как я. Для меня она стала настоящим спасителем.
Чтобы вырваться из лап онкологического заболевания, человеку требуется помощь, причем она может прийти откуда угодно – от служащей в регистратуре, друзей или врача. Через мучения двух следующих недель меня провела именно Донна. Она сказала, что я принимаю слишком много таблеток от тошноты и нужно умерить мои аппетиты.
Она знала, что в Марсдене должен быть консультант по контролю за симптоматикой. И она нашла этого врача – доктора Джулию Райли. Она была блестящим специалистом, взявшимся отслеживать все меры, которые я принимал против тошноты. Она выдала мне специальное устройство (капельницу-дозатор), которое с нужной скоростью вводило мне в руку все необходимые лекарства.
Короче, так или иначе, но я выкарабкался.
6
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus – метициллин-резистентный золотистый стафилококк. – Примеч. редактора.
7
Бывший министр внутренних дел Великобритании. – Примеч. редактора.