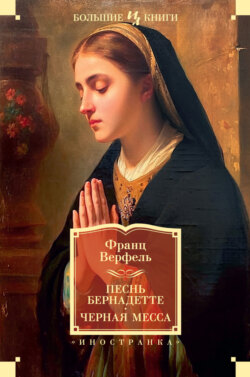Читать книгу Песнь Бернадетте. Черная месса - Франц Верфель - Страница 24
Песнь Бернадетте
Часть вторая
Будьте так добры
Глава двадцатая
Зарница
ОглавлениеПоведение Бернадетты после этого позора многим вновь представляется загадочным. Когда в прошлый понедельник дама не появилась, она готова была умереть от отчаяния, хотя ее неудача в тот день не отвратила от нее сердца приверженцев. Но сегодня, после такого провала, после того как ее вырвало в присутствии стольких свидетелей ее возвышения, она совершенно спокойна, невозмутима и даже – надо признать – полна какой-то радостной уверенности.
Люди не понимают Бернадетту, потому что все они, стоящие высоко или низко, одинаково привыкли измерять свою жизнь успехом. Девочка Субиру, благодаря невероятному соединению сказки с давно подавленными, оттесненными в глубину чаяниями простого люда, стала средоточием жизни города и округа, предметом разговоров и споров во всех, без исключения, домах. Она стала «звездой», как становится «звездой» всякий властитель, завоеватель, герой, первооткрыватель, художник, попавший под лучи прожекторов успеха. Успех автоматически делает человека актером, разыгрывающим собственную жизненную роль, что и соответствует профессиональному термину «звезда». Кто не потеряет своей неосознанной естественности, когда на него устремлены сотни тысяч глаз?
Так вот, Бернадетта естественности не теряет. Ее невинность во всем, что касается успеха, настолько непостижимо велика, что сохранение естественности даже не является особой заслугой. Если люди ее не понимают, то и Бернадетта не понимает людей. Зачем надо было всем этим тысячам подсматривать за ее встречами с дамой? Что это им дает? Если бы никто не приходил, было бы гораздо лучше! Тогда, может быть, декан, прокурор и комиссар полиции оставили бы ее в покое. Вся эта навязчивая свита приносит ей одну досаду и муку. Важна любовь! Важна Единственная, Бесконечно Любимая! И никто больше. В глубине души у Бернадетты нет ни малейшей потребности убеждать кого-то, что дама действительно существует, а не является плодом ее фантазии. Лишь по принуждению, а не по доброй воле ей приходится спорить на эту тему. Что же ей делать, если священник и чиновник устраивают ей перекрестный допрос? Люди все время говорят о Пресвятой Деве. Но кто бы ни была дама, для Бернадетты она просто дама, и в этом слове для нее в тысячу раз больше личного и значительного, чем в самом святом имени. Бернадетта хорошо понимает, что причиной всеобщего смятения явились далеко идущие тайные планы дамы, ее послания и приказы. Если бы Дарующая Счастье пеклась лишь о ней, Бернадетте, ей было бы куда легче. Но Бернадетта, испытавшая такую бездну блаженства в часы экстаза, достаточно скромна, чтобы не роптать на побочные цели дамы, хотя сегодня из-за источника действительно попала в дурацкое положение. Но делать нечего. Приказы дамы должны исполняться в точности, что бы люди ни говорили.
Кашо весь день полон посетителей. Не успеет тяжелая входная дверь захлопнуться за одним, ее тут же открывает следующий. Люди сидят на кроватях, на столе, даже на полу, который госпожа Субиру ежедневно моет. Но здесь не царит, как прежде, восторженное настроение, здесь уже не курят фимиам супругам Субиру вопросами: «Как вы должны быть счастливы, мадам, имея такого ребенка!» или «Кто мог предположить, что в кашо родится такой ангел?» Сегодня взгляды посетителей полны грустного укора, будто в кашо родился не ангел, а возмутительный урод и семья не может не чувствовать за собой вины. Плохой знак, что тетя Бернарда вместе с послушной тетей Люсиль распрощалась так рано. Тетушка Сажу грустно качает головой:
– Нет, этого не должно было случиться… Только не это!
Кума Пигюно, напротив, отводит Луизу Субиру в сторонку:
– Знаешь, моя милая, что сказала мадам Лакрамп? А у нее большой опыт, ведь ее собственная слабоумная дочь в сумасшедшем доме. Она сказала: «Это состояние продлится еще месяца два, затем появится дрожание глазного яблока, наступит прогрессирующий паралич, откажет речь. Да-да, моя милая, это огромное несчастье, но вы должны заранее похлопотать о месте в сумасшедшем доме в Тарбе. Нужно перенести это стойко, да-да, уж я-то знаю…»
– Praoubo de jou! – несколько раз восклицает Луиза голосом, полным рыданий. Между тем в кашо появляется портниха Пере и перед всей публикой берет в оборот Бернадетту.
– У бедной мадам Милле, – сообщает она, – такая чудовищная мигрень, какой не было уже полгода. Она велела позвать сразу двух врачей: доктора Перю и доктора Дозу… Дитя мое, как можно было так неприлично себя вести? Лопать траву, лопать грязь, да еще и допустить, чтобы тебя вырвало?
Бернадетта как ни в чем не бывало объясняет:
– Но дама потребовала, чтобы я пошла к источнику, напилась воды, омыла лицо и руки. А там не было источника. Тогда я стала копать и нашла немного воды. Но воду можно было проглотить только вместе с землей…
Портниха дергается, словно укушенная гадюкой:
– Так ты утверждаешь, что это Святая Дева превратила тебя в скотину! Нет, вы только послушайте! Эта ненормальная хочет нас уверить, что Богоматерь вела себя как дьяволица и велела ей жрать землю и траву! Это уже слишком! О таком святотатстве следовало бы сообщить господину кюре…
– Вы говорите неправду, мадемуазель, – совершенно спокойно объясняет Бернадетта и повторяет, наверное, в сотый раз: – Я не знаю, кто эта дама.
– Зато я знаю, что ты хитра не по годам, – парирует Пере, подмигнув присутствующим.
Пигюно бросает сокрушенный взгляд на Луизу:
– Хитра? Это бедная больная девчушка хитра?..
Бернадетта деловым тоном продолжает защищать даму:
– К тому же она не говорила мне, что я должна есть землю, она только сказала, что надо напиться из источника…
Дядюшка Сажу закуривает трубку, чего, из уважения к обитателям этого жилища, давно уже здесь не делал. Откашлявшись, он заключает хриплым голосом каменотеса:
– Но поскольку источника нет, значит дама солгала!
– В самом деле, солгала, – вторят ему другие голоса.
Глаза Бернадетты загораются гневом.
– Дама не лжет!
У сапожника Барренга, которого скандал у грота очень взволновал, трясутся не только руки, но и голова.
– В горах источники текут всегда сверху вниз, а не снизу вверх, – уверяет он. – Это вам скажет любой ребенок. Внизу только грунтовые воды…
Своими ответами Бернадетта все же достигает того, что ее нелепое поведение этим утром уже не кажется присутствующим таким абсурдным. Как всегда, побеждает непосредственность, с какой девочка изображает даму как человеческое существо, странные желания и приказы которого надо выполнять беспрекословно, даже если они неудобны и неприятны. Ее логика, опирающаяся на убедительную силу любви, в сотни раз превосходит критические способности этих простых людей. Они сами не замечают, как девочка вновь навязывает им предпосылку, что Прекраснейшая существует, что она в высшей степени разумна и не может иметь в голове ничего коварного или противного разуму. История с источником, которого не было, ни в малейшей степени не тревожит девочку. Лицо ее кажется сегодня необыкновенно свежим, свежее, чем четырнадцать дней назад. Щеки, оцарапанные поцелуем тернового куста, покрывает нежный розовый румянец. Заплаканная Луиза Субиру не сводит с дочери испуганных глаз. Нет, не может быть правдой то, что говорит Пигюно: что через месяц-другой Бернадетту разобьет паралич и она утратит речь. Подлая ведьма эта Пигюно, и поразительно, что в этот час величайшего разочарования мать начинает верить, что Бернадетте в самом деле является Пресвятая Дева в образе очаровательной и своенравной дамы.
Только один человек еще не произнес в это утро ни слова. Это Франсуа Субиру, отец семейства. Но тут происходит нечто, чего едва ли можно было ожидать от этого нерешительного, зависимого от чужих мнений человека. Он выставляет всех собравшихся за дверь. Делает он это, конечно, со всем присущим ему достоинством и тактом, раскланиваясь во все стороны и прижимая руку к сердцу.
– Я бедный человек, – говорит он, – и как будто мало мне было обрушившихся на меня несчастий. Бог послал мне под конец еще и это испытание. Я не могу проникнуть в душу своего ребенка. Я не знаю, действительно ли Бернадетта не в себе. Одно я знаю твердо: она нас не обманывает. Но что мне делать? Надо жить дальше. Однако в такой обстановке мы жить не можем. В этой комнате, дорогие соседи и родственники, очень мало воздуха, а нас здесь шестеро. Поэтому я прошу вас, не обижайтесь, но сейчас уходите и больше не приходите…
Эти слова порождены такой душевной болью, что непрошеные гости тут же спешат исчезнуть, не затаив зла, кроме Пере и Пигюно, которые тотчас отправляются разносить дурные новости. Последним из кашо выбирается одноглазый Луи Бурьет, тот, кто выполняет отдельные поручения хозяина почтовой станции Казенава. Субиру просит его сообщить хозяину, что он болен. Затем, впервые за долгое время, вновь привычно укладывается в постель, хотя в два окошка кашо еще заглядывает бледное солнце.
Мария, которой хочется утешить сестру, садится рядом с ней за стол и открывает катехизис. Девочки начинают вслух учить урок, как будто ничего не случилось. Жан Мари и Жюстен, которые благодаря даме переживают время упоительной, ничем не ограниченной свободы, отправляются в одну из своих исследовательских экспедиций…
Нередко великие мысли, чтобы родиться на свет, выбирают отнюдь не великие головы.
Бурьет, бывший каменотес, не совсем слеп на правый глаз. Если бы этот глаз ничего не видел, он не так бы ему досаждал, или, говоря словами Евангелия, не так бы его «соблазнял». Но правый глаз мучает Бурьета непрестанно, он чешется, горит, он почти всегда воспален. Кроме того, мутное темно-серое пятно, от которого правый глаз не может освободиться, нарушает ясность восприятия левым глазом. Бурьет сделал свой недуг центром собственной жизни. С одной стороны, этот недуг привлекает к нему сочувствие людей, с другой – позволяет постоянно жалеть себя и испытывать от этого приятное чувство успокоения. «Что можно требовать от слепого?» – любимая присказка этого инвалида. Бурьет действительно не слишком много от себя требует, в расцвете сил он отказался от тяжелой мужской работы, чтобы перебиваться случайными заработками посыльного. Это легче, а перед семьей и миром у него есть надежное оправдание – его увечье.
Хотя исцеление вроде бы не сулит Бурьету никакой практической выгоды, но по дороге от Субиру к Казенаву ему приходит в голову неожиданная мысль. Подобно всем больным, страдающим от постоянного недомогания, Бурьет считает, что если лекарство не вредит, то оно уже полезно. Он поворачивает обратно и возвращается на улицу Пти-Фоссе, где проживает он сам и его семья. У двери ему попадается на глаза его шестилетняя дочурка.
– Послушай-ка, детка, – спрашивает ее Бурьет, – ты знаешь грот Массабьель, где Бернадетте Субиру является ее дама?
– Конечно, знаю, папочка, – обиженно заверяет малышка тоном завсегдатая, которого ошибочно приняли за новичка. – Я была там уже целых три раза…
– Послушай, деточка, – говорит отец. – Беги к маме! Попроси у нее большой кусок мешковины. Потом сбегай в грот и набери мне сырой земли, той, что там накопана в правом углу, в глубине. Не ошибись: в правом углу, в глубине! Затем принеси мне ее на почтовую станцию! Поняла?
Через полчаса, завернув в платок немного земли – теперь уже довольно мокрой кашеобразной грязи, – Бурьет забирается в самую темную часть конюшни Казенава. Там он находит пустое стойло, садится на солому и прислоняется спиной к кирпичной стене. Затем плотно прижимает платок с сырой землей к правому глазу. Вода из узелка сочится у него по лицу. Считая, что лекарство подействует не скоро, Бурьет сидит в своем темном укрытии, пока часы на башне Святого Петра не бьют два. За часы, проведенные в конюшне, земля в платке все еще не высохла.
Когда Луи Бурьет выходит из ворот конюшни, он в испуге отшатывается, так много света льется ему в глаза. Он торопливо закрывает здоровый левый глаз. Неподвижное темно-серое пятно в правом глазу стало молочно-белым и начало рассасываться. Плотный туман превратился в тонкую, прозрачную гряду облаков, в которой мелькают огненные зарницы. Сквозь эти перистые облака Бурьет может отчетливо различать очертания людей и предметов. Он приходит в необыкновенное волнение, не столько от состояния своего глаза, сколько от своего открытия, и опрометью бежит через площадь Маркадаль к доктору Дозу.
В это время Дозу проводит свой ежедневный прием. Сегодня у него полно пациентов. Но Бурьета невозможно удержать. Он без стука врывается в святая святых врача, в его кабинет.
– Что вы себе позволяете, Бурьет? – напускается на него Дозу. – Будьте добры выйти за дверь и дождаться своей очереди!
– Но я не могу ждать! – выпаливает Бурьет в полной растерянности. – Мой правый глаз прозрел! Я прикладывал к нему сырую землю из грота и теперь вижу, доктор! Это чудо…
– Вам всем не терпится дождаться чуда, – ворчит Дозу. Затем плотно занавешивает окна, зажигает керосиновую лампу с сильным отражателем и принимается исследовать глаз Бурьета.
– Четыре больших рубца на роговице. Значительное отслоение сетчатки. Тем не менее вы им немножко видите, разве не так? Иногда лучше, иногда хуже…
– Да, иногда лучше, иногда хуже, – соглашается Бурьет, которого, как любого человека, страдающего глазами, легко поколебать в оценке его зрения.
– И сегодня вы видите им лучше, не так ли?
– Да, доктор, гораздо лучше, будто вспыхивает зарница и в ее свете я все вижу.
– Зарница, мой дорогой, – еще не настоящее зрение. Просто вы несколько часов нажимали на глазное яблоко и сильно раздражили нерв. – Дозу поворачивает лампу так, чтобы она ярко осветила таблицу на противоположной стене. Затем указывает на первую букву в верхнем ряду:
– Можете прочесть мне эту букву правым глазом, Бурьет?
– Нет, доктор, не могу.
– А левым глазом можете?
– Нет, доктор, не могу.
– Черт возьми! И левым не можете? А двумя глазами?
– И двумя глазами не могу, доктор, потому что я совсем не умею читать.
Дозу отдергивает занавески.
– Приходите завтра, Бурьет, когда вы будете спокойнее.
Выходя из комнаты, инвалид упрямо бормочет:
– И все-таки это чудо.
Но доктор Дозу не знает, относить ли данный случай к офтальмологии или к психиатрии.