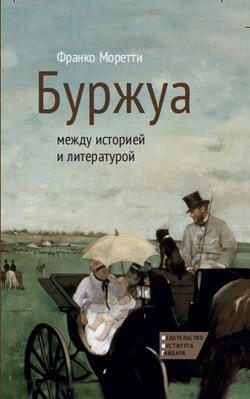Читать книгу Буржуа: между историей и литературой - Франко Моретти - Страница 7
Введение: понятия и противоречия
5. Абстрактный герой
ОглавлениеНо время говорит с нами только через форму как медиум. Истории и стили: вот где я нахожу буржуа. Особенно в стилях; что само по себе удивительно, учитывая, как часто говорят о нарративах как основании социальной идентичности[28] и как часто буржуазия отождествлялась с волнениями и переменами – от некоторых знаменитых сцен «Феноменологии духа» до «все сословное и застойное исчезает» [в английском переводе дословно «все твердое, превращается в воздух». – Примеч. пер.] в «Манифесте Коммунистической партии» и созидательного разрушения у Шумпетера. Поэтому я ожидал, что буржуазную литературу будут характеризовать новые и непредсказуемые сюжеты: «прыжки в темноту», как писал Эльстер о капиталистических инновациях[29]. А вместо этого, как я утверждаю в «Серьезном веке», происходит обратное: упорядоченность, не дисбаланс, была главным повествовательным изобретением буржуазной Европы[30]. Все твердое затвердевает еще больше.
Почему? Главная причина, по-видимому, заключается в самом буржуа. В ходе XIX столетия, как только было смыто позорное клеймо «нового богатства», эта фигура приобрела несколько характерных черт: это, прежде всего, энергия, самоограничение, ясный ум, честность в ведении дел, целеустремленность. Это все «хорошие» черты, но они недостаточно хороши, чтобы соответствовать тому типу героя повествования, на которого столетиями полагалось сюжетостроение в западной литературе – воину, рыцарю, завоевателю, авантюристу. «Фондовая биржа – слабая замена Священному Граалю», – насмешливо писал Шумпетер, а деловая жизнь – «в кабинетной тиши среди бесчисленных столбцов цифр» – обречена быть «антигероической»[31]. Дело в огромном разрыве между старым и новым правящими классами: если аристократия бесстыдно себя идеализировала, создав целую галерею рыцарей без страха и упрека, буржуазия не создала подобного мифа о себе. Великий механизм приключения [adventure] был постепенно разрушен буржуазной цивилизацией – а без приключения герои утратили отпечаток уникальности, которая появляется от встречи с неизведанным[32]. По сравнению с рыцарем, буржуа кажется неприметным и неуловимым, похожим на любого другого буржуа. Вот сцена из начала «Севера и юга», в которой героиня описывает своей матери манчестерского промышленника:
– О, я едва знаю, что он из себя представляет, – сказала Маргарет <…>, – около тридцати, с лицом, которое нельзя назвать совсем заурядным, но нельзя и назвать красивым, ничего примечательного – не совсем джентльмен, но этого едва ли можно было ожидать.
– Хотя не вульгарный и не простоватый», – добавил ее отец[33].
Едва ли, около, не совсем, ничего… Суждение Маргарет, обычно весьма острое, теряется в водовороте оговорок. Дело в абстрактности буржуа как типа: в крайней форме это просто «персонифицированный капитал» или даже «машина для превращения <…> прибавочной стоимости в добавочный капитал», если процитировать несколько пассажей из «Капитала»[34]. У Маркса, как позднее и у Вебера, методическое подавление всех чувственных черт мешает представить, как такого рода персонаж вообще может служить центром интересной истории – если, конечно, это не есть история его самоподавления, как в портрете Томаса Будденброка у Манна (который произвел глубокое впечатление на самого Вебера)[35]. Иначе обстоит дело в более ранний период или на периферии капиталистической Европы, где слабость капитализма как системы оставляет больше свободы для того, чтобы придумать такие мощные индивидуальные фигуры, как Робинзон Крузо, Джезуальдо Мотта или Станислав Вакульский. Но там, где капиталистические структуры затвердевают, нарративы и стилистические механизмы вытесняют индивидов из центра текста. Это еще один способ посмотреть на структуру этой книги: две главы о буржуазных героях – и две о буржуазном языке.
28
Недавний пример из книги о французской буржуазии: «Здесь я выдвигаю тезис, что существование социальных групп, хотя оно и имеет корни в материальном мире, определяется языком, а точнее нарративом: чтобы группа могла претендовать на роль актора в обществе и политическом строе, она должна располагать историей или историями о себе» (Sarah Maza, The Myth of the French Bourgeoisie: An Essay on the Social Imaginary, 1750–1850, Cambridge, MA, 2003, p. 6).
29
Шумпетер «восхвалял капитализм не за его эффективность и рациональность, но за его динамичный характер… Вместо того чтобы ретушировать творческие и непредсказуемые аспекты инноваций, он делает их краеугольным камнем своей теории. Инновация по сути своей феномен нарушения равновесия – прыжок в темноту» (Jon Elster, Explaining Technical Change: A Case Study in the Philosophy of Science, Cambridge 1983, pp. 11, 112).
30
Такое же буржуазное сопротивление нарративу вырисовывается из исследования Ричардом Хелгерсоном золотого века голландского реализма: визуальной культуры, в которой «женщины, дети, слуги, крестьяне, ремесленники и повесы действуют», тогда как «мужчины-хозяева из высших классов <…> существуют», и которая находит свою любимую форму в жанре портрета. См.: Richard Helgerson, ‘Soldiers and Enigmatic Girls: The Politics of Dutch Domestic Realism, 1650–1672’, Representations 58 (1997), p. 55.
31
Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1975 (1942), pp. 137, 128; Йозеф Шумпетер, Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995, с. 192, 179. В том же ключе Вебер вспоминает определение века Кромвеля у Карлейля как «the last of our heroism [последней вспышки нашего героизма]» (Weber, Protestant Ethic, p. 37; Вебер, Протестантская этика и дух капитализма, с. 20).
32
Об отношениях между менталитетом авантюриста и духом капитализма, см.: Michael Nerlich, The Ideology of Adventure: Studies in Modern Consciousness, 1100–1750, Minnesota 1987 (1977) и первые два параграфа следующей главы.
33
Elizabeth Gaskell, North and South, New York/London 2005 (1855), p. 60.
34
Karl Marx, Capital, vol. I, Harmondsworth 1990 (1867), pp. 739, 742; Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Сочинения. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960, с. 605, 609.
35
О Манне и буржуазии, кроме многочисленных работ Лукача, см.: Alberto Asor Rosa, ‘Thomas Mann o dell’ambiguità borghese’, Contropiano 2: 68 и 3: 68. Если был какой-то специфический момент, когда идея книги о буржуа пришла мне в голову, это произошло более сорока лет назад во время чтения Азора. Написание книги по-настоящему началось в 1999–2000 гг. Во время годового пребывания в Институте перспективных исследований (Wissenschaftskolleg) в Берлине.