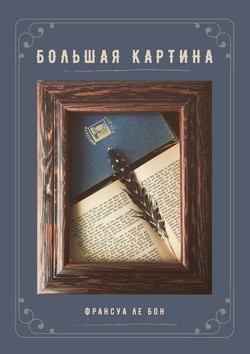Читать книгу Большая картина - Франсуа ле Бон - Страница 3
Всего две карточки
ОглавлениеКогда он впервые увидел Шлегеля, то подумал: «Вот это недоразумение!» Точнее, он принуждал себя, как мог, мысленно сделать вывод: «Вот это недоразумение!», быстро пробормотать извинения, уйти домой. Тогда Ивлин еще верил в теорию характеров и типажей: он держался за нее так старательно, как некоторые стремятся классифицировать людей по знакам зодиака.
Познакомься он со Шлегелем лет пять назад – оба были бы в респираторах (некоторые носили их по сию пору). А года два назад Ивлин бы и вовсе не стал встречаться со Шлегелем – мнить себя писателем в ту пору было чревато разочарованиями, ведь нужно было закрепляться в новой профессии. Но судьба распорядилась свести их именно сейчас, а потому Ивлин просто отдал себе распоряжение считать Шлегеля недоразумением. Ну или хотя бы стараться считать его таковым.
Ивлин не был совсем уж дураком. У него была пара-тройка знакомых. Они поддерживали его, уверяли, что Ивлин – самый что ни на есть настоящий писатель, читали огрызки его текстов и даже хвалили их. Сложившийся круг знакомых, бывало, хвалил и самого Ивлина – ногастого, брюнетистого, с вечно хмурой мордахой (что они почитали за поэтичность) и красными от недосыпа глазами (что они почитали за маркировку вдохновленного литератора).
Разумеется, Ивлин не был совсем уж дураком – до этого он уже отправил в МОЛ целых пять своих рукописных романов. Все разного жанра, разной направленности, выбирай не хочу. Но ни один текст не был признан в Обществе. Официальное обращение МОЛа к авторам (а заодно и к издателям, и к книжным магазинам) гласило, что в большинстве своем тексты, полученные от авторов доабсурдных лет, не годны к публикации. Без сомнения, в них был потенциал и талант, но в нынешней мировой обстановке лучше бы литераторам объединяться и пытаться что-то сообразить коллективным разумом.
Для того, чтобы автора внесли в картотеку таких вот не дотягивающих до публикации бедолаг, требовалось всего ничего: сдать данные об образовании, текущем месте работы, перевести на счет Общества денежную «благодарность» (это был самый трудный для исполнения пункт) и заполнить несколько карточек, характеризующих личные пристрастия: например, «любимый поэт – Вордсворт», «не разбирается в драматургии» и т. п. Сотрудники МОЛа тщательно изучали карточки и, в случае нахождения общностей, выдавали счастливчикам Слепой талон. При удачном стечении обстоятельств к Слепому талону полагался и особый блокнот – тот, в котором будущие знаменитости отдадут редакторам МОЛа свое нетленное творение.
Видать, рабский труд и щедрые взносы все-таки себя оправдали – Ивлин Камберленд получил свой Слепой талон спустя несколько лет после вступления в МОЛ. Конечно же, Ивлин был вполне обычным человеком, чтобы ни воображала о нем миссис Гонт, и конечно же, он, как и все, ненавидел ночные смены. Но, вытаскивая под утро в подсобку раскладушку и убаюкиваясь бесконечными сплетнями цеховых работниц, он утешал себя тем, что, по крайней мере, знал, для чего зарабатывает свои деньги.
И вот оно сбылось. Спустя годы бессонницы и страданий Слепой талон выписан на его имя. Оставалось только добрести до места встречи, произвести должное впечатление и молиться о плодотворном исходе.
Человек, определенный МОЛом ему в соавторы, ждал у входа в пивную. Он был одних лет с Ивлином, коренастый и крепкий, с жесткими темными волосами и какой-то неуловимой ближневосточностью в скулах, веках и тоне лица. На нем была потрепанная кожаная куртка, темно-серый шарф, старомодно завязанный на манер «у нас, художников» и тяжелые ботинки, подбитые металлическими стержнями. Завидев Ивлина, с которым он прежде условился о встрече по штрих-коду Слепого талона, незнакомец протянул могучую, обветренную руку:
– Меня зовут Шлегель. Если вы из Мирового Общества…
– Я Камберленд, – перебил его Ивлин.
– Рад знакомству, мистер Камберленд, – заученно-любезно ответил Шлегель, но уже на следующей реплике его голос изменился, стал добродушным: – Пойдем пожрем?
Значит, он не боялся есть в общественных местах, понял Ивлин. Этот мистер Шлегель, видимо, не опасался тяжелых металлов в продуктах – ими вечно пугали Ивлина отец и миссис Гонт, заставляя есть дома и готовить себе пищу самому.
Они зашли в пивную, погрузились в чернодеревный балочный сумрак. Зал был пуст, заведение доживало последний месяц и не ведало об этом. Ивлин попытался улыбнуться, улыбка поехала набок, превратилась в оскал:
– Понятия не имею, что полагается говорить.
Новый знакомый начал с нейтральной и вместе с тем – самой неудобной общности:
– Хочешь стать настоящим писателем?
– Кто ж не хочет? – усмехнулся Ивлин. – Учитывая, во сколько это обходится простым смертным.
– И не говори. Сам я продал дом родителей, чтобы только выхватить этот Слепой талон… Думал, получу какой-то дар с небес. – Шлегель озадаченно оглядел своего спутника через стол. – И вот что у нас есть в итоге.
– Целый дом? – Ивлина поразила столь масштабная жертва. – Но это большая сумма!
– Честно говоря, я еще надеялся, что они научат меня бонусом какому-то особому видению. Вроде того, как работают великие авторы, все такое. Чтобы сочинять прекрасное не только на потребу, а… для себя.
– «Для себя»? – фыркнул Ивлин. – Так говорили раньше.
Шлегель рассмеялся:
– Точно, помню это! В те времена каждый придурок начесывал себе что-то невероятное на голове или рядился в пух и прах, громко утверждая при этом, что делает это исключительно «для себя». Эх, старые добрые времена!
– Значит, ты из тех, да? – поинтересовался Ивлин. – Длясебяшек? Веришь в то, что люди публикуют тексты прямо от самого сердца, не переживая, что скажет публика?
Шлегель задумался, стал разминать пальцы и, к вящему недовольству Ивлина, громко хрустнул костяшками.
– Вряд ли. Наивно так считать… Я просто хотел, наверное, сам стать лучше, чтобы порадовать читателей хорошим текстом. Ведь хороший – значит искренний, так?
Он услышанного Ивлина передернуло даже сильнее, чем от хруста костяшек.
– Вот уж не сказал бы! На моем факультете учили иначе, – высокомерно ответил он. – Хороший – это прежде всего достоверный. Текст, читая который, веришь в происходящее и интерпретируешь авторский стиль, как задумано. К искренности это никакого отношения не имеет. Да и само чтение, как нас учили, уже и есть интерпретация…
Шлегель не нашел что возразить, и вступать в разговор на тему «что есть чтение» не шибко хотел. Принесли два стакана пива. Казалось, более чем достаточно для первой встречи, но Шлегель неожиданно окликнул официантку и заказал себе целую тарелку соленых закусок. «Теперь это точно надолго», – уныло подытожил Ивлин и достал из кармана пачку сигарет с зажигалкой.
– Я работаю в цехе, – сказал он, закуривая. – Логистика и перевозки.
Шлегель оживился:
– Перевозки, говоришь? А я развожу дрова. На лесопилке можно поставить грузовик, и мы с ребятами собираем там все сразу. У меня дом около леса, это удобно… знаешь, там нужны крепкие руки! Они сейчас везде нужны. Хотя в МОЛе мне сообщили, что вроде бы специальность мы с тобой получили одинаковую. Немецкая филология, верно?
Да, Ивлин тоже узнал это еще до встречи. Он все знал, и во всем убеждался, но никак поначалу не хотел признавать, что этот случайный мистер Шлегель вдруг оказался ему ровней. От буквального – оба были шесть футов в высоту, до сакраментального – одинаковая и никому не нужная трудовая квалификация, полученная, правда, в разных заведениях. Альма матер Ивлина научила его разве что чураться хороших авторов за их «неприличную» популярность, но так и не воспитала в нем обожание авторов «порядочных» – неизвестных широкому кругу читателей, доступных только для элиты. А мистер Шлегель в доабсурдные годы, как выяснилось, был очень отзывчив к предложенному на факультете чтиву. Да и само чтиво у Шлегеля было поинтереснее, никто не запихивал ему в голову закорючки проповедей Абрахама Санкта Клары. До цеха Ивлин проработал несколько лет переводчиком с немецкого, не по зову души, но из-за вечной потребности в деньгах. Шлегель же просто посещал класс перевода и потому сохранил симпатию к этому языку. Не отягощенная профессиональными обязательствами, любовь Шлегеля к литературе, в принципе, осталась с юных лет неизменной и полной энтузиазма. У Ивлина же любовь к тексту претерпевала множество изменений, меркла, закалялась, полыхала и вновь гасла, изрешеченная социальными расстрелами: «у нас такое не читают», «такое вообще никто не читает», «да кто сейчас хоть что-то читает?»
Тем временем Шлегель, отхлебнув пива, поинтересовался:
– Ты всегда тут жил? Говорят, здесь неблагоприятная обстановка. Вода, которая течет из крана, до сих подается из отравленных источников… Я вот сам из Грэйтхилла.
Ивлин коротко бросил:
– Я родился в Грэйтоуксвилладж.
– Ого, – присвистнул Шлегель. – Далеко. Там, наверное, красиво?
– Ага… – не слушая его, Ивлин вдруг задумался о чем-то: – Пять букв.
– Где пять букв?
– Пять одинаковых букв в названии мест, откуда мы родом, – затем Ивлин, словно извиняясь, уточнил: – Пять первых букв, я имел в виду.
Шлегель уставился на него своими любопытными ближневосточными глазами:
– А ты, наверное, неплохой редактор?
– Буквы считает корректор, если ты об этом. Но да, наверное, неплохой.
Тогда Шлегель наклонился вниз и принялся копаться в своем портфеле, лежащем под скамейкой. Переворошив содержимое, он выудил наружу толстую тетрадь в синей обложке. Довольно хмыкнув, мужчина кинул тетрадь на стол перед Ивлином и распорядился:
– Значит, тогда ты будешь записывать. МОЛ сподобились выделить нам специальную тетрадку. Говорят, текст будет принят к рассмотрению в рукописном варианте именно в этом блокноте.
– То есть… – Ивлин нахмурился. – Мы не сможем печатать или же работать порознь?
– Боюсь, что нет. Общество считает, это плохо сказывается на дисциплине. Когда каждый считает себя оригинальным…
– Но кто будет что делать? Два человека, одна тетрадь. Бред какой-то!
– Ты же редактор, – предложил Шлегель. – Значит, ты будешь записывать свое напрямую, а мое – под диктовку, и сразу превращать это в красивые предложения.
Ивлин покачал головой:
– Ты снова ошибся. Записи под диктовку делает стенограф. Но хорошо, я сделаю это, не вопрос. Тогда с меня – выбор названия.
– А оно что, уже есть?
– «Большая картина», – безапелляционно заявил Ивлин.
Шлегель несколько мгновений молча обдумывал предложенный вариант, после чего согласился:
– Звучит неплохо. Оно что-то значит для тебя?
Эту тему не должно было затрагивать, но лучше уж все выложить начистоту сразу, решил Ивлин и объяснил:
– Отец рисовал давным-давно батальные сцены на огромном белом отрезе ватмана и называл эти рисунки Большой картиной. Понимаешь… у меня непростые отношения с отцом. Он это все – книги, МОЛ, сочинительство – попросту ни во что не ставит! Если бы только у меня получилось создать хороший текст, да еще и издать его, то думаю, отец сумел бы взглянуть на литературу иначе.
Шлегель внимательно слушал, после чего вновь сделал глоток пива и произнес будто бы в никуда:
– Странно, что они нас так выбрали.
– Причина же в немецкой кафедре, разве нет? – предположил Ивлин.
– Больше причин вряд ли можно найти, – мрачно заметил Шлегель.
Он какой-то чересчур с характером, раздраженно подумал Ивлин, но откинул эту мысль подальше, вслух возвращаясь к курьезам выпавшего на их долю жребия:
– А какие карточки они у нас выбрали по совпадениям? Ты же был в МОЛе недавно. Если они дали нам эту тетрадь, разве они не вручили тебе карточки наших общих свойств?
– Да, карточки дали. Я просто… – Шлегель замялся, опустил взгляд на кружку с пивом, на темные половицы, себе под ноги. – Я не хотел тебя сразу расстраивать.
Ивлин заподозрил неладное. Ясное дело, их с мистером Шлегелем притянули друг к другу из-за немецкой литературы – даром только Ивлин нигде не указал, что испытывает к той литературе одно лишь отвращение. Но, помимо такой поверхностной информации, он ведь заполнил очень много карточек, которые помогли бы коллегии МОЛа подобрать ему достойного соратника. Например, Ивлиновскими карточками были еще и «обожает Шопена», «очень любит Италию», «в целом верит в гуманизм». Наверняка у них со Шлегелем найдется много схожих интересов и помимо гребаной кафедры. Должно найтись!
Однако выражение лица собеседника намекало на нечто противоположное, поэтому Ивлин, устав гадать, попросил:
– Просто покажи мне наши чертовы карточки.
– Ладно, – пожал плечами Шлегель. – Сам захотел. Смотри.
С этими словами он вытащил из кармана красно-черной клетчатой рубашки два картонных квадратика и положил их на стол крапчатым покрытием вверх. Дьявольские кости были брошены, судьба определена. Осторожно, словно дотрагиваясь до чего-то раскаленного, Ивлин перевернул квадратики, наклонился и подслеповато сощурился, чтобы в полумраке пивной прочитать надписи:
«Считает манифестацию по политическим
вопросам бессмысленной и обреченной»
«Не выносит фразу АТМОСФЕРА СТАРИННЫХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДКОВ»
– И это все?! – ошеломленно выдохнул он. – Да я с таким же успехом мог бы взять в соавторы вон того парня за барной стойкой! Что они себе возомнили? Как, скажи на милость, могут сработаться двое, которых бесит фраза про атмосферу городов…
Шлегель с тоскливым видом кивнул:
– Да, признаюсь, когда я прочитал карточки, тоже как-то скис. С первым встречным больше шансов поладить, чем имея в схожих чертах две вот такие карточки.
Но Ивлин его даже не слушал. В его мозге бешено крутились цифры и подсчеты, сколько отняла у него эта безумная, безумная афера с соавторством.
– Я столько платил им! Вкалывал, как проклятый, чтобы скопить деньги на свое книжное дело. И вот результат… Ну что за недоразумение! – выпалил он абсолютно искренне.
– Херня полная эти Слепые талоны, – согласился Шлегель. – Ты или можешь с кем-то созидать что-то стоящее, или нет. И это никак не зависит от одинаковых факультетов или еще чего.
Горькой была правда, горьким было разочарование. Отец его на смех поднимет, если узнает, что за нелепицу устроил МОЛ – форпост всех надежд Ивлина. Да и как он сам не догадался? Разве не понял он с самого начала, что такие, как этот пришлый плотнотелый Шлегель, даже своим внешним видом не могут претендовать на звание литераторов?
Выругавшись себе под нос, Ивлин встал из-за стола, накинул плащ и затолкал мятую купюру под пустой пивной стакан. Он выдавил из себя самую любезную улыбку, на которую только оказался способен:
– Пожалуй, мне уже пора. Рад был познакомиться, мистер Шлегель.
– Взаимно, – равнодушно отозвался тот. – Значит, решили? Мне надо что-то им сказать, когда повезу тетрадь обратно. Никакого шанса?
Ивлин сжал губы, мучительно обдумывая дальнейшие шаги. Ему не хотелось сдаваться и отпускать мистера Шлегеля просто так, и задним умом он уже приписал это неохоте впустую терять деньги за взносы в МОЛ. Наконец, он осторожно поинтересовался:
– Могу я кое-что упомянуть, а ты на это ответишь первое, что придет в голову? Тогда и решим.
Шлегель не испытывал никакого энтузиазма, но жевать закуски к пиву в одиночку ему тоже не хотелось. Потому он не видел повода для отказа:
– Валяй.
И Ивлин сказал:
– Франц Кафка.
Это был выстрел вслепую. Он ничего не ждал от мистера Шлегеля. Ивлин уже давно ни от кого ничего не ждал. Всякому было понятно, что Шлегель – нормальный здоровый человек, который предпочитает интересные тексты. Нельзя винить человека, если тот не выносит Кафку. Кафку вообще трудно выносить, если не питаешь искренней любви к его прозе. Но даже и любовь эта не делала тебя особенным, не приближала к райским кущам – в этом Ивлин убедился на опыте своей трудовой жизни. Ладно. Сейчас он услышит что-то очевидное, удобно-вежливое про «Замок» или «Процесс», про убогую Кафкину биографию, отца-тирана или несостоявшиеся женитьбы. Про раздутую славу в обожающем авангард двадцатом столетии. Про последователей кафкианской традиции в предабсурдную эпоху…
Но Шлегель просто прикрыл глаза, будто вспоминая что-то. Спустя некоторое время, когда Ивлин уже вновь начал рыскать в карманах в поисках сигарет, Шлегель ответил:
– «На галерее».
Ивлин замер. Это был не стандартный выбор, совсем не стандартный. Это не замызганная каждым литературоведческим кружком история про превращение в жука, или штампованные излияния про бюрократию и образ «маленького человека». Рассказ «На галерее» – очерк, зарисовочка – был текстом редким, не снискавшим себе ни цитирования читателей, ни внимания филологов. Ивлин не мог понять, что заставило Шлегеля из всего кафкианского наследия упомянуть этот далеко не популярный текст, а потому он мог только засмеяться:
– Да ты вообще откуда взялся такой?
Теперь уже Шлегель, позабыв про неоконченную трапезу, встал и полез за бумажником, чтобы поскорее завершить встречу:
– Мистер Камберленд, брось прикидываться.
– И в мыслях не было! – замотал головой Ивлин. – Но мы могли бы?
– Могли бы? – эхом переспросил Шлегель.
– Конечно, могли бы. Почему ты такой необычный?
Шлегель вновь глупо уставился на него:
– Это я необычный?
– «На галерее»! Да кто вообще такое вспомнит? И почему… – Ивлину не давала покоя невозможность классифицировать нового знакомого по своим привычным меркам: – Почему ты почти не говоришь на все эти злободневные темы? Ну, об экологии. Об экономике. О том, как все плохо в экологии и экономике. То, о чем все говорят. Почему?
Не зная, что бы такого ответить позаковыристее, Шлегель сказал как есть:
– Потому что мне казалось, что ты захочешь говорить о литературе.
Если не брать в расчет страсть к писательству, то в принципе, они оба были довольно заурядными и неплохими людьми. В мире, где создать возможность могло лишь наличие определенных условий, мистер Камберленд и мистер Шлегель сумели создать возможность на одном только отсутствии враждебности. У них не было ничего, кроме голого остова, стылой земли и пустой тетради – а ведь вырастить что-то на такой неплодородной почве куда сложнее.
Что ж. Они с мистером Шлегелем, по крайней мере, не испытывали друг к другу неприязни. А о большем никто и мечтать не смел.