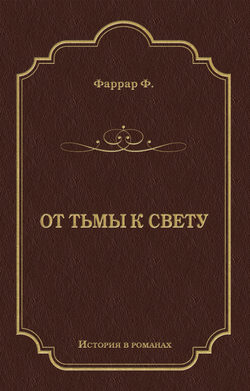Читать книгу От тьмы к свету - Фредерик Фаррар - Страница 9
Часть первая
Клофо прядет пряжу
Глава IX
ОглавлениеТрудно было бы найти в Риме юношу, судьба которого была бы печальнее участи сына Клавдия и достойнее сожаления. Блестящим успехом увенчались коварные происки честолюбивой его мачехи, добившейся того, что Британник, прямой наследник престола после последнего цезаря, был нулем во дворце своих предков. Отведенные для него вместе с немногочисленной его свитой апартаменты находились в самой отдаленной от императорских палат части обширного дворца, и только в очень редких случаях дозволялось Британнику быть гостем на банкетах и празднествах, так часто наполнявших музыкой, пляской и весельем роскошные залы молодого императора. В обращении Агриппины с пасынком обнаруживалась какая-то загадочная нервность. Она, то оттолкнуть его от себя с сурово надменным видом, то привлечь к себе и для этого начинала осыпать его нежностью и ласками, словно желала этим загладить свою вину перед ним. Но для Британника эта нежность и эти ласки мачехи были во сто раз противнее ее суровости и часто, не умея скрывать своих настоящих чувств, он очень ясно выказывал ей это, чем, разумеется, только вредил себе. Точно также и Нерон, хотя и третировавший его по большей части с высоты своего величия, часто однако ж в душе желал бы видеть в нем побольше теплых братских чувств к себе. Единственной отрадой Британника была его дружба с горячо им любимой сестрой, императрицей Октавией, в откровенных беседах с которой он всегда отдыхал душой и у которой находил себе убежище от тех ненавистных шпионов, какими с самого нежного его возраста постоянно старалось окружить его дальновидное честолюбие Агриппины.
Был однако ж среди окружающих один человек, которому Британник вполне доверял и которого любил искренно. Это – центурион преторианской гвардии Пуденс, постоянно находившийся во дворце на карауле то в одном месте этого обширного здания, то в другом. Впрочем, кроме Пуденса Британник имел счастье найти себе также и среди своих сверстников одного очень преданного друга, которого и сам он горячо любил, в лице старшего сына Веспасиана, Тита. Тит был всего на один месяц старше Британника. С детства мальчики-ровесники вместе учились, вместе и играли. Ничтожество в смысле значения политического рода Флавиев, от которого вел свое происхождение Веспасиан, было одной из первых причин, почему Агриппина выбрала Тита в товарищи сыну Клавдия. Ничто никогда не прерывало этой дружбы двух молодых людей и даже впоследствии, когда Тит стал уже императором, он сохранял неизменно самое теплое воспоминание о юном друге, так безвременно погибшем на заре жизни, и в память ему воздвиг конную статую.
Как-то раз, проходя дворцовым садом, Тит увидел мальчика-раба, делавшего неимоверные усилия, чтобы заглушить и сдержать стоны и рыдания. Вид этого бедного ребенка тронул юношу. Не приученный, подобно другим римским молодым аристократам той эпохи, гнушаться разговоров с рабами, в которых, благодаря наставлениям своего отца и Сенеки, видел, напротив, таких же людей, как и другие, он остановился пред мальчиком и спросил его:
– Кто ты и о чем плачешь?
– Меня зовут Эпиктетом, – отвечал ребенок, – и я принадлежу к числу рабов императорского секретаря Епафродита. Сейчас я упал и очень сильно ушиб больную ногу. Однако постараюсь перенести эту боль мужественно.
– Настоящий стоик! – сказал Тит. – Но что с твоей ногой?
– Я слаб и уродлив и не мог быть полезным рабом, – сказал мальчик, – и по этой причине мой господин решил обучить меня философии и приставил в качестве книгоносца к своему сыну, который посещает лекции философа Музония Руфа. И вот Музоний, по своей доброте, позволяет мне садиться на пол, где-нибудь в уголке, и слушать, что он преподает своим ученикам. Пока я еще не стоик, но приложу все усилия, чтобы со временем стать им.
– Все это прекрасно, но ты еще не сказал мне, как случилось, что ты хромой?
Эпиктет слегка покраснел.
– Восемь недель назад, – начал он, – я проходил мимо дверей триклиниума, как вдруг в это самое время вышел оттуда один из рабов с подносом с стеклянными кубками и сосудами в руках и, наткнувшись на меня, уронил часть посуды и разбил. Вину за разбитые вещи он свалил на меня, и Епафродит дал приказание вывихнуть мне одну ногу. Мне было ужасно больно; тем не менее, помня учение доброго Музония, я всячески старался не кричать и только раз не вытерпел и закричал: «Если будете так и дальше вертеть мне ногу, то, чего доброго, сломаете ее». Но никто не обратил внимания на мое замечание, а действительно кончилось тем, что ногу мне сломали. Однако тогда я не плакал, и мне очень стыдно, что я имел сегодня слабость поддаться такому постыдному малодушию.
– Бедный мальчик! Пойдем со мной: я отведу тебя к Британнику. Он сострадателен и добр и, может быть, попросит императрицу Октавию принять в тебе участие.
И Эпиктет заковылял вслед за Титом, который вскоре привел его к Британнику. Мужество мальчугана очень понравилось принцу; он его приласкал, и с этого времени Эпиктет часто бывал его гостем, причем нередко передавал молодым людям то, чему в своих лекциях учил стоик Музоний. Этими беседами был положен первый зачаток будущему стоицизму Тита.
Другого доброжелателя Британник нашел себе, как это ни казалось странным, в красавице Актее. Несколько двусмысленное положение этой женщины при дворе Нерона в первое время его царствования, – положение, греховность которого она, по своему воспитанию, не могла понять – не лишало ее ни нравственной чистоты, ни природного добродушия. Привязанностью императора к себе она не кичилась, и если когда пользовалась влиянием на него, то единственно, чтобы доставить облегчение другим. К Британнику Актея чувствовала большую жалость и не раз против себя возбуждала даже гнев императора своим заступничеством за него. Вместе с тем ей все-таки удалось добиться от Нерона некоторого ослабления строгого надзора, каким постоянно старались окружить юношу, за что Британник, со своей стороны, чувствовал к ней большую привязанность.
Британник, как и отец его, имел большую склонность к занятиям по истории и ни в чем не находил большего для себя удовольствия, как слушать рассказы Тита, слышанные последним от своего отца Веспасиана, о военных подвигах доблестных римских войск при покорении Британии. Однажды он даже упросил центуриона Пуденса пойти с ним навестить старика Карадока – британского военачальника, с успехом боровшегося в течение целых девяти лет против вторжения римлян в Британию. Старый воин очень обрадовался, увидав у себя в гостях сына императора, пощадившего ему жизнь из уважения к его храбрости, и скоро привел юношу в восторг своими рассказами о друидах, о Моне, о силурийских быстрых реках, об охотах на волков и диких кабанов среди дремучих лесов и топких болот. А пока старик таким образом занимал юношу повествованиями, Пуденс, не отрывая глаз, любовался дочерью старого воеводы, златокудрой и с голубыми глазами Клавдией, которая, с своей стороны, говорила ему о далекой, милой родине на берегах серебристого Северна.
Постепенно беседы с Карадоком пробудили в Британнике желание ближе познакомиться с Авлом Плавтом, покорителем южной части далекого острова. Плавт при дворе находился на самом хорошем счету, и ничего потому не могло быть легче для Британника, как получить разрешение посещать дом всеми уважаемого полководца. Здесь, в доме Плавта, юноша впервые увидел и его жену Помпонию Грэцину – женщину, справедливо считавшуюся образцом верной дружбы, женского целомудрия и скромности. Близкий друг в дни первой молодости внучки Тиверия, Юлии, несчастной жертвы жестокости Мессалины.
Помпония не снимала с самого дня смерти Юлии траурной одежды и даже, как гласила, хотя и неверно, молва, никогда будто не улыбалась.
Впрочем, и на самом деле улыбка лишь весьма редко появлялась на крупном лице Помпонии; но и без улыбки в этом лице, в его блаженно спокойном и бесконечно добром выражении, было что-то необычайно хорошее и привлекательное. Она совсем не походила ни складом ума, ни воззрениями и чувствами, ни даже внешним обликом на других римлянок своего круга. Она не румянилась и не белилась; не носила высоких замысловатых причесок, никогда не пудрила волос золотой пудрой, не душилась восточными ароматами. Как в образе жизни, так и в одежде Помпония отличалась необыкновенной простотой. Редко посещала она многолюдные собрания и празднества, ограничивая свои выезды немногими домами некоторых наиболее добродетельных и честных сенаторов. Порок чувствовал себя устыженным в присутствии этой женщины и невольно краснел; римские матроны легкомысленного поведения, падкие до вольных разговоров, при ее появлении почтительно замолкали, расфранченные щеголи старались держаться скромнее. Но, отдавая такую дань невольного уважения, данники в то же время в душе завистливо шипели и тайком распускали про Помпонию слухи, более или менее клонившиеся к тому, чтобы повредить ее завидной репутации. Между прочим, был распущен слух, будто втайне она христианка.
– Ну, что за беда, если оно и так, – рассуждали об этом некоторые благородные римлянки высшего круга. – Разве сам Нерон не воздает божеских почестей какой-то ассирийской богине? Да и обворожительная жена Отона, Поппея Сабина, как говорят, иудеянка.
– Иудеянка! Быть иудеянкой еще очень почтенно. И сестра Агриппы, прелестная Береника, тоже примкнула к иудейству. Впрочем, все это еще ничего; но быть христианкой! Уж одно это слово в порядочном человеке должно возбуждать чувство непреодолимого отвращения. Одни фригийские рабы-беглецы способны примыкать к числу поклонников Онокоита – этого нового божества с ослиной головой.
Однако выдумка, распространенная злобой в виде зловредной клеветы, в данном случае оказалась правдой, Помпония действительно была втайне христианкой. Подолгу оставаясь в разлуке с мужем в то время, как он совершал военные походы, и ежеминутно беспокоясь за него в мучительной неизвестности, Помпония, которая большую часть этого времени оставалась в Галлии, случайно познала там через доверенную прислужницу Нерзису, обращенную в христианство одним из первых галльских миссионеров, учение об истинном Боге, и с этого времени жизнь ее, всегда чистая и беспорочная, стала жизнью святой.
Плавту было крайне приятно видеть в потомке цезарей его любознательность относительно всего, касавшегося истории родного края и особенно военных подвигов римлян. Он постоянно встречал юношу с искренним радушием и поторопился представить его своей жене, к которой Британник с первого же раза почувствовал полное доверие и особое влечение. Она совсем не подходила к тому типу римских женщин, с каким он был знаком с детства, и, казалось, целая бездна различий отделяла ее от таких личностей, какой была его мать Мессалина и какую он видел в своей мачехе Агриппине. При всей своей простоте Помпония казалась ему в сто раз привлекательнее, чем богато разодетые жены сенаторов и консулов, которых ему случалось видеть иногда в раззолоченных залах Палатинского дворца.
Однажды, более чем когда-либо под впечатлением сердечной доброты Помпонии, он решился быть с ней вполне откровенным и поведать ей без всякой утайки и горькие свои испытания, и те недобрые предчувствия, какими часто томился. С участием выслушав юношу, Помпония начала говорить ему об обязанности человека покоряться высшей воле и прощать обидчикам и вместе с тем старалась доказать ему, что сознание спокойной совести даст ему в результате гораздо более полное счастье, чем какое вкусил бы он, занимая среди разного рода низостей и соблазнов шаткое и небезопасное место на престоле.
– Вы говорите, как философ Музоний, учение которого часто передает мне и Титу молодой раб, фригиец Эпиктет, – заметил ей на это Британник, – но в ваших словах есть что-то более утешительное и возвышенное.
Помпония тихо улыбнулась.
– Очень многое из того, чему учит Музоний, прекрасно и полно правды, – сказала она, – но тем не менее есть еще другая истина, более высокая и святая.
Британник задумался. Затем он спросил, но как-то нерешительно и робко:
– Разрешит ли мне благородная Помпония предложить ей один вопрос?
При этих словах бледное лицо Помпонии сделалось еще бледнее. Она задумчиво устремила взор куда-то вдаль и как будто о чем-то молилась в душе, и кротко затем заметила юноше:
– Но, может быть, вы спросите меня что-нибудь такое, на что отвечать я не найду себя вправе?
– Вы, конечно, сами знаете, что, бывая иногда у императора на его пиршествах, – начал Британник, – я не могу не слышать тех сплетен, какими постоянно забавляются в этих собраниях; и я уже давно заключил из разговоров некоторых из тех дам, что бывают на этих придворных празднествах, что очень многие из них почему-то питают к вам сильную злобу, и недавно еще я слышал, как уверяли они друг друга, что рано или поздно будет возбуждено против вас обвинение в приверженности к иноземному суеверию.
– Не в нашей власти помешать злым людям возводить на нас всякие обвинения, – отвечала Помпония, – но мы всегда можем праведностью жизни и беспорочным поведением уличить их в клевете.
– Наконец, они говорили, но это, вероятно, не более как злая и нелепая выдумка, – продолжал Британник, – будто вы, осмелюсь ли я произнести перед вами гнусное слово, – будто вы – христианка.
Помпония взглянула на Британника, и в этом взгляде сказалось столько кроткой жалости.
– А вы много ли знаете о христианах, Британник? – спросила она.
– Правду говоря, весьма мало; но друг мой Тит, которому больше меня приходится всюду бывать и много видеть и слышать, не раз мне говорил, что эти христиане собираются где-то по ночам, убивают невинного младенца и пьют его кровь, что их связывают страшными клятвами и что во время своих ночных сборищ, погасив лампады, они предаются в темноте неслыханным оргиям и поклоняются ослиной голове.
– Все это только одна гнусная ложь, Британник… я знаю об этих бедных христианах совсем иное, – сказала Помпония. – Скажите мне, читали вы некоторые сочинения Сенеки?
– Нет, не читал, – сухо ответил Британник и, помолчав, прибавил: – Сенека наставник Нерона. Это он уничтожил, действуя совместно с Агриппиной и Палласом, духовное завещание императора Клавдия, моего отца, и потому мне противно читать его сочинения. Да к тому же разве он настоящий философ, как Музоний или Корнут? У этих слова не расходятся с делом, а Сенека лишь пишет прекрасные вещи, сам же не верит в них.
– Что же делать с этим, Британник! В жизни часто встречаются люди, проповедующие великие истины и строгую нравственность, хотя поступки их и не согласуются с их учением; но ведь из этого еще не вытекает, чтобы то, чему они учат, было дурно. У меня есть несколько писем Сенеки к Луцинию; хотите, я вам прочту кое-что?
И достав свиток, Помпония вслух прочла следующие размышления:
«Бог близок к нам; Он с нами, Он внутри нас. В нас живет священный дух, который охраняет нас и следит за каждым нашим поступком, и нет того хорошего человека, в котором не было бы Бога».
«Какая польза в том, что мы утаим то или другое от человека? От Бога утаить нельзя ничего».
«Человек, если хочет жить для себя, должен стараться жить для своего ближнего».
– И много подобных же великих истин могла бы я указать вам в письмах Сенеки. Разве подобные мысли не полны правды и прекрасного значения?
– Недурно было бы, если б и поступки его были так же справедливы и прекрасны, – сухо ответил Британник. – Но что же общего между мыслями Сенеки и учением христиан?
– Очень много; с той только разницей, что глубокие мысли эти, столь редко встречающиеся среди поклонников богов, у христиан – общие места и что сверх того христиане веруют еще и в другие великие истины, от которых эти получают свой смысл и свое значение.
– Вы говорите, что они ослиной голове не поклоняются, а между тем они все же молятся какому-то Христосу или Хрестосу, принявшему позорную смерть на кресте.
– Страдание не унижает человека, а только возвышает, окружая его ореолом святости. Разве не воздают римляне божеских почестей Геркулесу, хотя они верят, что его живым сожгли на костре.
Британник молчал: он с младенчества был приучен смотреть на это воздание христианами божеских почестей человеку, казненному одной из самых позорных казней тех времен, не иначе, как на колоссальное сумасбродство, и теперь, разумеется, недоумевал перед столь новыми для него воззрениями Помпонии.
– А скажите, Британник, – прервала его молчание Помпония, – слышали вы когда-нибудь имя Сократа?..
– Да, и даже очень часто; Музоний, как не раз передавал мне Эпиктет, очень часто упоминает о нем на своих лекциях и постоянно указывает на него, как на совершеннейший образец хорошего человека.
– А какой смертью умер Сократ?
– Его отравили афиняне цикутой в тюрьме.
– Как преступника?
– Да, конечно.
– А разве это значит, что он и в самом деле был дурным человеком – тем злодеем, каким пожелали признать его? Поверьте, если б это было действительно так, философы не стали бы преклоняться перед ним с таким благоговением; не так же ведь они глупы.
– Действительно, я не подумал об этом, – сказал Британник и потом, помолчав с минуту, спросил: – Возможно ли, чтобы и все остальные нехорошие слухи, всюду распространяемые об этих христианах, оказывались лишь ложью?
– Чистейшая ложь, – подтвердила Помпония, – в чем, быть может, вы и сами, Британник, со временем убедитесь.