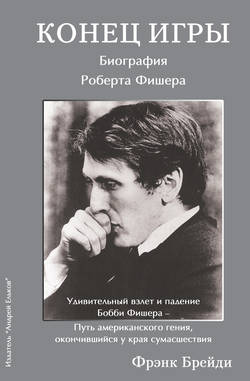Читать книгу Конец игры. Биография Роберта Фишера - Франк Брейди, Фрэнк Брейди - Страница 5
Глава 2
Одержимость детства
ОглавлениеКогда январским вечером 1951 года семилетний Бобби в сопровождении своей матери впервые возник в дверях Бруклинского шахматного клуба, то представлял собой явную аномалию. Он стал первым ребенком, кому позволили переступить его порог. Даже появление Регины Фишер было необычным: женщины в клуб не принимались – в то время его членами являлись только мужчины, что было характерным для большинства клубов США.
Как новый президент клуба, Кармайн Нигро объявил, что Бобби – его гость, принимать которого нужно как члена клуба. Никто не решился возражать. Во многих шахматных клубах, и не только в США, детей традиционно не хотели слышать, не говоря о том, чтобы видеть. Даже Эмануила Ласкера, ставшего впоследствии чемпионом мира по шахматам, ребенком в Германии не приняли в члены местного клуба, несмотря на его очевидный талант.
Бруклинский шахматный клуб, основанный сразу после гражданской войны, был в стране одним из самых престижных. Он располагался в роскошном здании бруклинской Академии музыки, где пели Энрике Карузо и Джеральдина Фаррар. Клуб достойно соревновался каждый год в шахматной лиге Метрополии, часто побеждая в соперничестве с дюжиной клубов штата Нью-Йорк. Тем не менее, Бобби не испытывал робости в компании склонившихся над своими досками адептов игры, над которыми витали клубы сигарного дыма.
В комнате стояла тишина, нарушаемая редким стуком фигуры, в сердцах ударяемой о доску. По окончании партии соперник мог спросить: «Если бы я пошел ладьей, а не слоном, как бы вы сыграли?» или недовольно пробормотать: «Я не увидел матовую комбинацию. Вам повезло уползти на ничью». Но всегда тон был приглушен, даже если говорящий испытывал раздражение. Бобби смотрел на это в удивлении, частично понимая жаргон и пытаясь домыслить остальное.
Проблема, с которой столкнулся Бобби тем же вечером, произрастала в головах его потенциальных противников. Никто из клубных ветеранов не горел желанием играть с мальчиком, тем более что Бобби выглядел лет на пять. Волна нервных и раздраженных смешков прошелестела под высокими потолками в ответ на предложение «дать Бобби шанс». Основой служила мысль: «Ладно, если я проиграю равному, но если меня обыграет семилетка? Как можно! Это погубит мою репутацию!» Но уговоры Нигро возымели свое действие, несколько игроков смягчились и согласились сыграть с ним одну-две партии.
Большинство были искушенными турнирными бойцами, по уровню некоторые даже не уступали Павею. Но, как выяснилось, опасались они зря – Бобби проиграл все партии.
Несмотря на поражения, Бобби продолжал посещать клуб. Он стал преданным членом клуба и, в какой-то мере, его изюминкой. Противостояние мальчика в сражении умов с судьей, доктором или профессором, которые были старше его в 8-10 раз, всё чаще принималось хоть и с удивлением, но с добрыми улыбками. «Поначалу я проигрывал всем подряд, и мне это не нравилось», – рассказывал Бобби впоследствии. Победители поддразнивали его немилосердно. «Рыба!», – дразнили они мальчика, используя насмешливый термин, которым назывался безнадежно слабый игрок в шахматы всякий раз, когда Бобби допускал промах. Эпитет казался еще обиднее ввиду сходства с его фамилией[4]. Бобби очень не любил это слово. Позднее он сам использовал для обозначения слабого игрока слова «слабак», или менее принятые «чудик» и «кролик».
Нигро, опытный шахматист почти мастерского уровня, почувствовал потенциал мальчика, и, понимая, что у него нет отца, занял в его отношении менторскую позицию. Он стал для Бобби учителем и приглашал его по воскресеньям к себе домой, где ему составлял компанию его сын Томми, который был чуть моложе Бобби, но играл сильнее. Томми не имел ничего против игры в шахматы с Бобби, но слушать лекции отца желанием не горел. В дни шахматных уроков Нигро значительно увеличивал содержание сыну, если тот проявлял усидчивость при изучении премудростей шахматной тактики.
Как только Бобби освоил основы шахмат, Нигро перешел к изложению возможных способов ведения начальной стадии партии, известной под названием дебют, первые ходы которого могут определить результат партии или сильно на него повлиять. Эти начальные ходы и «варианты» следуют по проторенным путям, освященным вековым опытом, и шахматистам, желающим усилить свою игру, нужно стараться их понять и запомнить. Поскольку таких вариантов неисчислимое множество, для большинства игроков трудно освоить даже маленькую их часть. Например, после того, как игроки сделали по ходу, возможно 400 разных позиций, а после двух ходов таких позиций уже 72.084 – не все, впрочем, хорошие. Но Бобби с энергией приступил к решению устрашающей задачи по изучению основных продолжений. Вспоминая упорные штудии того времени, он говорил: «М-р Нигро был, вероятно, не самым сильным шахматистом в мире, но он был очень хорошим учителем. Встреча с ним оказалась, возможно, решающим фактором в моем продвижении вперед».
У Нигро не было проблем с обучением Бобби. Мальчик сгорал от нетерпения в ожидании очередного еженедельного урока и довольно скоро начал обыгрывать Томми. «Я посещал дом м-ра Нигро по субботам, – писал впоследствии Бобби, – а также встречался с ним по пятницам в клубе. Моя мама часто дежурила по выходным на работе в качестве сиделки, и с радостью меня отпускала [в дом м-ра Нигро]».
В 1952 году, когда ему еще не исполнилось девяти лет, Бобби впервые сыграл в соревновательные шахматы. Группа, состоящая из протеже Нигро, победила в первом матче со счетом 5:3; счет второго матча потерян и забыт. Бобби выиграл свою первую партию и свел вничью вторую против 10-летнего Раймонда Суссмана, сына дантиста, д-ра Харольда Суссмана, национального мастера из Бруклина. Д-р Суссман также был фотографом-любителем и сделал несколько фотографий Бобби, ставших каноническими годы спустя. Кроме того, Суссман стал дантистом и для Бобби. «Зубастый малый», – вспоминал Суссман.
Тем летом и осенью Бобби много играл с 70-летним кузеном деда Якобом Шонбергом, жившим в Бруклине. Регина брала сына с собой, когда ухаживала за Шонбергом, и Бобби играл с сидевшим в постели старым человеком. Годы спустя Бобби уже не мог вспомнить, в какую силу тот играл, и сколько партий они сыграли между собой, но даже по изменению интонации было понятно, что общение с Шонбергом ему запомнилось, и не столько партиями, сколько общением с родственником, хотя бы и дальним. Такие семейные встречи были обрядом, слишком редким в жизни Бобби.
Кармайн Нигро был профессиональным музыкантом и учил музыке различных стилей. Поскольку Бобби словно губка впитывал в себя все тонкости шахмат, Нигро попытался пробудить в нем интерес к музыке, и так как у Бобби не было пианино, Нигро стал давать ему уроки игры на аккордеоне, снабдив мальчика довольно потрепанным «12-басовым» инструментом, чтобы он мог практиковаться дома. Вскоре Бобби уже исполнял «Beer Barrel Polka» и другие мелодии, и почувствовал себя достаточно опытным, чтобы выступить на нескольких школьных концертах. Через год, впрочем, он заключил, что количество времени, затрачиваемое им на изучение игры на аккордеоне, мешает шахматным занятиям. «Я достиг неплохих успехов, – вспоминал Бобби, – но шахматы меня привлекали больше и аккордеон получил отставку».
До того, как ему исполнилось десять лет, время Бобби проводил довольно однообразно: каждую пятницу вечером он посещал Бруклинский шахматный клуб, Регина сидела где-то поблизости, читая книгу или делая домашнее задание, полученное в школе медсестер. В субботу утром Нигро забирал его в машину и – если Томми Нигро не хотел играть, что было чаще – отвозил Бобби в Вашингтон-сквер-парк в районе Гринвич-виллидж, где мальчик мог найти себе партнеров и поиграть за столиком на свежем воздухе. Нигро видел перед собой и другую задачу: поначалу Бобби долго думал над ходами, что не нравилось его взрослым соперникам в парке. Нигро понимал, что их терпение небезгранично, и потому он поработал над ускорением его игры, а, стало быть, и мышления.
Чтобы стать соперником, с которым нужно считаться, после школы Бобби проводил многие часы в библиотеке на Гранд-Арми-Плаза, поглощая все книги на шахматные темы, имеющиеся на ее полках. Он стал ярым завсегдатаем библиотеки, и выказывал такую настойчивость в изучении книжной премудрости, что его фотография за чтением книги появилась в библиотечном бюллетене за 1952 год с подписью, в которой указывалась его фамилия. Так впервые фотография Бобби появилась в печати. Через несколько месяцев он обнаружил, что может следовать течению партий с помощью диаграмм без доски. Если варианты были слишком сложными или длинными, он брал книгу домой, расставлял на доске фигуры и разыгрывал партии мастеров прошлого, пытаясь понять и запомнить, как они выигрывали – или проигрывали.
Бобби читал шахматные книги и за едой, и в постели. Он ставил доску на стул рядом с кроватью и последнее, что он делал перед тем, как уснуть, и первое сразу после пробуждения, был взгляд на интересующую его позицию. Так много сэндвичей с арахисовым маслом, чашек молока с хлопьями, тарелок спагетти были съедены Бобби во время разыгрывания и анализа партий, что крошки и остатки еды буквально въелись в зубцы башен его ладей, надкрестья королей, короны ферзей и складки митр слонов. И эти остатки никогда оттуда не вычищались. Годы спустя, когда собиратель шахмат, заполучивший этот замусоренный комплект, вычистил его, реакция Бобби оказалась предсказуемо негодующей: «Вы его испортили!»
Он не оставлял шахмат, даже когда принимал ванну. У Фишеров не было душа, только ванна, и заставить Бобби, как и многих его сверстников, принимать ванну хотя бы раз в неделю удавалось лишь с немалыми трудами. Регина – и это стало ритуалом – каждое воскресенье вечером наливала ему ванну, в которую его приходилось относить едва ли не на руках. Когда он оказывался в воде, Регина укладывала дверцу от сломанного шкафа поперек ванны, словно поднос, и затем приносила шахматы, чашку молока и ту книгу, которую Бобби изучал, помогая ему всё это расставить на доске. Бобби иногда не вылезал из воды часами, если его увлекала партия кого-то из великих игроков прошлого, и выбирался он из нее, красный как рак, лишь по настоянию Регины.
Нейроны мозга Бобби, казалось, напитывались пониманием того, что может и что не по силам каждой из фигур в самых разных позициях, запоминая информацию для будущего использования. Она сохранялась в памяти, в глубинах того раздела мозга, который отвечает за абстрактное мышление: информация о пешках и полях, выгодных для размещения этих пешек, взвешивалась и лишнее отбрасывалось – всё происходило в нужном ритме и синхронизировалось. Изучая партии мастеров прошлого и настоящего, Бобби учился у всех: интуитивному комбинированию – у Рудольфа Шпильмана; накоплению маленьких преимуществ – у Вильгельма Стейница; почти мистической технике – у Хосе Рауля Капабланки, стремящегося уклоняться от осложнений; глубокому и красивому погружению в бездну неизвестности – у Александра Алехина. Как сказал о нем один мастер: «Бобби, в сущности, вдыхал шахматную литературу. Он помнил всё, и это становилось его частью». Мальчик – и затем мужчина – видел перед собой одну главную познавательную цель, хотя и никогда не выраженную им явно – Он хотел понимать.
Ему особенно нравились партии-миниатюры, короткие схватки не более двадцати ходов, они, как музыкальные упражнения – и предметы искусства в себе – имели одну главную идею.
Книги для начинающих, такие как «Приглашение к шахматам», и другие учебники были скоро отброшены, Бобби погрузился в книги для продвинутых – «Практические шахматные дебюты» и «Базовые шахматные окончания»; двухтомник «Мои лучшие партии» Александра Алехина, и только что вышедшую книгу «500 шахматных партий мастеров». Особенное впечатление на него произвел сборник «Партии Морфи», – великий американец демонстрировал гениальную тактическую изобретательность и следование трем главным принципам: быстрое развитие фигур, оккупация центральных полей и мобильность – необходимость вскрывать диагонали, горизонтали и вертикали. Бобби впитает эти уроки и будет им следовать на протяжении всей своей шахматной жизни. Однажды он скажет мастеру Шелби Лаймену, что прочитал тысячи шахматных книг, и из каждой сохранил лучшее.
Нужно добавить, что эти книги не так-то просто понять даже опытному шахматисту: их можно «пробить», если только читатель тверд в намерении погрузиться в абстракцию шахмат. И то, что 8–9-летнему мальчику хватило концентрации, чтобы их прочесть, само по себе необычно. А то, что ему удалось понять содержание и впитать прочитанное, – из области чудес. Позднее Бобби увеличит степень сложности, читая книги на разных языках.
В области школьного образования достижения Бобби носили хаотический характер. Если не считать летних лагерей, первые уроки он начал посещать в бруклинской еврейской школе для мальчиков, еще в детском саду, где его научили песням (без понимания смысла) для праздников Ханука и Пурим как на английском, так и на идиш (его он не знал). Он плохо сходился с другими мальчиками. Поначалу не мог понять смысла игры «Дрейдл» – четырехгранный волчок, с которым играли в дни Ханука. Ему не нравилось носить униформу – белую рубашку и наглаженные брюки. И в раздевалке он мог видеть, что его пенис не такой, как у других: не был обрезан. Через несколько недель Регина забрала его из школы. Хотя она была еврейкой, но религиозные обряды не соблюдала. Бобби не прошел обряд обрезания – обычно выполняется на восьмой день рождения еврейского мальчика – и впоследствии утверждал, что его не учили ни еврейским обычаям, ни теологии, и в детстве не водили в синагогу в религиозных целях. Быть может, он просто этого не помнил.
Попытки Регины и Джоан вовлечь Бобби в школьную работу обычно кончались ничем. Бобби мог часами решать паззлы или заниматься шахматами, но начинал ерзать и суетиться, если ему предлагали читать, писать или решать арифметические задачи. Посещение бруклинской общественной школы также стало проблемой. Он был одиночкой и всегда отделялся от других детей, возможно, по причине крайней робости или боязни с кем-нибудь соревноваться. К четвертому классу он сменил шесть школ – практически по две в год – уходя всякий раз по причине плохой успеваемости или неспособности вынести учителей, товарищей или даже местоположение школы. В полном огорчении Регина записала Бобби в школу для одаренных детей. Он продержался в ней один день и отказался туда возвращаться.
В конечном счете она нашла школу, подходящую для ее проблемного сына. Осенью 1952 года Регина записала 9-летнего сына в бруклинскую прогрессивную начальную школу «Коммьюнити Вудворд», в которой обучалось порядка 150 детей. Размещалась она в величественном здании из бурого песчаника, которое раньше было частным особняком, а теперь стало одним из самых красивых учебных заведений в бруклинском районе. Философия образования в этой школе основывалась на принципах Иогана Генриха Песталоцци, швейцарского учителя XVIII века – противника зубрежки и строгой дисциплины, который считал, что нужно концентрироваться на развитии индивидуальности посредством новаторских методов. Школа продвигала концепцию Anschauung[5], – развитие персонального взгляда на вещи, сугубо индивидуального и присущего каждому конкретному ребенку. Стулья и парты не стояли строго по местам, как в большинстве школ, и детей поощряли забывать разницу между обучением и игрой. При изучении ранней истории Америки, например, дети переодевались в костюмы той эпохи и их учили прясть пряжу, ткать ковры и писать птичьим пером.
Но Бобби выбрал путь – шахматы, и всё, с ними связанное. Он уже обнаружил свой талант и был принят в «Коммьюнити Вудворд» с пониманием, что научит других учащихся шахматам, а также по причине его астрономически высокого IQ=180.
Ярким пятном его социального и физического развития в этой школе стал момент, когда Бобби приняли в бейсбольную команду, и он начал выбираться из защитной скорлупы. Он влюбился в игру, мог слышать рев толпы из расположенного неподалеку стадиона «Эббетс Филд», домашней арены для «Бруклин Доджерс», когда был в школе или дома, и даже вместе с классом иногда посещал игры. У него получались перемещения по площадке и подача, но хотя бегал он быстро, для роли раннера на базе ему не хватало координации. «Он подогрел интерес к шахматам в нашей школе», – позднее говорил один из учителей. «Он легко обыгрывал любого, включая шахматистов факультета. Не важно, во что он играл – будь это бейсбол или теннис – ему важно было быть первым. Если бы он родился рядом с бассейном, стал бы чемпионом по плаванию. Но так уж получилось, что под рукой оказались шахматы».
Однажды Бобби взлетел по трем пролетам лестницы в безопасность своего дома только для того, чтобы никого там не найти. Джоан еще не вернулась из школы, оставшись в Биологическом клубе; Регина была на курсах, затем ей предстояло чтение в библиотеке, а после – ночная смена. Он нашел записку на стуле в кухне, написанную на листке книжки синего цвета «на пружинках»:
Дорогой Бобби – съешь суп и рисовую кашу. Молоко в холодильнике. Я буду после 3-х, заброшу продукты и вернусь на курсы. Люблю, М.
Оставаться одному для Бобби было привычным делом с тех пор, как Регина почувствовала, что может оставлять его без надзора, и это постоянное одиночество послужило катализатором для еще более глубокого погружения в шахматы. Когда он сидел с раскрытой шахматной книгой, часто – за кухонным столом, на котором стояла шахматная доска, фигуры становились его друзьями, а книга – учителем. Но ни одиночество, ни учение не давались ему легко. Он хотел бы иметь друга, другого мальчика, с кем можно было бы играть и делить приключения, но, так как шахматы уже занимали бо́льшую часть его времени, интересов и мыслей, гипотетический друг должен был не только уметь играть в шахматы, но играть достаточно хорошо.
Какая-то сила заставляла Бобби изучать секреты шахматной доски, и это занятие приковывало его внимание на многие часы. Он радовался, когда блеск зимнего солнца переставал отбрасывать ломаные тени на стены кухни, они мешали ему думать. Когда сестра Джоан или мама Джинни – как ее звали друзья – возвращались вечером домой, в сумраке они иногда видели Бобби, который не озаботился включить свет, сидящим за шахматной доской, весь в мыслях о тактике и стратегии.
Но хотя Регина понимала, что Бобби уже достаточно самостоятелен, ее беспокоило, что он так подолгу остается дома один. Она решила найти ему кого-то вроде сиделки, кто мог бы составить ему компанию. Но проблема заключалась в деньгах: даже символическую плату изыскать было трудно. Поэтому она поместила следующее объявление в газете кампуса бруклинского колледжа, который располагался по соседству с их домом:
Требуется сиделка для мальчика 8,5 лет. Вечерами, иногда на уик-энды, в обмен на комнату, кухонные привилегии. Sterling 3-4110 7 до 9 вечера.
Ответил молодой студент-математик – он даже умел играть в шахматы – но по неизвестным причинам от работы он отказался. Бобби оставался один.
В отличие от Джоан Бобби, казалось, мало интересовался школой, а если Регина хотела помочь ему с уроками, он обычно коротко ей отказывал и возвращался к своим шахматам. Ей было нелегко противостоять его дерзости: «Я хочу играть в шахматы!», – безапелляционным тоном заявлял он, словно крон-принц говорил со слугой. И возвращался к своей шахматной доске, не спрашивая разрешения у матери и оставляя уроки без внимания.
Но нельзя сказать, что Бобби относился без уважения к трудолюбию матери и сестры. Скорее, он был готов приложить все свои силы для совершенствования в другом: а именно, в шахматах. Дела обстояли так, что ему более важным казалось научиться выигрывать с ладьей и пешкой, чем узнавать что-либо о трех ветвях власти, или где находится десятичная точка при делении столбиком. Трое Фишеров, образцовые школяры талмудического толка, всегда учились: Джоан – по своим книгам, Регина – по медицинским учебникам, и Бобби – по последним журнальным шахматным статьям. В доме по временам было тихо, как в библиотеке.
Один из немногих нешахматных интересов Бобби неожиданно обозначился летом 1951 года, когда ему было 8 лет. Регина послала его в школу Вендервеера, дневной лагерь для детей в Бруклине. Несмотря на название, школа принимала детей более старшего возраста в свой летний лагерь, и по их программе Бобби предоставили место по окончании учебного года. Либо Регина, либо Джоан отводили его туда утром и забирали после полудня. Бобби намеревался возненавидеть школу – или, по крайней мере, невзлюбить – но неожиданно ему понравились многие подвижные игры, которые там предлагались. Главное удовольствие доставил большой открытый бассейн, где он научился плавать.
С тех пор каждое лето, когда он был в одном из лагерей, и во время, свободное от шахмат, Бобби тренировался в плавании, проходя различные тесты «Красного Креста» по плаванию. Он легко сдал на пловца «среднего» уровня, а затем и «продвинутого». Настоящая «Рыба», он любил воду, особенно, если плавание означало соревнование с другими детьми. Обладая скоростью, решительностью и отличной реакцией, Бобби входил в воду в момент, когда тренер давал свисток, в то время как другие находились еще в полете. Плавание позволяло ему двигаться и разгонять кровь по мышцам, освобождать их от зажима, вызванного неподвижным сидением за шахматной доской или с книгой. Он получал удовольствие от движения сквозь стихию воды, и ему нравился соревновательный дух сам по себе, не важно, касалось это плавания или шахмат. Казалось, кроме шахмат и плавания ему ничто больше не доставляло удовольствия.
Регина начала бояться за будущее Бобби, который не слишком обременял себя учебой, и ее беспокоило, что его увлечение шахматами становится всепоглощающим. Ей казалось, шахматы заворожили его так, что он всегда находился в некотором отстранении от окружающей его жизни; он настолько «заразился» игрой, что не сможет – не может – контролировать это увлечение, и что, в конечном счете, из-за исключения из своей жизни всего остального этот случайный интерес разрушит его жизнь.
Обсуждать с Нигро чрезмерное увлечение Бобби шахматами оказалось пустым делом. Тот лишь еще настойчивее советовал Бобби играть в них больше, изучать их упорнее и участвовать в соревнованиях чаще. Бобби стал протеже Нигро, его шахматным компаньоном. Он понимал, что у Регины туго с финансами, и потому никогда не заводил речь об оплате своих уроков, касались ли они музыки или шахмат. Нигро с Бобби стал играть с временны́м контролем по два часа каждому – обычный турнирный регламент – и после каждой партии Бобби, казалось, становился сильнее, что побуждало его изучать игру еще настойчивее, пока он не стал обыгрывать Нигро в большинстве партий.
К немалому испугу Бобби, Регина настояла на том, чтобы он прошел психологические тесты с целью определить, нужно ли – или вообще возможно – как-то ослабить его всепоглощающую страсть к игре. Когда она повела мальчика к д-ру Харольду Клайну в отделение детской психиатрии бруклинской еврейской больницы, Бобби всем своим видом выражал неудовольствие. Д-р Клайн, заметивший это сразу, не стал нагружать его комплектом тестов для определения личностных качеств, интеллекта и интересов, обычно применяемых в таких случаях. Он просто постарался разговорить мальчика. «Не знаю», – угрюмо ответил Бобби, когда его спросили, почему он так много времени уделяет шахматам в ущерб школьным занятиям. – «Мне просто хочется». После простого совета Бобби не пренебрегать занятиями в школе, его попросили погулять немного. Д-р Клайн сказал Регине, чтобы она не беспокоилась относительно Бобби, что детей часто заинтриговывают, буквально захватывают игры, игрушки, спорт и другие вещи, и что по истечении некоторого времени они либо теряют интерес к ним, либо отступают в сторону. Нет, он не думает, что Бобби – невротик, и он не рекомендует терапию. «Невротик» – это слово, по сути ничего не объясняет, добавил доктор, указывая, что Бобби не вредит ни себе, ни окружающим, шахматы, вероятно, просто напрягают его мозги, и ему надо разрешать играть в них, сколько он захочет. Нелюбовь к школе – это мелкое расстройство, через которое проходят многие дети, но изучение шахмат, как интеллектуальное занятие, ее замещает. Возможно, предположил он, ей нужно строить некоторые из домашних заданий Бобби в игровой форме.
Не успокоенная полностью, Регина решила поискать другого специалиста. Она узнала о психиатре и одновременно шахматном мастере д-ре Ариэле Менгарини – неаналитическом нейропсихиатре, работавшем на правительство. Он страстно любил шахматы и был не меньшим их фанатиком, чем Бобби. Он признался Регине в своем фанатизме к игре и добавил еще то, чего ей совсем не хотелось слышать: «Я сказал ей, что есть гораздо более плохие вещи, которыми способен увлечься человек, и что ей следует позволить сыну искать собственный путь в жизни».
Мало-помалу успехи Бобби в бруклинском клубе росли. Прошло несколько трудных, иногда удручающих лет, но в итоге он стал выигрывать большинство партий. Но и его партнеров впечатлили упорство и рост результатов Бобби. «Я прочел почти все шахматные книги в публичной библиотеке, расположенной по соседству, и хотел иметь собственные книги», – вспоминал Бобби, обращаясь к тому периоду. Нигро давал ему книги на время или навсегда, Регина иногда позволяла ему их покупать, если у нее появлялись свободные деньги. Карманные деньги Бобби – 32 цента в день – не давали ему особых возможностей покупать книги, и даже когда он стал старше и его «содержание» выросло до 40 и даже 60 центов, деньги расходовались на молочный шоколад и сладости после школы.
По прочтении очередных, полученных им, номеров «Чесс Ревью» и «Чесс Лайф» Нигро отдавал их Бобби, которому очень нравились эти журналы и не только из-за большого числа интересных и поучительных партий с примечаниями, но и поскольку в них имелись материалы о великих чемпионах. Эти журналы были неким шахматным эквивалентом жизнеописаний римских цезарей Плутарха или художников Вазари. Говоря коротко, они его вдохновляли.
Летом 1954 года у Бобби появился шанс увидеть некоторых из великих, о которых он пока лишь читал – советская команда впервые ступила на американскую землю.
В ту эру антикоммунистической истерии, когда в США каждый, кто читал «Капитал» К. Маркса или носил красный галстук, считался коммунистом, президент американской шахматной федерации Гарольд М. Филлипс, юрист, защищавший Мортела Собелла[6] в деле о шпионаже Розенбергов[7], сообщил едва ли не с гордостью, что ожидает вызова в комиссию сенатора Маккарти (по расследованию анти-американской деятельности) на слушания по обвинению в коммунизме просто потому, что послал шахматное приглашение советской команде. Но до этого, всё же, не дошло.
Важно подчеркнуть одно важное отличие, существовавшее на тот момент между советской и американской командами. Все советские были не просто профессиональными игроками, но и гроссмейстерами – звание, которым награждались сильнейшие мастера, отличившиеся в международных соревнованиях. Царь Николай II «изобрел» этот титул в 1914 году; он применялся в 1954 году, в ходу он и сегодня.
Советские игроки получали субсидии от государства, часто их обеспечивали дачами, где они могли изучать шахматы и готовиться к матчам. В те времена в советском обществе гроссмейстеры обладали тем же престижем, что и звезды кино или олимпийцы в современной Америке. Когда Михаил Ботвинник, ставший чемпионом мира, появился в Большом театре, поднявшийся зал устроил ему овацию. В середине 50-х Советская Шахматная Федерация насчитывала четыре миллиона членов, и игра не только входила в обязательное школьное образование, но ею заставляли заниматься и после окончания уроков. Молодые люди, обладавшие талантом, получали специальное образование, часто занимаясь один-на-один с гроссмейстерами, которым поручали воспитывать молодое поколение завоевателей мирового господства. В одном советском турнире однажды участвовало семьсот тысяч игроков. В СССР шахматы рассматривались не только в аспекте национальной политики. Они глубоко проникли в культуру и казалось, что все – мужчины, женщины и дети, колхозники, служащие и врачи – все играли в шахматы. Поэтому намеченное противостояние советской и американской команд имело своим фоном всю атрибутику Холодной войны.
За три дня до матча в редакционной статье «Нью-Йорк Таймс» было написано: «Стало до боли понятно, что русские привносят на шахматную доску весь свой жар, умение и проявляют ту же преданность своему делу, что и Молотов на дипломатических конференциях. Они здесь для того, чтобы прославлять Советский Союз. Успех в этом деле для них означает признание на родине и пропаганду побед за рубежом». Шахматы являлись для советских не просто игрой; это была война, и не такая уж холодая, как могло показаться.
Шахматная Федерация США насчитывала в то время только три тысячи членов, не существовало никакой национальной программы по развитию шахмат или обучению им детей, и похвастаться она могла только одним гроссмейстером – Сэмюэлем Решевским. Его статус приносил ему 200 долларов в месяц – стипендия, которую ему выделили несколько восхищенных поклонников. В дополнение к этому он зарабатывал примерно 7.500 в год, читая лекции и давая сеансы. Бродил ложный слух, что дома у него не было даже шахматного комплекта.
Во многих отношениях приближавшийся матч напоминал ситуацию, при которой звезды НБА играли бы против студенческой команды. Возможность того, что студенты могут выиграть, исключить нельзя, но статистически их шансы заметно ниже, чем один из тысячи.
В среду 16 июня Бобби, надевший рубашку поло с короткими рукавами, прибыл в отель «Рузвельт» в сопровождении Нигро, чтобы присутствовать на первом раунде исторического матча. Мальчик впервые был в каком-либо вообще отеле, он посмотрел на большие часы над лестницей, затем увидел знакомые лица некоторых из тех, кто входил в Большой бальный Зал. Он узнал членов бруклинского шахматного клуба и нескольких завсегдатаев Центрального парка Вашингтона. Бобби занял свое место в аудитории, словно он присутствовал на церемонии вручения наград Академии, «сканируя» сцену «широко открытыми от любопытства глазами», – как выразился Нигро.
На сцене, на фоне бархатного занавеса, висели два флага: американский звездно-полосатый и зловеще-алый советский с серпом и молотом. Под ними, во всю ширину сцены, располагались восемь демонстрационных досок, на которых должны будут показываться для зрителей ходы в партиях. Восемь столиков с шахматными фигурами и досками были подготовлены для противников. В зале присутствовало около 1100 зрителей – самая большая аудитория в истории шахматной Америки.
Собравшиеся на сцене игроки ожидали сигнала судьи, чтобы занять свои места и начать игру. Советский шахматист Давид Бронштейн попросил стакан лимонного сока – нет, не лимонада, а настоящего лимонного сока, настаивал он – который и выпил, как показалось, залпом. Американцы заметно нервничали, чему не стоило удивляться: помимо двух предыдущих поражений, не дававших оснований надеяться на успех в этом матче, они могли вспомнить о недавнем разгроме советскими аргентинской команды в Буэнос-Айресе и французской в Париже. Дональд Бирн, победитель открытого чемпионата США, рассказывал, что он так нервничал накануне, что весь день перед матчем старался выбросить его из головы, для чего читал романтическую прозу Натаниэла Готторна.
Наконец, после обязательных слов о том, что шахматный матч служит вкладом в дело разрядки между СССР и США, игра началась. Нигро отметил не без лестной для себя гордости, что его протеже неотступно смотрел на сцену, впитывая все детали происходящего.
Понимал ли Бобби всю политическую подоплеку матча? Вздымалось ли чувство патриотизма у него в груди, и желал ли он победы всем сердцем своей команде? Хотел ли он – или мечтал – когда-нибудь взойти на такую сцену участником матча против лучших игроков планеты? Он никогда не упоминал об этом матче, но вероятнее всего, что ответом, во всяком случае, на второй вопрос, будет «да».
Помимо самих партий, за которыми Бобби следил безотрывно, он примечал и другие вещи: любители шахмат собирались в коридорах и комнатах отеля, где они обсуждали и анализировали партии; шахматные книги и портативные шахматы для экспресс-анализа; зрители покидавшие свои места лишь на короткое время, чтобы купить бутерброд с тунцом или ветчиной и сыром у стойки в небольшом холле. Когда в зале Бобби заметил Ройбена Файна, возможно, второго по силе игрока в США, он заволновался, поскольку шахматные книги Файна были для него своего рода библией. Д-р Файн не играл за команду США, – он отошел от шахмат в 1948 году. Но на сцене присутствовал д-р Макс Павей – тот самый, с кем играл Бобби в сеансе три года назад – готовый играть за свою страну.
Когда Нигро представил своего протеже писателю Мюррею Шумаху из «Нью-Йорк Таймс», Бобби заробел и лишь смотрел на свои ботинки. Аллен Кауфман, шахматный мастер, также впервые встретил Бобби в этот день и через полвека вспоминал: «Он показался мне приятным малым, несколько стеснительным. Тогда мне и в голову прийти не могло, что я разговариваю с будущим чемпионом мира». На следующий день Шумах написал в юмористическом ключе о собравшихся на матч: «Шахматные зрители напоминают болельщиков “Доджер” с ларингитом – мужчины буйного нрава, но с приглушенными голосами».
Ну, не совсем уж приглушенными. По мере того, как позиции усложнялись, зрители, многие из которых отслеживали происходящее на карманных шахматах или кожаных шахматах-книжках, начали шепотом обсуждать варианты. Кумулятивный эффект был таков, что общий звуковой фон начал напоминать шум осенней непогоды. Временами, когда на доске начиналась сомнительная или сложная комбинация, или когда миниатюрный Решевский тратил час и десять минут на один ход, двадцать две сотни бровей, казалось, поднимались в унисон. Если шум становился слишком сильным, Ганс Кмох, ультра-формальный судья с галстуком-бабочкой, сердито смотрел в зал и строгим тоном с голландским акцентом произносил: «Quiet, please! (Пожалуйста, тише!»). Принимая упрек, зрители смущенно замолкали, и в зале несколько минут царила тишина.
Бобби получал явное удовольствие от общей атмосферы, и держал в руках таблицу, словно он находился на «Эббетс Филд». 11-летний мальчик аккуратно заносил в нее результат каждой партии: ноль за поражение, единицу за победу и половинку за ничью. Он посетил все четыре раунда, не догадываясь, что всего лишь через несколько лет будет сидеть напротив – в турнирах или матчах на разных континентах – четырнадцати из этих шестнадцати игроков из США и СССР, составлявших элиту мировых шахмат.
Бобби доставляло удовольствие не только следить за партиями, ему нравилась и комната для анализов. Там, вдали от ушей соревнующихся, сильнейшие мастера обсуждали и глубоко анализировали каждую партию, ход за ходом. Бобби не чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы высказывать свое мнение по поводу того, как тому или иному шахматисту стоило (или не стоило) играть, но он был очень доволен, что ему удавалось предсказывать некоторые ходы до того, как они были сделаны, и он мог понять, почему было сыграно так, а не иначе.
После четырех дней определилось унизительное для США поражение со счетом 12:20. По окончании действа аплодисменты американской аудитории прозвучали искренне и уважительно, но в кулуарах слышались горестные причитания многих американских шахматистов: «Что не так с американскими шахматами?» Редакционная статья в «Чесс Лайф» оплакивала поражение и объясняла его следующим образом: «Вновь в матче США – СССР мы видим доказательство того, что одаренный любитель редко – или никогда – бывает способен противостоять профессионалу. Не важно, насколько он талантлив от природы, любителю недостает точности, временами брутальной
4
Рыба – произносится фиш, а фамилия, соответственно, Фишер.
5
Anschauung – Созерцание, наглядное представление. – (нем).
6
Мортел Собелл – американский инженер и советский разведчик. Был признан виновным в шпионаже в пользу Советского Союза.
7
Юлиус Розенберг и его жена Этель – амер. коммунисты, по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза казнены в 1953 г.