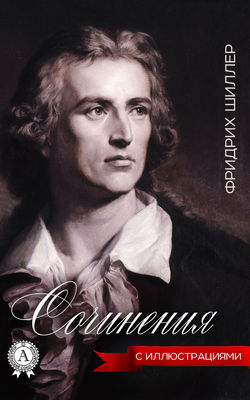Читать книгу Сочинения (с иллюстрациями) - Фридрих Шиллер - Страница 3
РАЗБОЙНИКИ
ДРАМА В ПЯТИ АКТАХ
АКТ ПЕРВЫЙ
Сцена вторая
ОглавлениеКорчма на границе Саксонии[14].
Карл Моор, углубленный в чтение. Шпигельберг пьет за столом.
Карл Моор (закрывает книгу). О, как мне гадок становится этот век бездарных борзописцев, когда я читаю в моем милом Плутархе[15] о великих мужах древности.
Шпигельберг (продолжая пить, ставит перед ним стакан). Почитай-ка лучше Иосифа Флавия![16]
Карл Моор. Сверкающая искра Прометея[17] погасла. Ее заменил плаунный порошок – театральный огонь, от которого не раскуришь и трубки. Вот они бегают теперь, как крысы по палице Геркулеса, и ломают себе головы над загадкой: что за сок за такой содержался в семеннике этого богатыря? Французский аббат утверждает, что Александр был жалким трусом; чахоточный профессор, при каждом слове подносящий к носу флакончик с нашатырем, читает лекции о силе; молодчики, которые, единожды сплутовав, готовы тут же упасть в обморок от страха, критикуют тактику Ганнибала; желторотые мальчишки выуживают фразы о битве при Каннах и хнычут, переводя тексты, повествующие о победах Сципиона.[18]
Шпигельберг. Это называется скулить по-александрийски.
Карл Моор. Недурная награда за пот, лившийся с вас в битвах: вы живете теперь в гимназиях, и школьники нехотя таскают в ранцах ваше бессмертие! Недурное вознаграждение за щедро пролитую кровь – пойти на обертку грошовых пряников в лавке нюрнбергского торгаша или, в случае особой удачи, попасть в руки французскому драматургу, который поставит вас на ходули и начнет дергать за веревочки! Ха-ха-ха!
Шпигельберг (пьет). Почитай-ка Иосифа, прошу тебя.
Карл Моор. Пропади он пропадом, этот хилый век кастратов, способный только пережевывать подвиги былых времен, поносить в комментариях героев древности или корежить их в трагедиях. В его чреслах иссякла сила, и людей плодят теперь с помощью пивных дрожжей!
Шпигельберг. Нет! Чая, братец, чая!
Карл Моор. Они калечат свою здоровую природу пошлыми условностями, боятся осушить стакан вина: а вдруг не за того выпьешь, подхалимничают перед последним лакеем, чтобы тот замолвил за них словечко его светлости, и травят бедняка, потому что он им не страшен; они до небес превозносят друг друга за удачный обед и готовы друг друга отравить из-за подстилки, которую у них перехватили на аукционе. Они проклинают саддукея[19] за то, что неусердно посещает храм, а сами подсчитывают у алтаря свои ростовщические проценты; они преклоняют колена, чтобы попышнее распустить свой плащ, и не сводят глаз с проповедника, высматривая, как завит у него парик; они падают в обморок, увидев, как режут гуся, и рукоплещут, когда их конкурент обанкротится на бирже. Как горячо жал я им руку: «Один только день!» Тщетно: «В тюрьму, собаку!» Мольбы, клятвы, слезы!.. (Топая ногой.) О, силы ада!
Шпигельберг. И все из-за каких-то паршивых двух тысяч дукатов.
Карл Моор. Нет! Я не хочу больше об этом думать! Это мне-то сдавить свое тело шнуровкой, а волю зашнуровать законами? Закон заставляет ползти улиткой и того, кто мог бы взлететь орлом! Закон не создал ни одного великого человека, лишь свобода порождает гигантов и высокие порывы. Проникши в брюхо тирана, они потворствуют капризам его желудка и задыхаются от его ветров! О, если бы дух Германа восстал из пепла![20] Поставьте меня во главе войска таких молодцов, как я, и Германия станет республикой, пред которой и Рим и Спарта покажутся женскими монастырями. (Бросает шпагу на стол и встает.)
Шпигельберг (вскакивая). Браво, брависсимо! Вот ты и дошел до моей мысли! Я сейчас шепну тебе на ухо, Моор, то, что уже давно засело мне в голову. Ты для такого дела самый подходящий человек! Пей, братец, пей! Что, если нам объявить себя иудеями и восстановить Иудейское царство?
Карл Моор (хохочет во все горло). А! Я вижу, ты собрался вывести из моды крайнюю плоть, потому что твоя уже сделалась добычей цирюльника?
Шпигельберг. Чтоб тебя, окаянный! Со мной и вправду случилась такая оказия. Но признайся, что это хитрый и отважный план. Мы издадим манифест, разошлем его на все четыре стороны света и призовем в Палестину всех, кто не жрет свиного мяса. Там я документально доказываю, что Ирод-тетрарх[21] – мой предок, и так далее и так далее. То-то начнется ликование, братец, когда они опять почувствуют почву под ногами и примутся за отстройку Иерусалима. И тут, пока железо горячо, гони турок из Азии, руби ливанские кедры,[22] строй корабли, сбывай кому попало старье и обноски! Тем временем…
Карл Моор (улыбаясь, берет его за руку). Полно, друг, пора бросить дурачества.
Шпигельберг (озадаченно). Тьфу, пропасть! Уж не хочешь ли ты разыграть из себя блудного сына? Ты, удалец, написавший шпагой на физиономиях больше, чем три писца в високосный год успеют написать в приказной книге?.. Уж не напомнить ли тебе о пышном собачьем погребении? Ладно же! Я воскрешу в твоей памяти твой собственный образ. Быть может, это вольет огонь в твои жилы, раз уж ничто другое тебя не вдохновляет. Помнишь еще, как господа из магистрата приказали отстрелить лапу твоей меделянской суке, а ты в отместку предписал пост всему городу? Все гоготали над твоим рескриптом; но ты, не будь дурак, велишь скупить все мясо в городе, так что через восемь часов во всей округе не сыскать даже обглоданной кости и рыба начинает подниматься в цене. Магистрат, бюргеры алчут мести! Тысяча семьсот наших ребят выстроились мигом, ты во главе, а позади мясники, разносчики, трактирщики, цирюльники и портные – словом, все цеха, готовые в щепы разнести город, если кого-нибудь из наших хоть пальцем тронут. Ну, тем, конечно, и пришлось повернуть оглобли. Ты немедленно созываешь докторов – целый консилиум – и сулишь три дуката тому, кто пропишет собаке рецепт. Мы страшились, что у господ врачей хватит гордости заупрямиться и отказаться, и уж готовы были применить силу. Как бы не так! Почтенные медики передрались из-за трех дукатов и живо сбили цену до трех баценов; в минуту появилась добрая дюжина рецептов, так что сука тут же и околела.
Карл Моор. Подлецы!
Шпигельберг. Погребение совершается с отменным великолепием; надгробных речей, восхваляющих пса, не обобраться. И вот среди ночи мы, чуть ли не тысяча человек, выстраиваемся, каждый с фонарем в одной и рапирой в другой руке, да так, под колокольный звон, бряцая оружием, и проходим через весь город до места последнего упокоения собаки. Затем до самого рассвета идет жратва. Наконец ты встаешь, благодаришь за участие и велишь пустить в продажу остатки мяса за полцены! Mort de ma vie![23] Мы глядели на тебя с не меньшим почтением, чем гарнизон завоеванной крепости глядит на победителя.
Карл Моор. И тебе не стыдно этим похваляться? У тебя хватает совести не стыдиться таких проделок?
Шпигельберг. Молчи, молчи! Ты больше не Моор. Не ты ли за бутылкою вина тысячи раз насмехался над старым скрягой, приговаривая: «Пусть себе копит да скряжничает, а я буду пить так, что небу станет жарко!» Ты это помнишь? Хе-хе! Помнишь? Эх ты, бессовестный, жалкий хвастунишка! Это было сказано по-молодецки, по-дворянски, а нынче…
Карл Моор. Будь проклят ты за то, что напоминаешь мне об этом! Будь проклят я, что говорил так! Но это я говорил в винном чаду: сердце не слышало, что болтал язык.
Шпигельберг (качая головой). Нет! Нет! Нет! Не может быть! Не верю, что ты говоришь серьезно. Скажи, братец, уж не нужда ли настроила тебя на подобный лад? Дай-ка я расскажу тебе один случай из моего детства. Возле нашего дома находился ров шириной ни много ни мало футов в восемь, и мы, ребята, бывало, взапуски стараемся через него перескочить. Да все напрасно. Хлоп! – и ты лежишь на дне, а вокруг крик, хохот, всего тебя закидают снежками. У соседнего дома сидела на цепи собака, такая злющая тварь, что девкам просто прохода не было: чуть зазеваются, она и хвать за юбку! Лучшей моей утехой было чем ни попадя дразнить собаку. Я прямо подыхал со смеху, когда эта бестия уставится на меня, кажется, так и ринулась бы, кабы не цепь. И что же случилось? Раз как-то я опять взялся за свои проделки и угодил ей камнем в ребро; она в бешенстве сорвалась с цепи и прямо на меня. Черт подери! Я помчался сломя голову, но вот беда – проклятый ров как раз передо мной. Что делать? Собака гонится по пятам. Размышлять тут некогда. Я разбежался – скок – и перемахнул через ров. Этому прыжку я обязан жизнью. Пес разорвал бы меня в куски.
Карл Моор. К чему ты клонишь?
Шпигельберг. К тому, что силы растут с нуждой… Вот почему я никогда не трушу, когда доходит до крайности. Мужество растет с опасностью: чем туже приходится, тем больше сил. Судьба, верно, хочет сделать из меня великого человека, раз так упорно ставит мне преграды.
Карл Моор (досадливо). Право, не знаю, на что нам еще мужества и когда нам его не хватало?
Шпигельберг. Ах, так? Значит, ты хочешь, чтобы твои способности пошли прахом? Хочешь зарыть свой талант в землю? Может, ты воображаешь, что твои лейпцигские шалости – предел человеческого остроумия? Нет, голубчик, пустимся-ка в свет: в Париж и в Лондон, где можно живо заработать оплеуху, назвав кого-нибудь честным человеком. Душа радуется, как там поставлено дело! Ты, брат, рот разинешь, глаза вытаращишь! А как там подделывают подписи, передергивают карты, взламывают замки и вытряхивают требуху из сундуков! Этому, брат, поучись у Шпигельберга! На виселицу того каналью, который согласен голодать, имея ловкие руки!
Карл Моор (рассеянно). Как! Ты уже и на это пошел?
Шпигельберг. Чего доброго, ты мне не веришь? Постой, дай мне только развернуться! Ты увидишь чудеса! У тебя голова пойдет кругом, когда мой изобретательный ум с воем разрешится от бремени! (Встает, с жаром.) Как все во мне проясняется! Великие мысли занимаются в душе моей! Гигантские планы бродят в моем творческом мозгу! (Ударяет себя по лбу.) Будь проклята сонная одурь, которая до сей поры сковывала мои силы, преграждала мне путь, мешала моим начинаниям! Но вот я просыпаюсь, я сознаю, кто я такой и кем должен стать.
Карл Моор. Ты дурак! Это вино в тебе колобродит.
Шпигельберг (все более разгорячаясь). Шпигельберг, будут говорить, ты чародей, Шпигельберг! Жаль, что ты не сделался генералом,[24] Шпигельберг, скажет король. Ты бы сквозь игольное ушко прогнал всю австрийскую армию! Ах, сетуют доктора, ужасно, непростительно, что этот человек не занялся медициной! Он изобрел бы новый порошок против зоба! Ах, как жаль, что он не захотел быть министром финансов, вздыхают новые Сюлли[25] в своих кабинетах, он бы камни превратил в луидоры! «Шпигельберг! Шпигельберг!» – будут говорить на востоке и западе. Пресмыкайтесь же в грязи, вы, бабье, гадины! А Шпигельберг, расправив крылья, полетит в храм бессмертия.
Карл Моор. Счастливого пути! Карабкайся по позорному столбу на вершину славы. В тени дедовских рощ, в объятиях моей Амалии меня ждут иные радости. Еще на прошлой неделе в письме к отцу я умолял его о прощении; я не скрыл ни одного своего проступка. А где чистосердечие, там сострадание и помощь. Простимся, Мориц! Мы видимся сегодня в последний раз. Почта пришла. Отцовское прощение уже здесь, в стенах города.
Входят Швейцер, Гримм, Роллер, Шуфтерле, Рацман.
Роллер. Знаете ли вы, что нас выслеживают?
Гримм. Что нас могут схватить каждую минуту?
Карл Моор. Меня это не удивляет. Будь что будет! Не встречался ли вам Шварц? Не говорил ли, что у него есть письмо для меня?
Роллер. Что-то такое говорил. Он давно тебя ищет.
Карл Моор. Где он? Где, где? (Порывается бежать.)
Роллер. Постой! Мы велели ему прийти сюда. Ты дрожишь?
Карл Моор. Нет! Отчего бы мне дрожать? Друзья, это письмо… Радуйтесь вместе со мной! Счастливее меня нет человека под солнцем! Отчего мне дрожать?
Входит Шварц.
(Бежит ему навстречу.) Брат! Брат! Письмо, письмо!
Шварц (подает ему письмо. Моор поспешно его распечатывает). Что с тобою? Ты белее мела.
Карл Моор. Рука моего брата!
Шварц. Да что это со Шпигельбергом?
Гримм. Малый рехнулся! Дергается, как в пляске святого Витта.
Шуфтерле. У него ум за разум зашел! Похоже, что он сочиняет стихи.
Рацман. Шпигельберг! Эй, Шпигельберг! Не слышит, скотина!
Гримм (трясет его). Эй, парень, ты бредишь, что ли?
Шпигельберг, в продолжение всего разговора сидевший в углу и жестикулировавший, как человек, занятый разработкой сложного плана действий, стремительно вскакивает, кричит: «La bourse ou la vie!» [26] – и хватает за горло Швейцера, который преспокойно отбрасывает его к стене. Моор роняет письмо и выбегает как безумный. Все вскакивают.
Роллер (вслед ему). Моор! Куда ты, Моор? Что с тобой?
Гримм. Что с ним? Что с ним? Он бледен как смерть.
Швейцер. Хорошие, должно быть, вести. Посмотрим!
Роллер (поднимает с пола письмо и читает). «Несчастный брат!» Веселое начало! «Я должен вкратце уведомить тебя, что твои надежды не оправдались. Ступай, велит тебе сказать отец, туда, куда тебя ведут твои постыдные деянья. Далее он велит передать, чтобы ты не надеялся на коленях вымолить у него прощение, если не хочешь лакомиться хлебом и водой в подвалах его башен до тех пор, пока волосы не вырастут у тебя с орлиные перья и ногти не уподобятся птичьим когтям. Это его собственные слова. Он приказывает мне кончить письмо. Прощай навеки. Мне жаль тебя! Франц фон Моор».
Швейцер. Милейший братишка! Что и говорить! Францем зовут этого пройдоху?
Шпигельберг (тихонько подходит к ним). Вы говорите о хлебе и воде? Хорошая жизнь! Я для вас припас кое-что получше. Разве я всегда не говорил вам, что мне еще в конце концов за всех вас придется думать.
Швейцер. Что там брешет эта баранья голова? Осел хочет думать за нас всех?
Шпигельберг. Зайцы вы, калеки, хромоногие собаки, если у вас не хватает духу отважиться на что-нибудь великое!
Роллер. Ну, ладно! Пусть так! Но твоя-то выдумка поможет нам выбраться из этого проклятого положения? А?
Шпигельберг (с надменным хохотом). Несчастные! Выбраться из этого проклятого положения? Ха-ха-ха!.. Из проклятого положения? На что-нибудь более тонкое твой жалкий умишко не способен? С прежним грузом по старым лузам? Сукин сын был бы Шпигельберг, если бы он на это только и был еще способен! Героями, говорю я тебе, баронами, князьями, богами сделает вас моя затея.
Рацман. Не много ли с одного-то маху? Но на такой работе, верно, можно и шею сломать?
Шпигельберг. Ничуть! Здесь требуется только смелость, так как по части ума и изобретательности я все беру на себя. Смелее, говорю я, Швейцер! Смелее, Роллер, Гримм, Рацман, Шуфтерле! Смелее!
Швейцер. Смелее? Если дело только за этим, у меня хватит смелости босиком пройти через ад.
Шуфтерле. А у меня – под самой виселицей подраться с чертом за душу бедного грешника.
Шпигельберг. Вот это по мне! Если в вас точно есть мужество, пускай кто-нибудь выйдет и скажет: есть у него еще что терять или он может только выиграть?
Шварц. У меня нашлось бы немало что потерять, если б можно было терять то, что еще предстоит приобрести.
Рацман. Да, черт возьми, и немало приобрести, если бы хотелось приобретать то, чего уже нельзя потерять.
Шуфтерле. Случись мне потерять что на мне надето, да и то с чужого плеча, – завтра мне и впрямь нечего будет терять.
Шпигельберг (становится посреди них и говорит голосом заклинателя). Итак, если в вас есть еще хоть капля крови германских героев – за мной! Мы поселимся в богемских лесах, соберем шайку разбойников и… Что вы на меня уставились? Смелость, видно, уже испарилась?
Роллер. Ты не первый мошенник, который смотрит поверх виселицы. А впрочем, твоя правда – выбора у нас нет.
Шпигельберг. Выбора? У вас нет выбора? А не хотите ли сидеть в долговой яме и забавлять друг дружку веселыми анекдотами, покуда не протрубят к Страшному суду? А не то можете потеть с мотыгой и заступом в руках из-за куска черствого хлеба! Или с жалостной песней вымаливать под чужими окнами тощую милостыню! Можно также облечься в серое сукно; но тут возникает вопрос: доверятся ли вашим рожам? А там, повинуясь самодуру капралу, пройти все муки чистилища[27] или в такт барабану прогуляться под свист шпицрутенов! Или в галерном раю[28] таскать на себе весь железный склад Вулкана![29] А вы говорите, выбора нет. Да выбирайте любое!
Роллер. Шпигельберг не так уж не прав. Я тоже состряпал кое-какие планы, но все они в конце концов свелись к одному: что, думал я, если нам засесть да скропать альманах – карманную книжонку или что-нибудь в этом роде, – да начать пописывать грошовые рецензии, как это нынче в моде?
Шуфтерле. Черт возьми! Ну, да это недалеко ушло от моих проектов. Я тоже втихомолку подумывал: сделаюсь-ка я пиетистом,[30] да и начну еженедельно проводить назидательные беседы.
Гримм. Отлично! А не получится – безбожником: можно всыпать хорошенько четырем евангелистам, так, чтобы нашу книгу предали потом сожжению, – вот и сделали бы дельце!
Рацман. А не ополчиться ли нам на французскую болезнь – я знаю одного доктора, который построил себе дом из чистой ртути, как о том свидетельствует дощечка на его двери.
Швейцер (встает и протягивает Шпигельбергу руку)» Мориц, либо ты великий человек, либо желудь найден слепою свиньей.
Шварц. Прекрасные планы! Честные занятия! Как, однако, тяготеют друг к другу великие души. Нам недостает только превратиться в девок и своден или торговать своей невинностью.
Шпигельберг. Чепуха! Чепуха! А что вам мешает соединить все это в одно? Мой план вас живо выведет в люди, а бессмертие и слава приложатся. Эх вы, голоштанники! Надо ведь и об этом подумать – о посмертной славе, о сладостном сознании своей незабвенности!
Роллер. И о первом месте в списке честных людей. Ты славный оратор, Шпигельберг, когда дело идет о том, чтобы сделать из честного человека мошенника. Но куда же это запропастился Моор?
Шпигельберг. Из честного? Неужели ты думаешь, что тогда ты будешь менее честен, чем теперь? И что ты называешь «честностью»? Помогать богатым скрягам сбыть с шеи хотя бы треть забот, лишающих их золотого сна; пускать в оборот залежавшиеся капиталы; восстанавливать имущественное равновесие – одним словом, воскресить золотой век на земле,[31] освободить господа бога от кое-каких обременительных нахлебников, сократить потребность в войнах, в моровой язве, в голодухе и докторах – вот что, по-моему, значит быть честным, быть достойным орудием в руках провидения! Ведь тогда при каждом куске жаркого, отправляемого в рот, ты можешь тешить себя лестным сознанием, что этим куском ты обязан своей хитрости, своему львиному мужеству, своим бессонным ночам. Быть в почете у всех от мала до велика…
Роллер. И, наконец, заживо вознестись поближе к небу и, несмотря на бурю и ветер, несмотря на прожорливый желудок прадедушки-времени, качаться под солнцем, луной и мерцающими звездами – там, где неразумные птицы небесные, привлеченные благородной жадностью, поют сладостные песни, а хвостатые ангелы собираются на свой синедрион! Не так ли? И пускай, в то время как монархов и владетельных князей пожирают черви, на твою долю выпадает честь принимать визиты Юпитерова орла! Мориц! Мориц! Берегись, берегись трехногого зверя![32]
Шпигельберг. И тебя это пугает, заячья душа? Разве мало великих гениев, способных преобразить мир, сгнило на живодерне? И разве память о них не сохраняется века, тысячелетия, тогда как множество королей и курфюрстов были бы позабыты, если б историки не страшились пробелов в преемственности или не стремились удлинить на несколько страниц свои книги, за которые им платит наличными издатель? А если прохожий увидит, как ты раскачиваешься на ветру, он проворчит себе под нос: «Похоже, малый был не промах!» – и посетует на худые времена.
Швейцер (треплет его по плечу). Славно, Шпигельберг, славно! Что же, черт возьми, вы стоите там и медлите?
Шварц. Пусть это называется проституцией – не велика беда! И потом, разве нельзя на всякий случай носить с собой порошок, который тихонько спровадит тебя за Ахерон, где уж ни один черт не узнает, кто ты таков? Да, брат Мориц! Твой план не плох. Таков и мой катехизис!
Шуфтерле. Гром и молния! И мой также! Шпигельберг, ты меня завербовал!
Рацман. Ты, как новый Орфей[33], усыпил своею музыкой рыкающего зверя – мою совесть. Бери меня со всеми потрохами!
Гримм. Si omnes consentiunt ego поп dissentio[34] К Заметьте, без запятой. В моей голове целый аукцион: и пиетисты, и шарлатаны, и рецензенты, и мошенники! Кто больше даст, за тем и пойду. Вот моя рука, Мориц!
Роллер. Ты тоже, Швейцер? (Подает Шпигельбергу правую руку.) Ну что ж, и я закладываю душу дьяволу.
Шпигельберг. А свое имя – звездам. Не все ли равно, куда отправятся наши души? Когда сонмы курьеров возвестят о нашем сошествии, а черти вырядятся по-праздничному, сотрут с ресниц тысячелетнюю сажу и высунут мириады рогатых голов из дымящихся жерл серных печей, чтобы посмотреть на наш въезд! (Вскакивает.) Други! Живее, други! Что сравнится с этим пьянящим восторгом? Вперед!
Роллер. Потише, потише! Куда? И зверю нужна голова, ребятки.
Шпигельберг (язвительно). Что он там проповедует, этот кунктатор? Разве голова не варила, когда тело еще бездействовало? За мной, друзья!
Роллер. Спокойно, говорю я! Свобода тоже должна иметь господина. Без головы погибли Рим и Спарта.
Шпигельберг (льстиво). Да, погодите, Роллер прав. И это должна быть светлая голова! Понимаете? Тонкий политический ум. Подумать только, чем были вы час назад и чем стали теперь? От одной удачной мысли! Да, конечно, у вас должен быть начальник. Ну, а тот, кому пришла в голову такая мысль, – скажите, разве это не тонкий политический ум?
Роллер. О, если б можно было надеяться, мечтать… Но нет, боюсь, он никогда не согласится.
Шпигельберг. Почему? Говори напрямик, друг! Как ни трудно вести корабль против ветра, как ни тяжко бремя короны… Говори смелее, Роллер! Может быть, он и согласится…
Роллер. Все пойдет ко дну, если он откажется. Без Моора мы тело без души.
Шпигельберг (недовольный, отходит от него). Остолоп!
Моор (входит в сильном волнении и мечется по комнате, разговаривая сам с собою). Люди! Люди! Лживые, коварные ехидны! Их слезы – вода! Их сердца – железо! Поцелуй на устах – и кинжал в сердце! Львы и леопарды кормят своих детенышей, вороны носят падаль своим птенцам, а он, он… Черную злобу научился я сносить. Я могу улыбаться, глядя, как мой заклятый враг поднимает бокал, наполненный кровью моего сердца… Но если кровная любовь предает меня, если любовь отца превращается в мегеру, – о, тогда возгорись пламенем, долготерпение мужа, обернись тигром, кроткий ягненок, каждая жилка наливайся злобой и гибелью!
Роллер. Послушай, Моор! Как ты думаешь, ведь разбойничать лучше, чем сидеть на хлебе и воде в подземелье?
Моор. Зачем такая душа не поселилась в тело тигра, яростно терзающего человеческую плоть? И это – отцовские чувства? И это – любовь за любовь? Я хотел бы превратиться в медведя, чтобы заставить всех полярных медведей двинуться на подлый род человеческий! Раскаянье – и нет прощенья! О, я хотел бы отравить океан, чтобы из всех источников люди впивали смерть! Такая доверчивость, такая непреклонная уверенность – и нет милосердия!
Роллер. Да послушай же, Моор, что я тебе скажу!
Моор. Нет, этому нельзя поверить! Это сон! Бред! Такая смиренная мольба, такое живое изображение горя и слезного раскаяния… Сердце дикого зверя растаяло бы от состраданья, камни бы расплакались… И что же? О, если рассказать, это покажется злобным пасквилем на род человеческий. И что же, что? О, если б я мог протрубить на весь мир в рог восстания и воздух, моря и землю поднять против этой стаи гиен!
Гримм. Да послушай же, Моор! Ты от бешенства ничего не слышишь.
Моор. Прочь! Прочь от меня! Разве имя твое не человек? Разве не женщина родила тебя? Прочь с глаз моих, ты, что имеешь обличье человека! Я так несказанно любил его! Ни один сын не любил так своего отца! Тысячу жизней положил бы я за него! (В бешенстве топает ногой.) О, кто даст мне в руки меч, чтобы нанести жгучую рану людскому племени, этому порождению ехидны! Кто скажет мне, как поразить самое сердце его жизни, раздавить, растерзать его, тот станет мне другом, ангелом, богом! Я буду молиться на него!
Роллер. Такими друзьями мы и хотим стать. Выслушай же нас!
Шварц. Пойдем с нами в богемские леса! Мы наберем шайку разбойников, а ты…
Моор дико смотрит на него.
Швейцер. Ты будешь нашим атаманом! Ты должен быть нашим атаманом!
Шпигельберг (в ярости бросается в кресло). Холопы! Трусы!
Моор. Кто нашептал тебе эти слова? Послушай, дружище! (Хватает Шварца за руку.) Ты извлек их не со дна твоей души – души человека. Кто нашептал тебе эту мысль? Да, клянусь тысячерукой смертью, мы это сделаем! Мы должны это сделать! Мысль, достойная преклоненья! Разбойники и убийцы! Клянусь спасением души моей – я ваш атаман!
Все (с шумом и криками). Да здравствует атаман!
Шпигельберг (вскакивая, про себя). Атаман, покуда я его не спроважу!
Моор. Точно бельмо спало с глаз моих. Каким глупцом я был, стремясь назад, в клетку! Дух мой жаждет подвигов, дыханье – свободы! Убийцы, разбойники! Этими словами я попираю закон. Люди заслонили от меня человечество, когда я взывал к человечеству… Прочь от меня, сострадание и человеческое милосердие! У меня нет больше отца, нет больше любви!.. Так пусть же кровь и смерть научат меня позабыть все, что было мне дорого когда-то! Идем! Идем! О, я найду для себя ужасное забвение! Решено – я ваш атаман! И благо тому из нас, кто будет всех неукротимее жечь, всех ужаснее убивать; ибо, истинно говорю вам, он будет награжден по-царски! Становитесь все вокруг меня, и каждый да поклянется мне в верности и послушании до гроба! Пожмем друг другу руки!
Все (протягивая ему руки). Клянемся тебе в верности и послушании до гроба.
Моор. А моя десница будет порукой, что я преданно и неизменно, до самой смерти, останусь вашим атаманом! Да умертвит эта рука без промедленья того, кто когда-нибудь струсит, или усомнится, или отречется! И пусть так же поступит со мной любой из вас, если я когда-либо нарушу свою клятву. Довольны вы?
Шпигельберг в бешенстве бегает взад и вперед.
Все (бросая вверх шляпы). Довольны! Довольны!
Моор. Итак, в путь! Не страшитесь ни смерти, ни опасностей! Ведь нами правит неумолимый рок: каждого настигнет конец – будь то на мягкой постели, в чаду кровавой битвы, на виселице или на колесе. Другого удела нет.
Уходят.
Шпигельберг (глядя им вслед, после некоторого молчания). В твоем перечне остался пробел. Ты не назвал яда. (Уходит.)
14
Саксония – одно из крупнейших немецких княжеств (так называемое курфюршество) того времени с главными городами Лейпцигом и Дрезденом, столицей Саксонии. Позднее – королевство.
15
Плутарх (I–II вв. н. э.) – греческий историк и философ-моралист; автор сравнительных жизнеописаний греческих и римских полководцев и государственных деятелей. Эти жизнеописания с ярким изображением античных гражданских доблестей были любимейшим чтением юного Шиллера.
16
Почитай-ка лучше Иосифа Флавия! – Иосиф Флавий (I в. н. э.) – римский историк Иудеи.
17
Прометей – в древнегреческих мифах титан, защищавший человеческий род от недоброжелательства богов и от верховного божества греков Зевса (по римской мифологии – Юпитера); он был олицетворением человеческой мысли, ее неукротимой, героической силы.
18
Ганнибал. Битва при Каннах. Победы Сципиона. – Ганнибал (247–183 гг. до н. э.) и его отец Гамилькар Барка были величайшими полководцами Карфагена, торгового города-государства в Северной Африке, владевшего многочисленными колониями. Ганнибал одержал ряд побед над римлянами. Самой блестящей из них была победа при Каннах (216 г. до н. э.), в которой он уничтожил римское войско, состоявшее из восьмидесяти тысяч человек. В 202 году до н. э. Ганнибал был разбит римским полководцем Сципионом Старшим. В 146 году до н. э. Сципион Младший овладел Карфагеном и стер его с лица земли.
19
… проклинают саддукея… – Саддукеи – религиозно-политическая секта в древней Иудее, отрицавшая все религиозные обряды, кроме закона Моисея, и веру в загробное воздаяние.
20
…О, если бы дух Германа восстал из пепла! – Герман – вождь германского племени херусков Арминий, разбивший римские легионы Вара в 9 году н. э.
21
Ирод-тетрарх – или Ирод Антипа, или Антипатр, сын Ирода Великого, получивший от отца, по завещанию, четвертую часть его владений (отсюда и прозвище «тетрарх» – «четвертовластец»), правитель Галилеи и Переи, находившихся под римским владычеством.
22
…руби ливанские кедры… – Ливан – горный хребет в Сирии и в Ливане протяженностью около 450 километров, некогда знаменитый великолепием кедровых лесов.
23
Клянусь честью! (франц.)
24
Жаль, что ты не сделался генералом… – Первое действие «Разбойников» относится к маю 1756 года, кануну так называемой Семилетней войны, которая началась в конце августа того же года. Прусский король Фридрих II вел эту войну с тем, чтобы закрепить за собой отнятую им у австрийцев Силезию и добиться господства среди германских государств. Россия, которой угрожало усиление Пруссии, приняла участие в этой войне; русские войска разгромили пруссаков при Гроссегерсдорфе (1757 г.), нанесли поражение самому Фридриху II при Кунерсдорфе (1759 г.) и заняли Берлин (1760 г.).
25
Сюлли – герцог Максимилиан де Сюлли (1559–1641), министр финансов и друг французского короля Генриха IV (1589–1610 гг.). После сорокалетней религиозно-гражданской войны во Франции он упорядочил денежное хозяйство страны. Шиллер издал впоследствии на немецком языке его мемуары.
26
Кошелек или жизнь! (франц.).
27
Муки чистилища. – По учению католической церкви, чистилище – место, в котором души умерших, не отягченных смертными грехами, очищаются от грехов, прежде чем попасть в рай.
28
…в галерном раю – на каторге. Галеры – старинное боевое судно, ходившее под парусами и на веслах. Приговоренные к ссылке на галеры становились гребцами на государственных судах. Впоследствии выражение «сослать на галеры» стало обозначать ссылку на каторжные работы вообще (галера – по-новогречески «катергон»; в XVIII в. в России многовесельные суда назывались «каторги»).
29
…таскать на себе весь железный склад Вулкана – то есть кандалы. Вулкан (рим. миф.) – бог огня (у греков – Гефест), сын Юпитера и Юноны. Он устроил на острове Сицилия в Средиземном море, под огнедышащей горой Этной (вулканом – слово, произведенное от имени бога огня – Вулкана), кузницу, где и работал с циклопами – одноглазыми великанами, ковавшими по его приказу молнии.
30
…сделаюсь-ка я пиетистом… – Пиетисты – последователи пиетизма («pietas» лат. – «благочестие»), религиозного течения среди протестантов Западной Европы (вторая половина XVIII в.); пиетисты отличались порой ханжеским, притворным, показным благочестием.
31
…воскресить золотой век на земле… – В древнегреческой и римской мифологии – время блаженного существования первых людей.
32
…берегись трехногого зверя! – то есть виселицы.
33
Орфей – мифический певец в Древней Греции, своим пением приводивший в движение деревья и скалы и укрощавший диких зверей (символ могущества музыки, силы ее воздействия).
34
Если все согласны, то и я перечу (лат.).