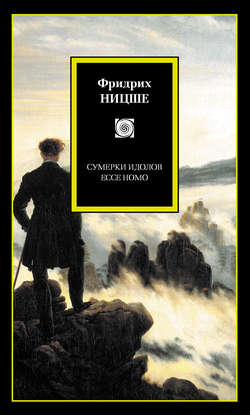Читать книгу Сумерки идолов. Ecce Homo (сборник) - Фридрих Ницше, Фридрих Ницше - Страница 3
Сумерки идолов, или Как философствуют молотом
Проблема Сократа
Оглавление1
О жизни мудрейшие люди всех времен судили одинаково: она не стоит ничего… Всегда и всюду из уст их слышали одну и ту же речь – речь, полную сомнения, полную тоски, полную усталости от жизни, полную сопротивления жизни. Даже Сократ сказал, умирая: «Жить – это значит быть долго больным: я должен исцелителю Асклепию петуха»[11]. Даже Сократу она надоела. – Что доказывает это? На что указывает это? – В прежнее время сказали бы (– о, это говорили, и довольно громко, и прежде всех наши пессимисты!): «Здесь во всяком случае что-нибудь должно быть истинным! Consensus sapientium доказывает истину». – Будем ли мы и нынче так говорить? смеем ли мы это? «Здесь во всяком случае что-нибудь должно быть больным», – ответим мы: эти мудрейшие всех времен, надо бы сперва посмотреть на них вблизи! Быть может, все они были уже нетвердыми на ногах? старыми? шатающимися? décadents? He появляется ли, быть может, мудрость на земле, как ворон, которого вдохновляет малейший запах падали?..
2
Мне самому эта непочтительность, что великие мудрецы суть типы упадка, пришла в голову при рассмотрении того случая, где ей сильнее всего противоборствует ученый и неученый предрассудок: я опознал Сократа и Платона как симптомы гибели, как орудия греческого разложения, как псевдогреков, как антигреков («Рождение трагедии», 1872). Упомянутый выше consensus sapientium – я понимал это все более и более – менее всего доказывает, что они были правы в том, в чем гармонировали: он доказывает скорее, что сами они, эти мудрейшие, кое в чем гармонировали физиологически, чтобы относиться в равной мере отрицательно к жизни, – чтобы быть вынужденными так относиться к ней. Суждения о ценности жизни, «за» или «против», в конце концов никогда не могут быть истинными: они имеют ценность лишь как симптомы, они принимаются в соображение лишь как симптомы, – сами по себе такие суждения являются глупостями. Надо непременно протянуть к ним свои пальцы и попытаться ухватить ту изумительную finesse, что ценность жизни не может быть установлена. Живым – нет, потому что таковой является стороною, даже объектом спора, а не судьею. Мертвым – нет, по другой причине. – Со стороны философа видеть проблему в ценности жизни является таким образом даже возражением против него, вопросительным знаком около его мудрости, неразумием. – Как? а все эти великие мудрецы – разве они были не только décadents, разве они даже не были мудрыми? – Но я возвращаюсь к проблеме Сократа.
3
Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был чернью. Нам известно, мы даже видим это, как безобразен был он. Но безобразие, являющееся само по себе возражением, служит у греков почти опровержением. Был ли Сократ вообще греком? Безобразие является довольно часто выражением скрещенного, заторможенного скрещением развития. В другом случае оно является нисходящим развитием. Антропологи среди криминалистов говорят нам, что типичный преступник безобразен: monstrum in fronte, monstrum in animo[12]. Но преступник есть décadent. Был ли Сократ типичным преступником? – По крайней мере этому не противоречит то знаменитое суждение физиономиста, которое казалось таким обидным друзьям Сократа. Один иностранец, умевший разбираться в лицах, проходя через Афины, сказал в лицо Сократу, что он monstrum, – что он таит в себе все дурные пороки и похоти. И Сократ ответил только: «Вы знаете меня, милостивый государь!»[13] —
4
На décadence указывает у Сократа не только признанная разнузданность и анархия в инстинктах; на это указывает также суперфётация логического и характеризующая его злоба рахитика. Не забудем и о тех галлюцинациях слуха, которые были истолкованы на религиозный лад, как «демония Сократа». Все в нем преувеличено, buffo, карикатура, все вместе с тем отличается скрытностью, задней мыслью, подземностью. – Я пытаюсь постичь, из какой идиосинкразии проистекает сократическое уравнение: разум = добродетели = счастью – это причудливейшее из всех существующих уравнений, которому в особенности противоречат все инстинкты более древних эллинов.
5
С появлением Сократа греческий вкус изменяется в благоприятную для диалектики сторону; что же происходит тут в сущности? Прежде всего этим побеждается аристократический вкус; чернь всплывает наверх с диалектикой. До Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер: они считались дурными манерами, они компрометировали. От них предостерегали юношество. Также не доверяли всякому такому предъявлению своих доводов. Благопристойные вещи, как и благопристойные люди, не носят своих доводов так прямо в руках. Неприлично показывать все пять пальцев. Что сперва требует доказательства, то имеет мало ценности. Всюду, где авторитет относится еще к числу хороших обычаев, где не «обосновывают», а повелевают, диалектик является чем-то вроде шута: над ним смеются, к нему не относятся серьезно. – Сократ был шутом, возбудившим серьезное отношение к себе: что же случилось тут, собственно? —
6
Диалектику выбирают лишь тогда, когда нет никакого другого средства. Известно, что ею возбуждаешь недоверие, что она мало убеждает. Ничто так легко не изглаживается, как эффект диалектика: опыт каждого собрания, где говорят речи, доказывает это. Она может быть лишь необходимой самообороной в руках людей, не имеющих уже никакого иного оружия. Надо вынуждать признание своего права: до этого ее ни во что нельзя употребить. Евреи были поэтому диалектиками; Рейнеке-Лис был им; как? и Сократ был им также? —
7
– Есть ли ирония Сократа проявление бунта? ressentiment черни? наслаждался ли он, как угнетенный, своей собственной кровожадностью в ударах ножа силлогизма? мстит ли он знатным, которых очаровывает? В качестве диалектика имеешь в руках беспощадное орудие; с ним можно стать тираном; побеждая, компрометируешь. Диалектик предоставляет своему противнику доказывать, что он не идиот: он приводит в бешенство, он вместе с тем делает беспомощным. Диалектик депотенцирует интеллект своего противника. – Как? разве диалектика является только формой мести у Сократа?
8
Я дал понять, чем мог отталкивать Сократ; тем более надо объяснить то обстоятельство, что он очаровывал. – Что он открыл нового вида agon[14], что он был первым учителем фехтования в этой области для знатных афинских кругов, – это раз. Он очаровывал, затрагивая атональный инстинкт эллинов, – он внес вариант в ристалищную борьбу между молодыми мужчинами и юношами. Сократ был также великим эротиком.
9
Но Сократ отгадал еще больше. Он видел кое-что за спиной своих знатных афинян; он понимал, что его случай, его идиосинкразия уже не была исключительным случаем. Такое же вырождение подготовлялось всюду в тиши: старым Афинам приходил конец. – И Сократ понимал, что все нуждаются в нем – в его средстве, в его врачевании, в его личной сноровке самосохранения… Повсюду инстинкты находились в анархии; повсюду были в пяти шагах от эксцесса: monstrum in amino было всеобщей опасностью. «Инстинкты хотят стать тираном; нужно изобрести противотирана, который был бы сильнее»… Когда упомянутый физиономист открыл Сократу, кто он такой, назвав его вертепом всех дурных похотей, великий насмешник проронил еще одно слово, дающее ключ к нему. «Это правда, – сказал он, – но я стал господином над всеми». Как сделался Сократ господином над собой! – Его случай был, в сущности, лишь крайним случаем, лишь самым бросающимся в глаза из того, что тогда начинало делаться всеобщим бедствием: что никто уже не был господином над собою, что инстинкты обратились друг против друга. Он очаровывал, как этот крайний случай, – его возбуждающее ужас безобразие говорило о нем каждому глазу: он очаровывал, само собою разумеется, еще сильнее как ответ, как решение, как кажущееся врачевание этого случая. —
10
Если потребно сделать из разума тирана, как это сделал Сократ, то не мала должна быть опасность, что нечто иное сделается тираном. В разумности тогда угадали спасительницу; ни Сократ, ни его «больные» не были вольны быть разумными – это было de rigueur[15], это было их последнее средство. Фанатизм, с которым все греческие помыслы набрасываются на разумность, выдает бедственное положение: находились в опасности, был только один выбор: или погибнуть, или – быть абсурдно-разумными… Морализм греческих философов, начиная с Платона, обусловлен патологически; равным образом и их оценка диалектики. Разум = добродетели = счастью – это значит просто: надо подражать Сократу и возжечь против темных вожделений неугасимый свет — свет разума. Надо быть благоразумным, ясным, светлым во что бы то ни стало: каждая уступка инстинктам, бессознательному ведет вниз…
11
Я дал понять, чем очаровывал Сократ: он казался врачом, спасителем. Нужно ли еще указывать на заблуждение, заключавшееся в его вере в «разумность во что бы то ни стало»? – Это самообман со стороны философов и моралистов, будто они уже тем выходят из décadence, что объявляют ему войну. Выйти из него – выше их сил: то, что они выбирают как средство, как спасение, само опять-таки является выражением décadence – они изменяют его выражение, они не устраняют его самого. Сократ был недоразумением; вся исправительная мораль, также и христианская, была недоразумением… Самый яркий свет разумности во что бы то ни стало, жизнь светлая, холодная, осторожная, сознательная, без инстинкта, сопротивляющаяся инстинктам, была сама лишь болезнью, иной болезнью – а вовсе не возвращением к «добродетели», к «здоровью», к счастью… Быть вынужденным побеждать инстинкты – это формула для décadence: пока жизнь восходит, счастье равно инстинкту. —
12
– Понял ли он это сам, этот умнейший из всех перехитривших самих себя? Не сказал ли он это себе под конец мудростью своего мужества перед смертью?.. Сократ хотел умереть: не Афины, он дал себе чашу с ядом, он вынудил Афины дать ему ее… «Сократ не врач, – тихо сказал он себе, – одна смерть здесь врач… Сократ сам был только долго болен…»
11
Платон. Федон 118a.
12
чудовище по виду, чудовище в душе (лат.).
13
Анекдот, рассказанный Цицероном (Cicero. Tusc. IV 37, 80).
14
публичное состязание (гр.).
15
необходимо (фр.).