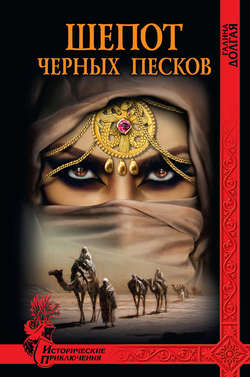Читать книгу Шепот Черных песков - Галина Долгая - Страница 6
Книга первая. Маргуш: рассвет
Глава 2. Притяжение Мургаба
ОглавлениеДевушки шумной стайкой прошли вниз по течению Мургаба, игриво поглядывая на парней из-под накидок от солнца. Среди них шла и Шартум. В ее руках поблескивал нож, а за спиной болтался пустой кожаный мешок. Девушка улыбалась охотнику, который особо выделялся среди полуобнаженных парней, месивших глину на берегу реки. Белая шапка из курчавого барашка, просторная рубаха, подпоясанная кожаным ремнем – все было на нем, как и в походе, даже лук со стрелами.
Шартум гордилась мужем и была счастлива с ним. Он любил ее страстно, каждую ночь ласкал так, что от неги она растекалась по ложу, как река, а ее стон походил на крик ночной птицы.
– Куда это они? – провожая взглядом любимую, спросил Парвиз у ее старшего брата, мастерившего деревянный каркас для кирпича.
Оторвавшись от работы, тот откинул волосы назад, обнажив покатый взмокший лоб, и глянул девушкам в след.
– За соломой пошли. Там, отец сказывал, трава уже посохла, ее сразу можно с глиной мешать, дело быстрее пойдет.
– Нельзя им далеко одним ходить. Чужие за рекой появились. Вчера видел. Трое всадников. Как бы беды не случилось.
Брат Шартум оставил дощечку, сделав на ней зарубку на уровне колена; подозвал сына и, наказав сработать еще такую же, подхватил рубаху, взял топорик, и они вместе с Парвизом пошли за девушками.
* * *
День выдался жаркий. От реки, что сияющей лентой текла в стороне от поселка, поднимался густой воздух, насыщенный водными парами. С севера прилетал жгучий ветер, принося песок, который скрипел на зубах, оседал на волосах и бородах. Люди прятались под накидками, чтобы защитить свою кожу от ожогов. Под навесами из циновок работали женщины, готовя еду или мастеря одежду. В тени прибрежных деревьев расположились гончары и каменщики; воины точили наконечники для стрел и копий. Но мастеровых было немного. Вождь распорядился строить хижины из глины, какие они видели по пути к Мургабу и в Аккаде, и в поселках Многогорья. Изо дня в день большинство людей племени трудились над изготовлением кирпичей из глины. Вон уже сколько сушилось их повсюду! А Персаух с несколькими смышлеными парнями разрабатывал план своего города, в котором будет не только святилище богам и дворец вождя, но и дом для каждой достойной семьи. Уже место под строительство расчистили. Но прежде всего Персаух приказал возвести вокруг будущего города стену, за которой можно укрыться самим и скот спрятать, если кто из кочевников посягнет на добро племени. За хорошими стенами и в хижинах пожить можно, зато в безопасности.
Работа кипела каждый день с восхода солнца и до заката, но рук не хватало. Персаух подгонял соплеменников. Хотел он к зиме стену выстроить. Потому работали все – и старики, и женщины, и дети. Охраняли племя верные собаки и воины. Стражи более всего посматривали за реку, туда, где Парвиз накануне видел чужаков.
Они и раньше появлялись, но близко не подходили, оставались вдали от поселка, который отчасти скрывали заросли юткуна и лоха, облепившие весь левый берег Мургаба. А со стороны кочевников берег был лысый и глинистый. Не везде можно близко к воде подойти – лошади увязнут в глине, но кое-где была твердая земля. Парвиз отметил для себя несколько таких мест. К одному из них сейчас и приближались девушки, растянувшись цепочкой по сухому лугу.
Шартум ближе всех оказалась к воде. Девушку манила тень и прохлада от реки. Хотелось пить, снять с себя накидку и намочить разгоряченные руки, лицо, да и волосы растрепались… Не выдержав, Шартум направилась к старому талу, торопясь укрыться от беспощадного солнца в полупрозрачной тени от кроны дерева. Его ветви склонились над водой, а корни торчали из земли на обмелевшем берегу. Шартум положила свой мешок, сбросила накидку, вытащила булавку из растрепавшегося валика волос и, оглянувшись, поискала взглядом Парвиза. Он не спускал с нее глаз, хотя разговаривал с братом. Шартум улыбнулась. Внимание мужа нравилось ей. Да и сам он нравился – статный, с удлиненной головой, с красивым загорелым лицом, совсем не таким, какое было у ее отца, у братьев, даже у вождя. Особенно отличался нос Парвиза – прямой и тонкий, с чувственными ноздрями. Казалось, он все время к чему-то принюхивается, ловя воздух. И губы его – четко очерченные, алые, как лепестки мака, – казались тоньше, чем у других.
Шартум, думая о муже, почувствовала, как живот прихватила горячая волна; сжала внутренности и потом растеклась книзу. Даже голова закружилась. Девушка тряхнула волосами, облизала сухие губы. Хотелось пить. Оставив свои вещи, Шартум подошла ближе к берегу, присела, ухватилась одной рукой за торчащий дугой корень, наклонилась и зачерпнула ладошкой воды. Лохматая собака подбежала к хозяйке и остановилась как вкопанная, вытянув шею и принюхиваясь. Шерсть на загривке пса поднялась дыбом.
Парвиз видел, как жена склонилась к реке. Ее светло-коричневая рубаха слилась с такой же водой, только струи черных волос растеклись по спине.
– Ты действительно так любишь мою сестру, что не можешь оставить ее без внимания даже на миг? – засмеялся Абаттум, имя которого «Камень» как нельзя больше подходило к этому крепко сбитому парню.
Парвиз опустил глаза и взглянул на спутника исподлобья.
– Каждый миг моей жизни принадлежит ей, – ответил тихо, но взволнованно. – А ты, ты любишь свою жену? – спросил он не без интереса.
Абаттум пожал плечами.
– Мея хорошая жена, родила мне крепких сыновей, по хозяйству справляется, родителей уважает… чего еще? Разве что не стонет ночами, как Шартум, – Абаттум подмигнул.
Лай собаки, всплеск воды и приглушенный крик донеслись до слуха охранников. Оба обернулись к реке.
– Конь в воде! – крикнул Абаттум, первым увидев плывущего коня, рядом с которым виднелась голова кочевника.
– Шартум, – прошептал Парвиз, предчувствуя беду.
Жены нигде не было видно. Собака металась по берегу и вдруг кинулась в воду. Парвиз догадался, что его жену похитили. Он вскинул лук, вложил стрелу и прицелился, но за спиной раздался визг. Повернувшись, охотник увидел двух всадников. Они гонялись за убегающими девушками, пытаясь поймать их. А те метались по лугу, уворачиваясь от хищных рук.
Стрела Парвиза полетела в одного из кочевников, который настигал жертву. Но он сам оказался жертвой: острый наконечник впился в бок, прямо под рукой, которая едва успела прикоснуться к гладким волосам красавицы. А Парвиз уже послал стрелу в другого кочевника, но Абаттум опередил его. Топорик со свистом вонзился в спину похитителя, переломив ему хребет.
Тем временем конь третьего кочевника переплыл Мургаб и заржал, выбравшись на твердую землю. Только тогда Парвиз увидел жену: похититель тащил ее обмякшее тело, обхватив рукой за талию. Потом быстро поднял девушку, закинул ее поперек спины коня. Рубаха на Шартум задралась, и обнаженные ноги белели с одного бока коня, а распущенные волосы мокрыми прядями упали на другой. Пес доплыл до берега и, выскочив из воды, кинулся на похитителя, но тот с гиканьем запрыгнул на круп своего скакуна и ударил его пятками по ляжкам.
Парвиз соколом помчался к реке, на ходу натягивая тетиву. Он уже видел затылок врага. Стрела вспорола воздух и полетела на другой берег Мургаба. Конь, напуганный злобным псом, топтался на месте и, развернувшись к реке, закрыл всадника. Гудящая стрела вонзилась в могучую шею.
Конь дернулся и завалился на бок, придавив собой Шартум. Кочевник успел спрыгнуть, но, растерявшись на миг, развел руки и уставился на другой берег реки, по которому к нему бежал меткий стрелок и, уже поравнявшись с ним, скакал во весь опор всадник. Это Абаттум, изловив коня, вскочил на него и мчался спасать сестру.
Парвизу хватило замешательства врага, и второй стрелой он поразил его прямо в сердце.
Шартум наполовину лежала под тушей коня. Спутанные мокрые волосы закрывали лицо, руки беспомощно раскинулись в стороны. Собака, подползая к ней, тихонько подвывала.
– Шартум, Шартум! – кричал Парвиз, выбираясь из воды и скользя по мокрой глине.
Он упал, поднялся и, как зверь, опираясь на четыре конечности, подбежал к жене. Она была без сознания. Конь еще хрипел и дергался в агонии. Стащить его тушу с ног Шартум Парвиз не мог. Вытянуть любимую тоже. На помощь подоспел ее брат. Вдвоем мужчины сдвинули коня и освободили ноги девушки, которая так и лежала без сознания. Только слабое дыхание шевелило тонкую травинку, которую Абаттум поднес к ее носу, да еле слышно билось сердце в груди, к которой припал ухом Парвиз.
А на другом берегу Мургаба уже торопились на помощь люди их племени. Среди них и Персаух. Вождь вместе с несколькими воинами переплыл реку на конях и помчался на восток, намереваясь вступить в бой с кочевниками, которые (Персаух не сомневался в этом!) ожидают своих лазутчиков с добычей неподалеку.
Парвиз и Абаттум осторожно переправили Шартум назад и на циновке отнесли ее в поселок, где Цураам уже готовила снадобья и пела песнь богине Иштар, моля покровительницу женщин о даровании жизни несчастной девушке.
* * *
…Солнечные блики слепили глаза, но Шартум словно завороженная смотрела на них, смотрела… Всплеск, и вот на водной глади показалось чешуйчатое тело змея. Извиваясь, он подплывал все ближе, ближе… его пасть раскрывалась все шире. Шартум уже видела острые зубы. Она замерла под взглядом змея, крик застрял в горле, страх сковал тело. Ужасная пасть приблизилась настолько, что закрыла собой реку и солнце. Слюна сочится между зубами, стекает с раздвоенного языка…
– А-а-а! – закричала Шартум.
– Тише, тише, дочка, – Цураам склонилась над головой девушки и поднесла к ее рту длинный носик сосуда со снадобьем, – пей, моя хорошая, пей, забытье – лучшее лекарство, да будет благословенна Гула[29], дарующая нам исцеление!
Шартум лежала в тени под навесом из камышовой циновки. Девушка сидела в изголовье больной и помахивала веткой над ее лицом. Рядом Цураам в окружении сосудов с только ей известными снадобьями колдовала над телом несчастной, у которой оказалось несколько переломов в ногах. Больше всего верховную жрицу беспокоил один – у левого бедра. Нога неестественно вывернулась в том месте и отекала на глазах. Цураам связала ноги Шартум и обложила их распаренными листьями травы, помогающей при ушибах.
Парвиз сидел неподалеку, скрестив ноги, и качался взад-вперед, шепча на своем языке то ли молитвы, то ли заклинания.
– Алик Пани, Алик Пани вернулся! – закричал мальчишка, первым увидев полуобнаженных всадников, за которыми тянулся шлейф пыли.
Воины спешились, и Персаух, осушив поданную чашу с кислым молоком, подошел к Цураам. Он присел с ней рядом, но молчал. Только смотрел на Шартум. Лицо вождя было сурово. Сжатые губы, прищуренные глаза скрывали тяжелые мысли, которые ему предстояло облечь в слова.
– Как она? – спросил Персаух, его голос прозвучал глухо, но Цураам послышалась горечь в нем – гораздо большая горечь, чем та, которую могли вызвать страдания девушки его племени.
– Молимся, – ответила Цураам, вглядываясь в лицо мужа.
Она ни о чем не спрашивала. Сам скажет, что надо.
Персаух положил руку на плечо жены, сдавил его и порывисто поднялся. Ожерелье с бронзовыми фигурками быков брякнуло на его обнаженной груди.
Старейшины племени ожидали вождя под другим навесом. Воины стояли неподалеку. Персаух сделал знак рукой, и воины разошлись. Один из них подвел к Цураам коня. Поперек его спины, вниз лицом, лежал юноша. Его грудь была насквозь проткнута стрелой, наконечник которой, обагренный кровью, торчал под лопаткой. Воины сняли убитого и положили к ногам жрицы. Цураам качнулась.
– Сынок…
Женщины подбежали к ней, подхватили под руки.
– Прости, Цураам, не уберег, – процедил Персаух и, кинув прощальный взгляд на сына, решительно направился к старейшинам.
На совет позвали Парвиза и Абаттума. Они рассказали, как все случилось. Старейшины слушали внимательно, изредка поглядывая на мужчин. Когда те закончили рассказ, в повисшей тишине зазвучал голос вождя:
– Их немного было – одиннадцать всадников. Трое реку переплыли и в зарослях сидели, поджидая наших девушек. Восемь у другого русла реки ждали, недалеко, два беру[30] от того места, где нашли Шартум. Мы всех убили.
– Другие придут. Мстить будут, – вставил Парвиз.
Персаух колко взглянул на него.
– Мстить будут, – повторил охотник, не замечая взгляда вождя, – надо опередить, я знаю, где их стойбище. Там, – он кивнул на юг.
– Там? – удивился один из старейшин. – Но они пришли оттуда, – он указал на восток.
– Они шли по тому берегу, переправились, где мельче, а там река большая, сильная, не каждая лошадь вброд перейдет. Я видел шатры, отары, раньше, когда мы только пришли. Но кочевники на другой стороне реки, там, где она еще не разделяется, не думал, что к нам подберутся, думал, уйдут, а они мою Шартум…
– Всем мужчинам вооружиться, – сурово перебил Персаух, – дозор держать со всех сторон. Ты, Парвиз, возьмешь трех воинов и проверишь, там ли стойбище, где ты видел. А потом решим, что делать. Дров побольше заготовить, костры ночью жечь, и стену строить! – приказал вождь и, оставив старейшин, пошел к жене.
* * *
Цураам не плакала. В ее глазах не осталось слез, все высохли, как ручейки в пустыне. Она даже не смотрела на сына, который лежал, не двигаясь, не дыша, только гладила по голове, вспоминая своего мальчика ребенком с веселыми глазками, неугомонного, всегда убегающего от ее ласк к воинственному отцу.
Персаух научил сына всем премудростям воинского искусства, гордился им, прочил ему власть и заботу о племени в будущем, когда смерть заберет его самого, уже состарившегося и беспомощного, и боги свершат суд над ним, определяя, где его тень проведет вечность. Но случилось так, что не он, старый Персаух, а его молодой сын отправился в Страну Без Возврата[31], и теперь отец заботился о том, чтобы в пути у него все было.
В прямоугольную яму на небольшое возвышение, напоминающее лежанку, положили сына Персауха и Цураам. Он лежал на боку, поджав ноги, словно спал, но в руке сжимал лук, как воин, готовый по первому зову ринуться в бой. Соплеменники щедро снабдили своего защитника всем необходимым для жизни – пусть и в царстве мертвых, где правит богиня Эрешкигаль, у него будет из чего напиться, что поесть и что принести богам в жертву, дабы умилостивить их.
Под одной из стен могилы положили собаку – верного стража человека. Им, этим бесстрашным животным, боги доверили заботу о душах умерших, им открыли способность видеть их и предупреждать живых об их приближении, если кто сумеет выйти из владений сестры Иштар, взгляд которой несет смерть.
Но Цураам как верховная жрица более всего молилась всесильному богу, днем освещавшему мир живых, ночью же отдающему свой свет тем, кто ушел в Страну Без Возврата. Каждый день он правит небесной колесницей, даруя свет и блага, наделяя мудростью достойных, карая нечестивых.
Ему посвятила Цураам свою молитву, восхваляя и прося милости. Жрица пела и прощалась с сыном, оттого ее голос был слаб, и девушки звонкими голосами подхватывали песнь матери, добавляя восхваления всем другим богам, чтобы долетела молитва до правящих судьбами, ублажила их слух, и обратили они свои взоры на людей, жаждущих жизни, ради которой приходилось приносить такую тяжелую жертву.
* * *
Шартум металась в жару. В бусинках пота, осыпавших ее горячий лоб, отражались блики костров. Цураам после похорон сына удалилась от всех, и возле больной девушки дежурили ее соплеменницы.
Парвиз подошел проститься. Он не знал, вернется ли. Его мысли убегали в недавнее прошлое, когда Шартум звонко смеялась, когда он ласкал ее ноги, щекотал маленькие ступни. Сейчас они разбухли и посинели. Парвиз отвел взгляд.
– Пора! – Абаттум прикоснулся к локтю охотника.
Не говоря ничего, тот развернулся и вскоре четверо всадников исчезли в ночи.
Персаух проводил их, наказывая не вступать в схватку, а только узнать все, и пошел к жене. Цураам сидела у могилы сына, вокруг которой стояли бронзовые ажурные светильники. Язычки пламени в них колыхались от легкого ветерка, прилетающего от реки. Рядом со жрицей стоял сосуд с хаомой. Цураам уже испила священного напитка богов и покачивалась в трансе, шепча заклинания. Персаух присоединился к жене. Вместе они выпали из мира людей и вели сына на суд богов, охраняя его дух от порождений хаоса – ужасных змей Тиамат[32], одна из которых мучила Шартум. Верховная жрица видела это и со всей своей силой призывала Бога Солнца развеять тьму, победить хаос и даровать девушке жизнь.
До зари молились Цураам и Персаух. С первыми лучами солнца жрица впала в забытье, а вождь, оставив ее заботам соплеменников, взял сосуд с хаомой и совершил приношение Эа. Воды Мургаба приняли священный напиток богов и, как сама жизнь, понеслись дальше, не останавливаясь даже там, где русло превратилось в песчаный омут, а потом и вовсе исчезло. Вода просочилась в песок и ушла в подземелье к владыке всех вод. Эа услышал жрецов и на некоторое время даровал племени Белого верблюда благополучие и тишину.
* * *
Шартум медленно поправлялась. Переломы срослись, но боль не оставляла девушку. Да к тому же ее левая нога перестала сгибаться. Шартум ходила с помощью посоха, который ей сделал брат. Не так давно легкая, как джейран, красавица теперь выглядела кривой старухой, бедра которой качались при ходьбе, как утки на волнах весеннего Мургаба. Парвиз стеснялся жены. Люди быстро забыли горе и теперь лишь посмеивались над калекой, так и называя ее – Акуту[33].
Колкие шутки соплеменников до боли в сердце задевали мужа несчастной. Не раз порывался Парвиз уйти в свое село в далеком Многогорье, но каждый раз, посмотрев на Шартум, погрузившись в ее глубокие, грустные глаза, которые, не в пример телу, от испытываемой боли стали еще прекраснее, он останавливался. Казалось, перенесенные страдания сделали девушку мудрой. Что-то неподвластное пониманию таилось в ее глазах. Так смотрят жрецы, получившие откровение, или старцы, познав за свою долгую жизнь немало тайн.
– Что же нам делать, Шартум? – вопрошал Парвиз, гладя жену, прижавшуюся к нему. – Как же нам жить дальше?
Шартум молчала, только слезы вытекали из ее глаз – тихо, без всхлипывания и мольбы.
Персаух дорожил охотником, умеющим бесшумной змеей подкрасться не только к джейрану, но и к врагу. Он отдал ему первый из построенных домов – небольшой, из двух комнат и очага, но с надежными стенами и крышей, защищающими и от ветров, и от любопытных глаз и ушей. Но как ни была велика радость Парвиза, и она омрачилась, когда Шартум попыталась сама разжечь огонь в очаге. Негнущаяся нога не давала возможности склониться к нему; как Шартум ни старалась, разжечь огонь она не смогла.
– Я научусь, Парвиз, ты не думай, я смогу! – захлебываясь слезами и все пытаясь приспособиться, с отчаянием и злостью шептала Шартум.
Она отставляла ногу, приседая на одной, но тут же заваливалась на бок, стоная от боли.
– Не надо, Шартум, не надо, отойди, я сам…
Цураам помогла несчастной паре. Она обязала одну из дочерей бедного пастуха вести хозяйство охотника и заботиться о его жене.
Персаух, узнав об этом, спросил:
– Что тебе с этой женщины? Почему ты заботишься о ней? Не видишь, боги отвернулись от нее, зачем же тебе помогать ей?
– А ты? Почему ты привечаешь ее мужа?
Персаух вскинул голову.
– Он мне нужен! Никто не видит того, что видит он!
– Чего именно? – Цураам насторожилась.
– Помнишь, Цураам, когда он и Абаттум вернулись после того, как мы похоронили своего сына? – Жрица закивала, опустив глаза. – Тогда они не нашли и следа тех кочевников. И Парвиз сказал – я хорошо помню его слова! – «Кто-то спугнул племя, и то были не мы».
– А кто? – предчувствие тревоги пробежало в груди Цураам.
– Вот именно – кто! Я в тайне от всех послал охотника узнать, вынюхать, чего испугались кочевники. Его долго не было, но он вернулся. Тогда все подумали, что он сбежал от своей больной жены, а он далеко ходил, дальше того места, где река растекается по долине на несколько рукавов. Он почти до подножий Многогорья дошел и знаешь, что он там увидел?
Цураам взялась за сердце.
– Да, сюда идут. Идут те, кто, как и мы, искали незанятые земли, кого мы оставили, решив пытать счастья самим. По словам Парвиза, их стало еще больше. Много людей, много скота, много воинов. Вот такие дела, Цураам, – Персаух тяжело вздохнул, – теперь ты знаешь. Я не хотел тебя беспокоить, молчал. И охотнику сказал, чтобы молчал: незачем людям знать о том прежде времени. Сейчас те встали, думаю, хотят переждать зиму, а весной опять двинуться в путь. Их охотники тоже ищут и уже были в дельте Мургаба. Глядишь, и до нас доберутся, всего-то пять беру[34]… А мы к тому времени город достроим!
– Уж не воевать ли ты собрался, Персаух?
– Я им свой город не отдам! И земли свои не отдам! Мы первые сюда пришли! Моя это земля!
– Ц-ц-ц-ц, – зацокала язычком Цураам, – тебе бы два горба на спину – точь-в-точь верблюд!
– Ты все не успокоишься! – возвысил голос Персаух. – Да, если бы не мой верблюд, мы сюда никогда бы не добрались! – пошел он в наступление.
– Охлади пыл, муж. Сюда, не сюда, куда-нибудь пришли бы. Да я не о том. Пока время есть, думать надо, как и гнездо свое сохранить, и льву в пасть не попасть!
– Я и думаю. Стену мы достроили. Воины от бойниц не отходят. Я прошу богов о помощи нам. Чего еще? – Персаух взглянул на жену сквозь прищур глаз.
– Хитрость нужна. Войну нам не выиграть. Но… хорошо, что мы здесь, а не в устье город поставили. Не самые лучшие земли у нас, и сгонять нас отсюда нет никакой надобности. А потому, как придут, как свои шатры поставят, надо будет тебе на поклон пойти, подарки приготовить, убедить, что хорошие мы соседи, что с нами жить надо в мире и согласии…
Персаух снова вспылил, обжег жену пылающим взглядом. Он, да на поклон?! Не бывать тому! Но Цураам укоризненно покачала головой и кивнула в сторону загона, где рядом с быками жевал свою колючку белый верблюд – талисман племени, его символ. Уж и мастера отлили бронзовых верблюдов, которых можно было увидеть на заколках в волосах женщин или на булавках, скрепляющих плащи мужчин. Сам Персаух носил такую, только из серебра.
Намек жены охладил пыл вождя. Гордость хороша в нужное время и в нужном месте, а сейчас, наедине с женщиной, которая умела видеть дальше его самого, стоит прислушаться. Кому как не ему – вождю племени, только начавшего крепнуть после долгого похода, нужны мир и согласие?!
– Как это сделать, как убедить?.. – спросил он, еще не понимая, что на уме Цураам.
– Думать будем, Персаух, да на богов надеяться! – уклончиво ответила она. – Сегодня же надо хорошую жертву Шамашу принести, да и людям праздник нужен. Совсем ты их замотал со строительством.
Персаух согласился. Овцы за лето хороший жир нагуляли! И богам радость будет от них, и людям!
– Хорошо, Цураам, устроим праздник. Но ты так и не сказала, что тебе с Акуту, почему так беспокоишься о ней?
– Беременна она, – растягивая слова, проговорила Цураам. Персаух поджал губы, то ли сокрушаясь, то ли удивляясь, – да, беременна, – задумчиво повторила жрица.
– А охотник знает?
– Думаю, нет. Она сама только догадалась, мать спрашивала.
– И что? Мало ли в племени беременных женщин, вон, хотя бы Мея, жена ее брата…
Цураам словно не слушала мужа, ее отрешенный взгляд блуждал в других мирах – в прошлом ли, в будущем, не понять, но одно стало ясно: что-то важное увидела жрица в своих видениях и связано это с покалеченной женой охотника.
– Видела я, как твой верблюд склонил ноги перед жрицей, прекрасной жрицей, и поползли тысячи змей от ее ног к нашим землям, а по следам от тех змей полилась вода. Не такая, как течет в Мургабе, а чистая и синяя, как само небо. За спиной жрицы в облаке стояла Акуту. Сама Иштар держала светильник над ее головой… – Цураам замолчала.
– А дальше? Что было дальше? – завороженный рассказом, словно ребенок, промолвил Персаух.
– Не знаю, – Цураам подняла на мужа прищуренные глаза. – Дальше не рассмотрела, все, как в воздухе раннего утра – только цвета и очертания.
Персаух разочарованно вздохнул.
– Что ж, поживем – увидим. Жрица, говоришь… Пошли в дом охотника еще помощников. Зима скоро, Парвиз сам рассказывал, что зимы в Черных песках суровы, хоть и недолги, надо пищу для костров запасать, одежду из меха шить, обувь. Одной Акуту не справиться.
* * *
Осень ушла так же незаметно, как и пришла. Редкий дождь радовал людей, запасающих на зиму дары земли. Красно-коричневые шары дикого граната, желтобокие сочные груши, нежные сливы, вязкие на вкус, но сладкие ягоды лоха – все собирали женщины. Что-то складывали в укромные уголки своих жилищ на хранение, чем-то сразу радовали своих близких, разнообразив скромную трапезу фруктами и сладкими корнями печеного аира, которые выкапывали на берегах Мургаба. За лето жители нового города успели запастись сеном для скота, и даже собрать урожай ячменя, хоть небольшой, но достаточный для будущего посева. Персаух, довольный, ходил от стойла к стойлу, хозяйским взглядом оценивая крутые бока бычков и отвислые курдюки баранов.
Белый верблюд к зиме оброс новой шерстью и так накачал свои горбы жиром, что они торчали на его спине, как пышные груди красавицы.
– Что, жуешь свою колючку? – похлопав гордеца по упругой ляжке, Персаух расплылся в улыбке.
Верблюд, работая челюстями, как жерновами для растирки ячменя, медленно повернул голову к хозяину, приблизил к нему морду и с любопытством уставился прямо в лицо. Персаух рассмеялся.
– Что, не узнал? – Верблюд моргнул, и его красивые веки, обрамленные полукружьями длинных загнутых ресниц, сомкнулись над умными глазами. – То-то же! – Персаух отодвинул от себя верблюжью морду. – Ладно, ешь, ешь, набирайся сил. Скоро мы тебе подругу поймаем, бегают тут такие, как ты, только рыжие, будет тебе и радость, и работа! Ха-ха!
Верблюд приосанился, даже жевать перестал. Высоко поднял голову, выпятив лохматую шею.
– Хорош! Хорош! И холода нипочем… А что мой каунакес? – оглянувшись на слугу, вспомнил Персаух. – Готов?
– Да, господин! – поклонился тот. – Женщины еще вчера госпоже отнесли.
– То-то… верблюд, вон, и тот новой шерстью оброс, а вождь все в старом тряпье ходит, – заворчал Персаух, мельком взглянув на свой шерстяной конас[35], серо-коричневыми полотнами свисающий с плеч. Белая льняная рубаха, которую Цураам бережно хранила до поры до времени, как редкую вещь, достойную только вождя, выглядывала из-под плаща у колен.
Старый каунакес, который Персаух носил как юбку, завязывая на талии, не мог согреть всего тела. Холодные северные ветра пробирали до костей, и тогда вождь приказал сшить ему длинный каунакес с бахромой из меха козла. Тогда, надев такое платье поверх плаща и рубахи прямо от шеи, можно не бояться ни ветра, ни снега, что, хоть редко, но сыпал с неба белыми хлопьями. Даже растаяв на длинной шерсти, он каплями влаги стекал с нее, не причиняя человеку вреда, как и козлу или верблюду.
С наступлением холодов все люди племени стали похожи на животных. Кутаясь в меха и шерсть, они напоминали кто овец или козлов, вставших на две ноги, кто леопардов, вздумавших удивить мир ходьбой на задних лапах. Наряднее всех был Персаух. Его черная непокрытая голова торчала на кажущейся тонкой шее из объемного каунакеса, шаром обтекающего фигуру. Но даже такая громоздкая одежда не мешала вождю везде сунуть свой нос и знать обо всех делах в племени.
Цураам же в зимние дни мало выходила из своей комнаты, ставшей для нее и храмом, и местом отдыха. Слуги постоянно поддерживали огонь в алтарном очаге, а жрица подолгу смотрела на пламя, то застыв, как терракотовая фигурка Иштар, с которой Цураам никогда не расставалась, то качаясь взад-вперед, как стебелек травы под напором ветра. Говорила жрица мало, да никто и не решался прерывать ее задумчивость, разве только муж, но и ему Цураам отвечала односложно.
Весной, когда солнце все чаще стало согревать землю, когда первые ростки трав проклюнулись из напоенных влагой семян, Цураам словно проснулась. Она оставила огонь на попечение слуг, воздавая ему должное лишь вечером, и стала уходить за пределы цитадели, к реке, которая все больше наполнялась водами, готовая вот-вот выйти из берегов. Два воина охраняли жрицу, двигаясь за ней на расстоянии. Но Цураам не думала о них. Она никого из людей не замечала, оставаясь все такой же задумчивой и радуясь лишь просыпающейся природе.
Персауха начала беспокоить перемена в жене. Не спуская ему ни в одном слове раньше, она теперь будто и не слышала ничего. Сколько раз Персаух замолкал на полуслове, ожидая возражения или хотя бы привычного молчаливого упрека, но так и уходил, не договорив и не дождавшись ответа.
Все прояснилось накануне великого праздника равноденствия, когда в покои Цураам вбежала взволнованная служанка.
– Жрица, Акуту рожает, – тихо промолвила она; только в выражении ее глаз можно было прочитать тревогу.
Цураам подскочила. Ее сухонькое личико сморщилось от напряжения. Уши, ставшие розовыми на фоне отблесков огня, как никогда походили на капюшон кобры.
– Рано… рано дитя на свет попросилось, – промолвила Цураам, вторя своим думам. – Но на то воля богов! Иди, – приказала служанке, – скажи там, чтобы готовили ягненка и костер для жертвы. Я воскурю травы в честь Иштар и приду.
Когда ароматный дым от зажженных трав заполнил комнату и струйкой пополз к узкому проему под потолком, жрица, затянула песнь Богине Плодородия:
Милосердная царица,
Мать всех земель,
Великая целительница древнего племени,
В твоих руках судьбы женщин,
Как судьба первенца невинной девы…[36]
Закончив, она накинула конас и поспешила в дом охотника.
Но милосердная царица не снизошла до Акуту. Или мало ей было аромата трав, и жаждала она крови жертвенного ягненка, или веселилась богиня среди себе подобных аннунаков[37], не обращая внимания на мольбы людей, но бедная калека кричала всю ночь до первой зари. Как только солнце взошло над пустыней, великий Шамаш внял мольбе жрицы и послал Шартум облегчение. Мучительные схватки, отнявшие у нее все силы, закончились так же внезапно, как и начались. Шартум повисла на руках женщин, державших ее под локти, и в руки жрицы из разверзшегося лона выпал младенец.
– Девочка! – сообщила Цураам, приняв ребенка. – Царица!
Женщины переглянулись, услышав последнее. Никто из беременных женщин племени не удостаивался такого внимания, как Акуту, которая сейчас безвольно висела на руках соплеменниц. Меж собой все шушукались, строя всякие предположения, но сейчас в словах жрицы, которую почитали, как пророчицу, прозвучало то, что еще больше озадачило. Девочка никак не походила на ребенка с великим будущим. Родившись на два месяца раньше срока, она даже не кричала, только беспорядочно водила тоненькими ручонками с невероятно большими для них ладонями и вращала огромными темно-синими, затуманенными, как у всех новорожденных, глазками.
Цураам окунула ребенка в чан с водой. Маленькое личико девочки съежилось, она зажмурилась, натужилась, и, наконец, в комнате раздался ее крик. Шартум, которую уложили на возвышение, укрытое охапкой шкур, приоткрыла глаза. Если бы кто в это время заглянул в них, то увидел, как грусть и безысходность плещутся в черном омуте расширенных зрачков.
– Дитя… – промолвила она и потянулась к дочке рукой.
– Девочка, – спеленав малютку, жрица поднесла ее к матери.
Цураам не заметила, как в комнату вошли мужчины: Персаух, Парвиз, Абаттум. Жена последнего не так давно тоже освободилась от бремени и подарила мужу еще одного сына.
– Большое будущее у твоей дочери, Шартум, – медленно проговорила жрица. В последнее время этим именем никто не звал жену охотника; улыбка тронула ее губы в благодарность за это. – Она вырастет красивой, как ты, ловкой и смышленой, как отец, – продолжала Цураам, – какое имя ты дашь ей? – вопреки правилам, следуя которым века, новорожденных называли жрицы, спросила Цураам.
Шартум, ласково глядя на дочь, впервые пригубившую грудь, тихо сказала:
– Камиум.
– Да будет так! Небесная… достойное имя!
Цураам закрыла глаза. Перед ее взором предстал молодой мужчина – уже прошедший пору взросления, красивый, с аккуратной бородкой и пышными черными кудрями, лежащими на широких плечах. Юноша стоял склоненным перед прекрасной девушкой, одетой в расшитое сложным цветным орнаментом полотняное платье. Ее грудь покрывало богатое ожерелье из камней и золота, а в волосах, собранных на затылке в валик, сияло навершие удивительной заколки в виде цветка.
– Цураам, – оклик Персауха размыл видение, и жрица не успела разглядеть тот золотой цветок.
Грудь Цураам поднялась высоко от глубоко вдоха. На выдохе из ее уст вырвались слова пророчества:
– Судьба этой девочки связана с судьбой нашего сына. Они сплетены, как орел и змея на моем амулете…
Сердце Персауха отозвалось болью, но он не стал расспрашивать Цураам, какого сына она имеет в виду, знал, что большего жена не скажет, но сам чувствовал, что речь о том мальчике, которого он давным-давно оставил в Аккаде. Все прошедшие годы Цураам думала о нем. И молчание, в которое она погрузилась зимой, связано с мыслями о младшем сыне. Цураам ждала его и надеялась на встречу. Потому и судьба этой новорожденной девочки так важна для нее.
Парвиз и Абаттум переглянулись, поняв только, что жрице открылась какая-то тайна, связанная с малюткой. Но будущее оставалось вдали, а сейчас Шартум прижимала к себе крохотное тельце дочки и смотрела на нее так, словно прощалась. В лице женщины, казалось, не осталось и кровинки, силы оставляли Шартум, ее рука расслабилась, и ребенок, упустивший сосок, недовольно захныкал. Цураам подхватила едва не упавшую девочку. Парвиз бросился к жене.
– Шартум! – он припал на колени перед ней.
Шартум приоткрыла глаза, в которых витал образ смерти, и потянулась рукой к своему ожерелью.
– Камиум…
Имя дочери стало ее последним словом. Женщины всхлипнули, но жрица цыкнула на них и присела рядом с Парвизом.
– Не горюй, охотник, она прошла свой путь. Ты найдешь себе другую жену. А дочь я отдам Мее, она ее выкормит вместе со своим сыном.
Абаттум склонил голову, соглашаясь со жрицей. Он потянулся к ребенку, но Парвиз, словно очнувшись, опередил его и взял дочку из рук Цураам. Он долго вглядывался в ее маленькое личико, дрожащей ладонью прикоснулся к черной головке.
– Надо завязать платочек, – осторожно водя пальцами по макушке девочки, промолвил он, – у нас так делают. Я хочу, чтобы моя дочь хоть в чем-то унаследовала наши законы.
Цураам согласно кивнула. Тут же ей подали тонкий льняной отрез ткани. Цураам сложила его косынкой и подала Парвизу. Отец положил дочку рядом с уснувшей матерью, взял платочек, приложил его сгибом к лобику, присмотрелся, сдвинул повыше к темечку, завел концы косыночки назад, к шейке, скрестил осторожно, вывел снова ко лбу и завязал над ним узлом.
– Вот так. Так делают наши женщины.
Потом Парвиз поднял дочь и отдал Абаттуму. Тот прижал дитя к себе, словно защищая, и вынес.
– Стой! – закричал ему в след Парвиз.
Он склонился над Шартум, снял ожерелье, которое подарил ей, когда они стали мужем и женой. Охотник стиснул зубы, когда почувствовал тепло от еще неостывшего тела. Он вспомнил, как Шартум с восхищением разглядывала подарок, трепетно прикасаясь к золотым листьям и бирюзовым бусинам между ними.
– Возьми, это дар от матери, она так хотела, – голос Парвиза прозвучал глухо, звукам мешала выскользнуть сдерживаемая боль.
Цураам положила ожерелье на ребенка. Девочка зашевелилась, намереваясь заплакать.
– Иди, иди, – жрица подтолкнула брата усопшей, – ей тепло матери нужно, отдай ее Мее.
Абаттум ушел.
* * *
Шартум похоронили в обыкновенной яме, в стороне от могил, которые за непродолжительное время успели вырасти на такыре неподалеку от стен цитадели.
Обида душила Парвиза. Он никак не хотел соглашаться с обычаями пришельцев, по которым человека, имеющего увечья, нельзя хоронить рядом с воинами или другими достойными членами племени. Дабы не осквернить землю останками Акуту, стенки могилы устлали стеблями прошлогоднего камыша. Ту, смех которой еще совсем недавно звучал над долиной Мургаба, уложили на бок, лицом на закат, чтобы всю свою дальнейшую жизнь в Стране Без Возврата она могла видеть только, как солнце погружается в ночь. Мать Шартум поставила перед дочерью кувшин, в который втайне от всех положила фигурки Иштар и ее божественного мужа Думузи, как символ счастливого брака, в котором так недолго пребывала Шартум. Люди верили в благосклонность богов и молились им за своих близких, отправляя их в дальний путь с подарками.
Вскоре племя покинул и Парвиз. Он ушел, оставив на память дочери бронзовый амулет, который отлил мастер по желанию охотника. В центре круглого амулета умелец племени изобразил тюльпан. Такой же, но живой и алый, как щечки молодой девушки, когда-то пленившей сердце, Парвиз положил на могилу любимой.
Когда Парвиз уходил, ведя в поводу своего коня, камыши, растревоженные ветром, шептали вслед слова напутствия. Была в них тревога, была скорбь, но в шелесте сухих стеблей Парвизу слышался нежный перепев листьев, так напоминающий голос Шартум, ее сладострастный стон и ее последнее слово с недосказанным желанием: «Камиум…»
29
Гула – богиня-целительница.
30
Беру – единица измерения расстояния, приблизительно десять километров.
31
Страна Без Возврата – царство мертвых.
32
Тиамат – первородная богиня, символизирует хаос и тьму.
33
Акуту – искалеченная (акк).
34
Пять беру – около пятидесяти километров.
35
Конас – плащ, сшитый из трех полотнищ: к одному – широкому – пришивались два узких, швы ложились на плечи; плащ подпоясывался ремнем.
36
Песня из собрания гимнов жрицы из Аккада Энхедуанны.
37
Аннунаки – небесные боги.