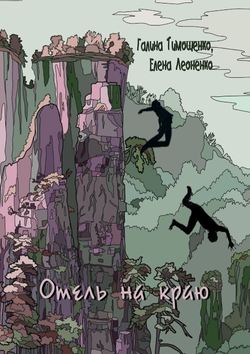Читать книгу Отель на краю - Галина Валентиновна Тимошенко - Страница 2
Оглавление17 июля
…Он, как пьяный из штанов, мучительно выпутывался из своего то ли сна, то ли забытья. Тошнота беспардонно гуляла по всему организму теплыми муторными волнами, а в голове и вовсе бушевал шторм. В какой-то момент ему все-таки удалось открыть глаза, что стоило ему короткого приступа рвоты и долгих сожалений о собственной глупости.
Довольно быстро выяснилось, что глаза вполне можно снова закрыть, поскольку увидеть ничего понятного и полезного они все равно не могут. Во всяком случае, то, что они видели, никак не помогало сообразить, где он находится и почему, и он опять провалился в тошнотворную тьму.
Прошло непонятно сколько времени, прежде чем он предпринял еще одну попытку вернуться в реальность. Предстояло понять, почему вдруг стало настолько жарко. Ему казалось, будто он плавает в луже собственного пота, и когда он, болезненно морщась, снова с великим трудом разодрал веки, у него отчаянно защипало глаза.
Поскольку он пока не готов был рискнуть и повернуть голову, пришлось удовольствоваться рассматриванием дощатого потолка, маячившего, казалось, на высоте многих метров. Потом, приглядевшись, он понял, что потолок действительно расположен странно высоко – раза в два выше человеческого роста. Вид не слишком прилежно оструганных досок почему-то привел его почти в блаженное состояние, хотя ни одной мысли о том, где конкретно находится этот потолок, у него так и не появилось.
Он все смотрел и смотрел на утешительные доски, блаженно прислушиваясь к тому, как постепенно отступает тошнота: притерпеться к литрам пота и головной боли было, как ни удивительно, намного легче.
Наконец он расхрабрился настолько, что рискнул чуть-чуть пошевелиться. Выяснилось, что он все-таки не плавает по поверхности соленого озера, а лежит на чем-то не слишком мягком. Это внушало некие необъяснимые надежды, и он позволил себе чрезвычайно осторожно повернуть голову.
Слева была голая дощатая стена, освещенная так, будто где-то впереди, далеко за его пятками, находилось огромное окно. Тошнота была уже так далеко, что ему вдруг стало страшно любопытно, и он слегка приподнял голову.
Сначала он удивился настолько, что забыл о возможных последствиях слишком резких телодвижений, и попытался рывком вздернуть себя, опершись на локти. Все внутри страшно возмутилось, и его снова вырвало.
Он всегда крайне тяжело переносил тошноту, и даже при самых тяжелых отравлениях предпочитал часами мучиться, только бы не совать два пальца в рот. Сейчас же, видимо, организм подкараулил его в момент полной беспомощности и отыгрался за все предыдущие годы. Почему-то это его несказанно обидело – у него даже глаза налились слезами. Недавние планы рассмотреть предполагаемое окно улетучились, и он с несчастным всхлипом откинулся назад.
На горькую жалость к самому себе, пребывающему в столь бедственном состоянии, ушло не меньше получаса. Потом к любопытству постепенно начала добавляться нарастающая тревога: дощатые стены, дощатый потолок и неодолимая рвота настолько не вязались с его обычной жизнью, что со всем этим явно пора было начинать разбираться.
Жалобно вздохнув напоследок, он снова начал подниматься на локтях, но на этот раз уже куда медленнее и бережнее.
Окна не было. Собственно говоря, там, куда он в конце концов смог посмотреть, не было ничего. То есть даже стены не было.
Теперь даже страх повторения омерзительной рвоты не помешал ему резко сесть, хотя, судя по ощущениям, это было последнее доступное ему в жизни усилие.
Более приемлемой картина не стала.
Он сидел на заляпанном рвотой сыром матрасе внутри длинной деревянной коробки без одной стены. В огромном пустом проеме видно было только тусклое от жары небо без единого облачка. На дощатом полу коробки – так же плохо оструганном, как и потолок – не было ничего, кроме матраса и какого-то огромного непрозрачного пакета неподалеку от зияющего пустотой проема.
Он с отчаянным стоном откинулся назад и уже в падении с отвращением сообразил, что сейчас снова угодит спиной в последствия возмущенной жизнедеятельности собственного организма. Сил было явно недостаточно, чтобы удержать самого себя в воздухе, и его снова чуть не стошнило – на сей раз просто от отвращения.
Приземлившись на матрас, он все-таки немного полежал, рассудив, что все уже произошло, и суетиться глупо. Потом скинул ноги на пол и перевалился на четвереньки. Постоял какое-то время, пытаясь сообразить, в каких пределах готов функционировать его организм. Тот особых претензий не предъявил, и он, кряхтя и постанывая, поднялся на ноги.
Сейчас самым главным казалось разобраться с непонятным проемом: ведь куда-то же он ведет, правда?! Поэтому он начал двигаться в сторону отсутствующей стены, почему-то стараясь шагать совершенно бесшумно.
Чем ближе он подбирался своей шпионской поступью к проему, тем короче и неувереннее становились его шаги: до обрыва пола оставалось не больше метра, а впереди так ничего и не было видно, кроме чистого неба. В конце концов он просто остановился, не будучи до конца убежденным в необходимости дальнейшего исследования.
Сердце колотилось, как свихнувшийся от страха маленький зайчонок в крохотной клетке. Почему-то казалось, что впереди – непременно что-то запредельно ужасное. Впрочем, ему почти всегда так казалось, когда будущее оказывалось хоть сколько-нибудь неопределенным.
На всякий случай он снова опустился на четвереньки, не сводя настороженного взгляда с края пола, словно тот мог внезапно провалиться или укоротиться.
Ничего такого с полом не происходило, и он снова начал понемногу – не больше, чем по нескольку сантиметров за шаг – продвигаться вперед. Под конец он уже вообще не двигался – только осторожно все дальше и дальше вытягивал шею, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь за краем пола.
Вдруг он сел на пятки и яростно выругался. Ну что за идиотизм, в конце-то концов?! Человек внушительного положения, с десятком счетов в разных банках, в дизайнерском костюме – пусть и напрочь изгаженном – трясется от страха, ползая по грязному полу, и трусливо тянет шею, как будто впереди его может ждать что-то действительно ужасное…
Он представил себе выражение лица шефа, если бы тот хоть краешком глаза увидел происходящее, и даже зажмурился от непереносимого, мгновенно обжегшего все внутренности стыда. Терпеть этот стыд оказалось решительно невозможно, и он резким рывком выбросил себя в вертикальное положение.
В следующую секунду он со сдавленным щенячьим визгом отпрянул назад, споткнулся о валявшийся под ногами пакет все еще неизвестного назначения и обрушился на пол, как рассыпающийся в падении шкаф.
Практически одновременно с произведенным им шумом откуда-то справа донесся приглушенный жизнерадостный бас:
– О, новый сосед оклемался! Что, брат, за край заглянул? И как тебе там понравилось?
Если бы он мог испугаться еще больше, то наверняка испугался бы. Прелесть ситуации была в том, что дальше пугаться было некуда.
Отвечать он не собирался: сейчас его куда больше занимало то, что он увидел за краем дощатого пола, поэтому он снова встал на четвереньки и двинулся в ту сторону, постукивая худыми коленками по полу.
Справа продолжали забавляться:
– Все ясно, гребешь на четвереньках, чтобы не сдуло. Ладно, не отвлекайся, греби, просто слушай. Знаешь, старших слушать надо, мы тебе много чего можем рассказать, хоть кости зря стирать не будешь. Эй! Или ты вообще не парень?
Слова доносились до него будто из бочки – то ли из-за расстояния, то ли из-за грохота сердцебиения в ушах.
Он лег на живот и подполз к самому краю, свесив голову вниз. Во влажных от пота волосах гулял горячий ветер, и от этого было еще страшнее: казалось, чуть более сильный порыв запросто скинет его вниз, и он будет лететь – десять метров, сто, двести, триста… На какой вообще высоте находится эта чертова деревянная коробка?!
Коробка, судя по всему, на половину своей длины опиралась на отвесную скалу, а оставшимися двумя-тремя метрами нависала над бурной рекой, которая неслась так далеко внизу, что сюда, наверх, не доносилось даже намека на ее шум. За рекой возвышалась такая же отвесная скала – почти лысая, лишь кое-где щетинящаяся деревьями.
Теперь голос справа стал чуть громче:
– Ну что, пацан, налюбовался? Шикарный вид, правда?
Он скосил глаза направо, изо всех сил стараясь, чтобы это осталось незамеченным для обладателя хрипловатого насмешливого баса, но тот расхохотался:
– Да ладно, не косись, поверни башку-то!
Понимая, что сохранить достоинство уже не удалось, он открыто посмотрел направо, но ничего не увидел.
– Сильней крути, так не увидишь, – посоветовал бас.
Он обреченно вздохнул и вывернул шею, насколько смог.
От концов досок, образовывавших правую стену его нынешнего обиталища, вправо метра на полтора вдоль обрыва тянулась какая-то фанерная загородка. Там, где она заканчивалась, из-за нее наполовину высовывалась лохматая русая голова.
– Ну наконец-то, дождались, – насмешливо хмыкнула голова. – Ты все-таки мужик – и то хлеб. А то я уж перепугался, что у нас тут бабцовский клуб собирается.
Какое-то время он боролся со своим взбунтовавшимся самолюбием, потом вдруг севшим петушиным голосом спросил:
– Я вообще где?
– Знаешь, друг, одно могу сказать тебе точно: ты примерно там же, где и я. Только не спрашивай, где я, хорошо?
– А как мы здесь оказались? – совсем уж жалобно поинтересовался он.
– Нет уж, это ты мне скажи, как ты здесь оказался. Может, тогда и мне понятнее будет, как здесь оказался я. Кстати, можешь звать меня Фермер. Меня тут все так зовут. Ну, то есть все, кто разговаривает, – не слишком понятно уточнила голова.
– Я Игорь Александрович, – пробурчал он, чувствуя, что шея отказывается продолжать светскую беседу в таком катастрофически неудобном положении.
В этот момент совсем издалека – на этот раз слева – донесся высокий мужской голос с откровенно издевательскими нотками:
– Нет уж, дорогой новобранец, «Александрович» – это слишком долго, орать замучишься. У нас тут все запросто: тот плохо воспитанный лохматый господин через два барака от меня – Фермер, я, уж извините, Эйнштейн. Прошу без выводов о моей мании величия, это не я придумал. Просто нашему уважаемому Фермеру покоя не дает мое профессорство.
Пока он пытался уговорить шею потерпеть еще немного, снова вступил Фермер:
– Знаешь, новичок, он хоть и Эйнштейн, а не понимает, что мы когда-нибудь отсюда выберемся. А я, скажем, вовсе не хочу, чтобы кто-то из вас меня потом вычислил. Зачем кому-то знать, что такой-то на высоте триста метров над уровнем моря в своей рвоте и моче валялся? Так что не выпендривайся, просто скажи, кем работаешь, мы сами сочиним, как тебя звать.
Доводы Фермера звучали весьма убедительно, и он с сердитой досадой сообщил:
– Я советник!
– Ух ты! – изумился Фермер. – И чей ты советник? Президента?
– Хозяина компании! – раздраженно прокричал он и в следующую же секунду пожалел о своей неосторожности, потому что Фермер тут же заорал:
– Я понял, ты – холуй!
– Да пошли вы в задницу! – обозлился он, втянул голову внутрь своей коробки и с бесконечным облегчением уткнулся лбом в пол.
– Слышь, Эйнштейн, он нас даже в задницу на «вы» посылает! Эй, Холуй, ты не обижайся, я ж не со зла, просто слово хорошее. Старое… – и Фермер даже причмокнул мечтательно.
– И, судя по реакции нашего советника, точное, – внес свою лепту Эйнштейн.
…На борьбу с разъяренным самолюбием у него ушло не меньше часа. Все это время Фермер с Эйнштейном продолжали перекрикиваться, но он в их разговор не вслушивался.
Ему казалось немного странным, что слово «холуй» ухитрилось перекрыть своей омерзительностью весь ужас и непонятность его нынешнего положения. Наверное, дело было в том, что это слово вернуло его на месяц назад, когда он тонул в безнадежности и обиде: за что? почему именно сейчас?! и что со всем этим делать дальше?!.. А теперь эти две безнадежности радостно сложились воедино – или даже умножились друг на друга, – и с тем, что получилось в результате, жить оказалось еще невозможнее, чем после последнего разговора с шефом.
Впрочем, разговором это трудно было назвать: просто шеф (как всегда, на бегу) бросил, что наконец-то нашел себе нового помощника. Пару последних недель, правда, в воздухе витала некая обрывочная информация, но он-то надеялся, что верить ей глупо: целых десять лет шеф и думать не желал о лучшем помощнике, так с чего бы теперь?..
Выяснилось, есть с чего. Правда, ему, Игорю, никто ничего так и не объяснил. И когда он через пару часов сделал попытку поговорить с шефом, тот несказанно удивился:
– А ты разве не знал?! Мне казалось, все знают… Зайдешь в кадры, я им сказал, они тебе предложат какой-нибудь шоколадный вариант.
Дальше этого разговор не пошел.
Все, с кем он начинал говорить на эту тему, досадливо морщились, вспоминали о каких-то совершенно неотложных делах и стремительно исчезали. Только один из многочисленных замов шефа раздраженно рявкнул:
– Да будь ты наконец мужиком! Ходишь, ноешь… У тебя компенсация будет – как два моих годовых оклада! Неужто не найдешь, чем заняться?!
В том-то и было дело, что он не хотел искать, чем заняться. Он уже привык заниматься всем, что нужно было шефу – мужику в целом порядочному, умному, мощному… Нельзя сказать, что избавлять кого-то от всех повседневных забот было мечтой Игоря с детского сада, но за десять лет он привык, научился быть незаметно незаменимым и начал находить в этом своеобразную прелесть. Ему было приятно чувствовать себя самым близким человеком для одного из лидеров медиа-бизнеса страны, нравилось быть рядом, за спиной, под рукой… В глубине души он считал шефа своим другом и надеялся, что тот представляет себе ситуацию примерно так же.
Нравилось ему даже то, что изобилие разнообразных обязанностей не оставляет почти никаких возможностей для какой бы то ни было другой жизни – за исключением кратких и необременительных сексуальных приключений. Своим временным подругам он никогда о своей работе не рассказывал: они и так постоянно сталкивались с тем, что его в любое время суток могут выдернуть на работу, и потому считали его кем-то средним между контрразведчиком и нейрохирургом.
Искать новую работу – а точнее, нового шефа – было бы для него сейчас примерно тем же самым, что срочно искать новую (причем обязательно страстно любимую!) жену сразу после того, как умерла предыдущая.
А дальше началось то, что началось. Он пил, потом по нескольку часов яростно тренировался в спортзале, потом снова пил, снова тренировался… Однажды даже решил было подраться, но, как всегда, струсил.
Через пару недель он пошел к психологу и сказал, что не хочет жить. Тот переполошился и тут же определил его в какую-то мутную группу неудачников, где у каждого (кроме самого Игоря) за плечами была как минимум одна попытка покончить с собой. Общаться с ними было решительно невыносимо: все они постоянно давали ему понять, что его беды – просто укусы комаров по сравнению с их несчастьями.
А потом…
Собственно говоря, что именно было потом, он как раз пока не понимал. Во всяком случае, никакого вразумительного объяснения своему нынешнему пребыванию в дощатой коробке, висящей над пропастью в окружении неведомого числа других таких же коробок, у него не было. Более того, он даже и не пытался такое объяснение искать: ему заранее казалось, что объяснения нет и быть не может. И сама мысль об отсутствии здравых причин происходящего доставляла ему некое странное удовольствие.
…Снаружи донеслось дружелюбное:
– Ау, Холуйчик, голос подай! Слышь? Мы тут, между прочим, волнуемся!
Он оторвал лоб от пола и представил себе, как жутко сейчас этот бедный лоб выглядит: багровый, с отпечатавшимися полосами, грязный… Никакого желания демонстрировать себя миру ни у него, ни у лба не имелось, но Фермер не унимался:
– Ты там обиделся, что ли? Не обижайся, я ж беззлобный… Правда ведь слово хорошее, неужели сам не слышишь? Ну не хочешь Холуем быть – я какое-нибудь другое слово найду.
Получалось, что как раз холуем он быть и хочет. Только вот беда – его в холуях видеть не хотят…
Вставать совершенно не хотелось, и он подтянул себя к краю пола. Высунул голову и хмуро ответил:
– Да какая теперь разница, зовите, как хотите. Эйнштейн, Холуй и Фермер – дивная компания…
Отозвался, как и следовало ожидать, снова Фермер:
– Ты не поверишь, но наша компания несколько больше. Представляешь, тут еще Скрипачка и Мамаша имеются!
– А почему они молчат? – без особого интереса отозвался Холуй.
– Да нет, Мамаша не молчит… То есть сейчас-то она как раз молчит, а вообще иногда разговаривает, – разъяснил Фермер.
Слева, со стороны Эйнштейна, раздался сдавленный выкрик:
– Сволочь ты все-таки, Фермер!
В ответ Фермер умудрился завопить с неожиданной в его устах виновато-утешительной интонацией:
– Все, солнышко, прости, не буду больше… Ну сама скажи, как тебя называть, чтобы ты не злилась, а?
– Вообще обо мне не говори, понял?! – истерический вопль слева оборвался в мучительное хриплое рыдание.
Окончательно растерявшийся Холуй кинул вопросительный взгляд направо и увидел, что Фермер с заговорщическим видом машет ему рукой: дескать, придвинься поближе.
Холуй подполз вплотную к правой стене и, опасливо поглядывая вниз, слегка выдвинулся наружу, чтобы была возможность больше податься вправо. Он даже попытался было для надежности ухватиться рукой снаружи за обрез доски, но не получилось: срез был обшит чем-то вроде фанеры, тянувшейся направо до того самого места, откуда торчала голова Фермера.
Безнадежно поерзав пятерней по неухватистой фанере, Холуй на всякий случай отполз на пару сантиметров назад, подальше от края, и замер в неудобной позе, вывернув голову правым ухом в сторону Фермера. Тот, до сего момента нетерпеливо ожидавший завершения этих маневров, поспешно зашипел, пытаясь умерить громкость своего баса до недоступного Мамаше уровня:
– Она, бедолага, собственных детей угробила, представляешь?!
Холуй несколько невпопад осведомился:
– Слушай, а как вы здесь… скажем так, отправляете свои физиологические потребности?
От неожиданности Фермер застыл на некоторое время с распростертым ртом, а потом заорал, воздев очи к небу:
– Эйнштейн, ты часом не знаешь, как мы здесь свои физиологические потребности отправляем? Тут Холуй интересуется!
Не дождавшись ответа, он снова насмешливо уставился на Холуя:
– Мне вот интересно, ты у нас такой интеллигентный или такой стеснительный?
– Стеснительность – высшая форма гордыни, как известно, – донесся слева комментарий Эйнштейна.
Фермер снова закатил глаза и посоветовал:
– Можешь прямо с края вниз пѝсать, а можешь пошарить у себя в отсеке. По крайней мере, у нас с Эйнштейном для этого дела есть специальные баки.
– А где вы их взяли? – удивился Холуй, чем вызвал у Фермера новый приступ веселья. Когда приступ прошел, Фермер с видимым удовольствием растолковал:
– Не поверишь, друг – мы их нашли. Вот просто так взяли и нашли. Вдруг и ты найдешь?
Холуй торопливо отполз от края, поднялся и зашарил глазами по отсеку.
В дальнем углу, прямо напротив матраса, обнаружилась круглая металлическая крышка с ручкой, и он с внутренними содроганиями взялся за ручку.
Под сдвинутой в сторону тяжелой крышкой находился довольно ржавый бак не меньше метра глубиной. Верхним краем бак почти утыкался снизу в доски пола отсека, но сквозь крохотную щелку между краем и досками просачивались жалкие крохи света. Впрочем, внимание на это Холуй смог обратить только тогда, когда использовал бак по назначению. Ему было даже удивительно, сколько жидкости еще оставалось в его теле – после многократной-то рвоты и долгого изнурительного потения.
Сначала он рассматривал место стыка бака с досками стоя, потом, преодолев отвращение, опустился над баком на колени, потом лег и опустил голову внутрь, чтобы было виднее.
Оказалось, что сквозь щелочку невозможно разглядеть, что находится вокруг бака – то есть под полом отсека, – но просачивающийся свет и так давал важную информацию: сам отсек поднят над землей минимум на высоту бака. Пока было неясно, что дает эта информация, но Холуй, тем не менее, впервые с момента своего тяжкого пробуждения испытал нечто похожее на упоительный восторг. Он резво вскочил на ноги и снова метнулся к отсутствующей стене отсека.
– Фермер! Ты меня слышишь? Эй, Фермер! – отчаянно завопил он.
На этот раз Фермер не спешил высовывать голову из своего отсека, и Холуй решил заранее приготовиться к предстоящему общению: подполз к краю и высунулся наружу уже знакомым, но по-прежнему крайне неудобным образом.
Наконец голова Фермера вошла в зону видимости, и Холуй с удивлением отметил, что лицо того слегка покраснело и как-то расслабилось.
– Чего ты так орешь? – раздраженно осведомился Фермер. – В бак струей не попал, что ли?
– Слушай, так там под полом пусто! – возбужденно поделился результатами своих исследований Холуй.
– И что?
– Значит, туда можно вылезти! Вперед нельзя, а туда можно!
– Да ты что? Правда можно? А дно бака ты зубами будешь прогрызать?
Холуй несколько сник, но все еще не желал отказаться от собственной восторженной надежды:
– Так его, наверное, сдвинуть можно. Он же не может быть приклеен!
Из-за спины Холуя раздался лениво-насмешливый голос Эйнштейна:
– Я, конечно, понимаю, чему наш уважаемый Холуй так радуется. Я даже сам готов обрадоваться тому, что он несколько умнее, чем казалось сначала. Но видишь ли, мой новый друг, мы тут тоже не страдаем острой интеллектуальной недостаточностью и эту возможность давным-давно проверили. Баки привинчены двумя болтами и никуда не сдвигаются.
Фермер молча скрылся в своем отсеке, словно передав Холуя на попечение Эйнштейна. Холую пришлось переползать к другой стене отсека и снова, глупо изогнувшись, высовываться наружу до того предела, который была способна перенести его нервная система, и без того вконец измученная последними впечатлениями.
– То есть вы все здесь уже давно? – прерывающимся от нахлынувшего страха голосом спросил он.
Эйнштейна видно не было, но судя по тому, что голос его был слышен достаточно явственно, он сидел у ближней к Холую стены своего отсека и вполне готов был участвовать в разговоре.
– Насколько я понимаю, сегодня пятый день.
Холую показалось, что жить дальше не имеет никакого смысла.
– И вы даже не пытались выбраться? – недоверчиво уточнил он.
– Скажем так: мы пытались найти способ это сделать. Пока ни у кого не получилось. Точнее, у одного получилось, но… В общем, больше никому этот способ не понравился.
– А что это был за способ?
– Спрыгнул, – невозмутимо сообщил Эйнштейн. – Пришел в себя, потоптался по камере и спрыгнул. Кстати, он в твоем отсеке был.
– А почему… он спрыгнул?
– Слушай, не будь идиотом, – устало посоветовал Эйнштейн. – Он же здесь не просто так оказался, правда?
На этот раз Холую потребовалось куда больше времени, чтобы прийти в себя и сформулировать следующий вопрос. Наконец он рискнул:
– То есть вы знаете, почему мы все здесь оказались?
– А ты ко мне на «вы» обращаешься, потому что меня Фермер Эйнштейном прозвал? – внезапно развеселился Эйнштейн. – Тебе не кажется, что в нашем положении такая вежливость выглядит глуповато?
Холуй счел за лучшее промолчать.
– У меня есть, разумеется, свои предположения, только я их пока проверяю. Да и какая тебе разница, что я на сей счет думаю? Важно, что думает об этом тот, кто нас сюда определил, а этого мы как раз-таки и не знаем. И боюсь, вряд ли узнаем.
– Думаете… думаешь, мы отсюда не выберемся? – уже не беспокоясь о том, насколько жалобно и испуганно звучит его голос, спросил Холуй.
– Думаю, не все так уж хотят отсюда выбираться, – непонятно заявил Эйнштейн.
– Но так же нельзя! – воскликнул Холуй, извиваясь на месте от возмущения. – Нужно ведь что-то делать!
– Ну да, мы тоже так бесились в первое время…
Вдруг Холуя осенило:
– Может, это просто от голода? У вас силы кончились, вот вы…
– От какого голода, помилуй?! Ты вообще по сторонам-то смотрел? – усмехнулся Эйнштейн. – Так отстань от меня и посмотри.
Холуй обиженно хмыкнул и втянул себя в отсек.
Действительно, валяется какой-то пакет. До сих пор это казалось не таким уж важным по сравнению со всем остальным – разве что споткнуться об него пришлось, когда он в первый раз увидел обрыв за краем.
Он обошел вокруг непрозрачного пакета, словно тот был взрывным устройством, которое ни в коем случае нельзя трогать, а вместо этого нужно немедленно известить соответствующие службы, а они уже пришлют специально обученных людей, чтобы это взрывное устройство обезвредить.
Формы пакет был непонятной, да и размером заметно превышал все те пакеты, с которыми Холуй бывал прежде знакóм. Это доверия не внушало. С другой стороны, у Эйнштейна вроде бы не могло быть никаких особых мотивов послать нового соседа на верную смерть…
Уговаривание самого себя потребовало много времени, но в конце концов Холуй все-таки рискнул и присел на корточки рядом с пугающим пакетом. С великой осторожностью приподнял одну из ручек и опасливо заглянул внутрь.
Внутри лежала двухлитровая бутылка с водой (во всяком случае, так гласила наклеенная на нее заводская этикетка), буханка черного хлеба, пара огурцов, пара помидоров, несколько картофелин, четыре яйца, большая пачка печенья и вакуумная упаковка нарезанной колбасы. Наверное, там было что-то еще, но с первого взгляда рассмотреть, что именно, Холуй не смог.
Внезапно ему пришла в голову страшная мысль, и он снова метнулся к краю пола.
– Эйнштейн! Ау! – тревожно позвал он.
– Ну? – не сразу откликнулся сосед слева.
– Выгляни.
– Зачем?
– Ну выгляни! – взмолился Холуй.
– Лень вставать. Так говори, – бесстрастно проговорил Эйнштейн. Видимо, он отодвинулся от края своего отсека, потому что голос его теперь звучал совсем уж тихо.
Совсем плохо. Значит, даже если не кричать, все равно другие обитатели отсеков услышат. Во всяком случае, Фермер услышит точно – и вряд ли промолчит. Или все-таки промолчит?
Какое-то время Холуй терзался сомнениями, но в конце концов решился и, стараясь произносить слова не слишком внятно, проговорил:
– А туалетной бумаги здесь не выдают? – и замер, с ужасом ожидая реакции Фермера.
Однако отреагировал только Эйнштейн – причем все так же равнодушно:
– Видимо, считают, что мы перебьемся.
– И как же?.. – совсем уж упавшим голосом произнес Холуй, никак не готовый поверить в окончательность такого ответа.
– Да запросто. Ты поройся в пакете. В первый день у меня, например, соль была в бумажку завернута. Потом как-то хозяин даже на пару салфеток расщедрился.
– Хозяин? Значит, он один?
Эйнштейну явно надоело разговаривать, и он коротко бросил:
– Понятия не имею. Отстань.
Холуй обреченно вздохнул и снова полез в пакет. Там под бутылкой воды и в самом деле обнаружился небольшой бумажный сверточек с солью.
Ну допустим, на один раз этой бумаги хватит. Правда, возникнет другая проблема: куда в этом случае девать соль? Но с этим справиться вполне можно, если быстро съесть колбасу.
Стоп. Если съесть ее быстро, то что есть потом? Как часто вообще обновляются запасы продовольствия?
Полный идиотизм. О чем он думает?! Он что, всерьез пытается приспособиться к этим безумным, невесть кем придуманным условиям? Собирается здесь жить? Нет, это невозможно. Нужно как-то докричаться до создателя этого дикого аттракциона и добиться…
Ну да, конечно. Чего добиться-то? Немедленного освобождения?! Можно подумать, за пять дней ни Эйнштейн, ни Фермер, ни дамы их странные не пробовали докричаться и добиться.
А может, и правда не пробовали? Спросить, что ли? Эйнштейн, судя по всему, пока к взаимодействию не расположен, так что остается Фермер. Кстати, почему он так долго молчит?
Холуй осторожно позвал:
– Фермер… Ты не спишь?
Тишина.
– Спишь? – повысил голос Холуй.
Неожиданно снова заговорил Эйнштейн:
– Зря стараешься. Скорее всего, он опять нажрался и спит.
– Нажрался? – растерялся Холуй. – Чего нажрался?
– Водки. Может, самогона, точно не знаю. Вряд ли ему коньяк или виски выдают.
– То есть Фермер здесь как бы на особом положении? – несколько даже обиделся Холуй.
– Мне по его разговорам показалось, что он просто-напросто алкоголик. Может, потому ему и выдают, как ты изящно выразился, спиртное.
– То есть от ломки берегут? Добрые… – брезгливо скривился Холуй.
– Это вряд ли. Думается, тут дело в другом.
Почему-то по тону Эйнштейна Холуй отчетливо понял, что разговор о Фермере закончен, и дальнейшие расспросы в любом случае останутся без ответов. Можно было приступать к наиболее животрепещущим темам.
– Скажи, а как часто здесь еду выдают? – осторожно поинтересовался он.
– Знал бы ты, как мне надоело обсуждать твои физиологические потребности, – высокомерно отозвался Эйнштейн и прочно умолк.
Холуй немного подождал, потом на всякий случай жалобно уточнил:
– То есть к тебе больше не приставать?
Выслушав три минуты молчания в ответ, он тяжело вздохнул и снова безнадежно уставился на продукты, беспорядочно сваленные на полу.
Вдруг со стороны Эйнштейна, но намного ближе и явственнее прозвучало:
– Все-таки, Эйнштейн, гады вы с Фермером. Забыли себя в первый день? Я-то как раз помню.
Мамаша говорила хрипловатым, словно бы сорванным, бесстрастным голосом, и отсутствие в нем каких бы то ни было интонаций странным образом противоречило жесткости ее слов.
– Что ты хочешь знать? Я расскажу.
Холуй воспылал бурной благодарностью к Мамаше за то, что она предпочла обойтись без использования его нового имени – хотя до сего момента ему казалось, что он как-то очень легко принял обидное прозвище и даже внутренне согласился с ним. Правда, именно сейчас, когда он наконец-то получил более или менее свободный доступ к вожделенной информации, его внезапно страшно заинтересовало, что же имел в виду Фермер, когда назвал Мамашу убийцей собственных детей. Ему стоило больших усилий усмирять свое любопытство, но он справился и задал вполне невинный вопрос:
– Правильно я понял, что вы здесь дольше них обоих?
– Да.
Холуй не сразу догадался, что Мамаша не намерена разворачивать свой ответ. Когда же до него это дошло, он понял, что стратегия расспросов подлежит серьезному пересмотру, поэтому до следующего вопроса прошло довольно много времени.
– Кто здесь есть еще?
Он сам плохо понимал, зачем ему это знать, но этот вопрос, во всяком случае, не предполагал односложного ответа – авось Мамаша расщедрится и сама сообщит что-нибудь полезное.
– Только Скрипачка, но она уже третий день молчит. Сначала говорила, а когда мужик из твоего отсека спрыгнул, замолчала.
Холую очень не нравилась тема судьбы предыдущего обитателя его отсека, и он торопливо спросил:
– А почему она Скрипачка? Эйнштейн, как я понял, ученый, Фермер, видимо, фермер…
Тут он сообразил, что продолжение перечисления с мрачной неизбежностью выводит на происхождение прозвища «Мамаша», и замолчал, плохо понимая, как теперь выкручиваться. Однако Мамаша все так же бесстрастно ответила:
– Она в первый день все время рыдала и кричала. Делать нам было нечего, поэтому мы ее слушали. Она действительно скрипачка, но у нее обнаружили рассеянный склероз, и года через два-три года играть она больше не сможет.
Холуй без особого любопытства осведомился:
– А чего было рыдать-то? Получается, еще целых два или даже три года сможет играть.
– Думаешь, на том берегу реки каждое воскресенье будет собираться публика?
Наверное, в устах любого другого человека эта фраза прозвучала бы иронически, саркастически или вовсе издевательски, но произнесенная совершенно ровным безжизненным голосом Мамаши, она не показалась Холую даже насмешливой.
– По-моему, ей лет тридцать, не больше, и она всю жизнь только и делала, что играла на скрипке. Как еще она могла все это воспринять?
Ради сохранения имиджа не полного идиота Холуй снова решил сменить тему:
– А как вы думаете, почему… Ну в общем, почему именно мы?..
– У нас со Скрипачкой довольно много общего, – в первый раз в Мамашином голосе появился хоть какой-то намек на эмоции. – Судя по всему, твой предшественник – в ту же корзину. Почему здесь алкаш Фермер и Эйнштейн – понятия не имею.
Внезапно Холуя как ледяным водопадом накрыло.
– Послушайте, а с кем вы разговаривали перед тем, как сюда попали? Ну, кого последнего вы помните?
– Отца, – все так же бесстрастно сообщила Мамаша. – Ты особо не надейся, мы здесь это уже сто раз пережевывали. От отца я шла ночью по парку, а потом пришла в себя здесь. Фермер где-то напивался и вообще ничего не помнит. Скрипачка была в истерике и ни на какие вопросы вразумительно не отвечала, даже пока говорила.
– А Эйнштейн? – с нескрываемой надеждой поинтересовался Холуй.
– А Эйнштейн все это выслушал и вообще ничего говорить не стал. Он у нас капризный. А ты что – помнишь что-то важное?
Тут Холуй почему-то начал осторожничать и уклончиво пробормотал:
– Я подумаю, может, что и вспомню. Сейчас пока все неясно.
Возможно, Мамаша его вообще не услышала, но настаивать на получении ответа не стала:
– Во всяком случае, тот, кого мы видим, все время один, и никто из наших его не знает. Хотя на таком расстоянии видно плохо.
– Вы видели того, кто все это устроил?! – остолбенел Холуй. – И вы молчите?! Почему же вы мне ничего не сказали?
– А кто тебе это сказал, если не я?
Холуй, боясь разозлить единственный доступный источник информации, поспешно покаялся:
– Извините, я просто очень удивился. А где вы его видите? Когда он еду приносит?
– Нет, еду он вбрасывает каждый день под утро с крыш отсеков.
– А нас? Нас он тоже с крыш вбрасывал?
Так и не изменив своей безразличной интонации, Мамаша ответила и на это:
– Вряд ли. В другом конце отсека есть дверь. Только она закрыта снаружи.
Холуй спохватился:
– Я забыл спросить: а где вы его видели? В смысле – того, кто…
– Слева, – кратко ответствовала Мамаша и без всякого предупреждения вывалилась из разговора.
Убедившись, что больше ничего полезного он пока не услышит, Холуй решил все-таки поесть и продолжить исследование своего нового обиталища.
Как только выяснилось, что никакой необходимости экономить продукты нет, он сразу же ощутил неуемный голод и начал поглощать все, что находилось в пакете. Мгновенно уничтожил целую упаковку колбасы, со смачным хрустом заедая огурцами сочащиеся не слишком аппетитным жиром ломтики. С блаженными стонами выхлебал почти треть двухлитровой бутылки воды. Оторвал здоровенный кусок хлебной буханки и потянулся за яйцами, сомневаясь только в том, насколько удобно будет их чистить жирными от колбасы пальцами.
В этот момент его раблезианская трапеза была прервана издевательским криком Эйнштейна:
– Привет тебе, экспериментатор!
Холуй вздрогнул и выронил-таки из скользких пальцев яйцо, с хрустом шлепнувшееся на пол.
– Предлагаю договор: я задаю тебе вопросы, а ты запихиваешь ответы завтра в пакет с едой! Согласен? – не унимался Эйнштейн.
Холуй вскочил, по пути поскользнувшись на попавшемся под ноги яйце, и рванул к краю отсека.
Оказывается, скала за Эйнштейновым отсеком круто изгибалась вправо и образовывала своего рода мыс, нависающий над поворотом реки внизу. Когда Холуй бросал первый взгляд на открывающийся из отсека вид, ему было отнюдь не до исследования окрестностей. Но сейчас он все равно удивлялся, что смог не заметить такой бросающейся в глаза детали ландшафта.
На самой оконечности скального выступа неподвижно стоял человек, которому предназначалась страстная речь Эйнштейна – до сего момента Холуй даже не подозревал, что тот способен на подобные бурные проявления.
– Рожу твою я разглядеть не могу, прости, но ты хоть кивни, если согласен! – продолжал неистовствовать ученый.
Наступила тишина. Холуй был уверен, что и Мамаша, и неведомая Скрипачка так же напряженно, как он сам, сейчас вглядываются в полускрытую тенью росших на обрыве деревьев фигуру. Видимо, Фермер еще не успел протрезветь, иначе наверняка бы поучаствовал в этом одностороннем разговоре, но остальные наверняка изо всех сил надеются на тот самый кивок, которого требовал Эйнштейн.
Кивка все не было, поэтому Эйнштейн продолжал орать:
– Я все равно спрошу! Тебе-то зачем это надо, ну скажи?! Ты ведь даже за нами не наблюдаешь! Зачем? Ну зачем?!
Фигура слегка качнулась, повернулась и, заметно прихрамывая, быстро скрылась за деревьями: видимо, там скала резко уходила вниз. И в тот момент, когда фигура начала двигаться, у Холуя в голове вдруг всплыло…
Шесть лет назад
…Мишанин шагал по поселку, как всегда, с тихим удовольствием рассматривая с детства знакомые домики. Шум здешних сосен он тоже любил с детства и даже иногда в безветренные дни слегка злился на погоду, не предусмотревшую на этот день ветра и лишившую его, Мишанина, привычного шепота сосновых веток.
Сегодня ветер, по счастью, дул, и дул довольно сильно, поэтому Мишанин наслаждался ощущением собственной полной гармонии с реальностью.
Поселок расположился здесь, в тридцати километрах от города, в самом конце восьмидесятых годов прошлого века. Застой еще не совсем закончился, перестройка не совсем началась – здесь, на Урале, все происходило без особой спешки, с привычным суровым достоинством, – поэтому тогдашние партийные и прочие бонзы успели воздвигнуть здесь свои поместья. На фоне смутных событий поместья им удалось отхватить куда бóльшие, чем получилось бы лет на десять раньше, поэтому основательные дома прятались среди сосен довольно далеко от дороги.
Родители Мишанина в советские времена не относились ни к каким бонзам и рассчитывать на домик в этом роскошном месте никак не могли. Зато когда к середине девяностых волна капиталистических событий в полной мере обрушилась и на Урал, у старшего Мишанина вдруг проявилась невесть откуда взявшаяся деловая хватка, а некоторые из прежних хозяев в новых условиях растерялись и не сумели сохранить свои здешние владения. В результате семья Мишаниных в полном составе переселилась из города в леса.
Поначалу идея переезда Мишанину-младшему совсем не понравилась. Школы в поселке тогда, естественно, не было – значит, ему предстояло каждый день по целому часу тратить на дорогу туда и обратно. Конечно, ездил он туда на впервые появившейся в семье машине – салатовом престарелом «мерседесе», все еще исправно ездившем, хотя и со странным натужным призвуком. Потом старичка сменила менее пожилая «тойота», потом – совсем уж новенькая «вольво».
Дальше машины стали меняться с устрашающей скоростью, но к этому моменту Мишанин-младший вполне смирился с новым местом обитания: во-первых, факт успешности отца был им уже усвоен и в дополнительных подтверждениях не нуждался, а во-вторых, проникшие в поселок бизнесмены совместными усилиями построили здесь школу для своих отпрысков.
В новой школе, вопреки изначальному скепсису привыкшего к прежней школе Мишанина, обнаружились вполне симпатичные личности. На вкус Мишанина-младшего, лидировал среди этих личностей Ромик. Ромик был одним из двух сыновей бесспорной гордости Урала – ученого-химика с мировым именем и несметным количеством государственных и прочих премий. На Ромике природа тоже не отдохнула, посему он ухитрялся быть любимцем одновременно и учителей, и немногочисленных (обучение в новой школе было платным и, соответственно, доступным далеко не всем обитателям поселка) одноклассников.
Сперва Мишанин просто восхищенно наблюдал за великолепным Ромиком издали. Не то что бы ему не хватало смелости или самоуверенности, чтобы завести более тесные отношения с лидером класса: скорее его выжидательная позиция определялась какой-то врожденной недоверчивостью к собственным приятным впечатлениям. Ему всегда трудно было поверить, что нечто может быть таким прекрасным, как кажется с первого взгляда. Однако в случае с Ромиком, похоже, изначальное восхищение оказалось более или менее оправданным, и в конце концов они-таки подружились.
Роли между ними распределились очень быстро: если Ромик был мозгом их тандема, то Мишанин, несомненно, волей. Ромик просто фонтанировал идеями самой разной степени реалистичности и столь же разной степени крамольности, а Мишанин с полным своим удовольствием разрабатывал планы их воплощения. Совместными усилиями им удалось создать общество последователей Шерлока Холмса, вынудить уйти из школы дружно ненавидимую всеми географичку и разобрать на довольно мелкие части воздвигнутый одним из новых жителей поселка ветряк. Ветряк, разумеется, был разобран исключительно в исследовательских целях, хотя его бывшего обладателя это отнюдь не утешило. Некоторые другие идеи заканчивались почти таким же сокрушительным успехом, другие бесславно проваливались на корню, но в целом деятельность тандема вызывала завистливый интерес всей школы и постоянную тревогу родителей и учителей.
Ромик довольно рано решил пойти по папиным стопам и навострился поступать на химический факультет Уральского университета. Мишанину на тот момент было более или менее все равно, куда поступать – лишь бы не пришлось копаться во всякой гуманитарщине: ни русский язык, ни литература, ни общественные науки его никогда не интересовали. Поэтому он с удовольствием присоединился к глубинным изысканиям Ромика в области химии. Ясное дело, изыскания эти далеко не всегда обходились без потерь для школьных помещений и прочих объектов, но это вовсе не уменьшало симпатий молодого, бородатого и восторженного учителя химии к паре юных энтузиастов.
В итоге они оба поступили на вожделенный факультет – Ромик с бóльшим успехом, Мишанин – с меньшим, но все равно уверенно. Их обучение протекало вполне предсказуемо: Ромик блистал, Мишанин просто учился, не привлекая к себе особого внимания.
Точно так же предсказуемо по окончании обучения Ромик сразу же поступил в аспирантуру, закончил ее все с тем же блеском и занялся научной работой. Мишанин же, к тому времени четко определившийся с областью своих профессиональных интересов, начал работать в крупной фармацевтической компании и там на удивление быстро пошел в гору. У него неожиданно тоже обнаружилась склонность к исследовательской деятельности, и через пять лет он возглавил департамент доклинических испытаний.
Все это время Мишанин с Ромиком продолжали жить все в том же поселке и быть друг для друга тем же, чем прежде, хотя встречались уже существенно реже. К тому времени сердце старшего Мишанина не выдержало напряжения бизнесменской жизни, а мгновенно состарившаяся мать Мишанина-младшего переселилась обратно в город, поближе к врачам и больницам. Сам же Мишанин категорически не желал уезжать из поселка, тем более что он уже обзавелся женой и даже ребенком.
А потом все пошло не так, как можно было предположить. В автокатастрофе разом погибли родители Ромика, потом его брат уехал работать в Германию, и Ромик остался в огромном доме, вполне соответствовавшем размерам мировой славы его ученого отца, совершенно один: отсутствием женского внимания он никогда не страдал, но к серьезным отношениям расположен не был. Неожиданно выяснилось, что научный талант Ромика отчаянно нуждался в присутствии великого отца, как кактус – в пусть и редком, но поливе. Справедливости ради надо сказать, что никакого участия в развитии ученой карьеры сына отец Ромика не принимал, но без отцовской харизмы Ромик почему-то начал сникать, хиреть и постепенно вянуть.
Именно тогда Мишанин вдруг поймал себя на том, что его стало раздражать детское прозвище друга. Ясно, что для него самого Ромик всегда будет Ромиком и никогда не станет Романом Владиславовичем, но для других-то?! Было решительно непонятно, почему самого Ромика устраивает, что все кругом продолжают обращаться к нему именно так, невзирая ни на какие научные заслуги и статусы.
Почти сенсационно защитив кандидатскую диссертацию в двадцать четыре года, в нынешние тридцать два Ромик все еще оставался кандидатом, и его статьи появлялись в научных журналах все реже и реже.
Мишанин до сих пор не мог взять в толк, почему Ромик так легко смирился со своей внезапно наступившей научной импотенцией. Первое время он еще пытался как-то Ромика растормошить, потом неуместность его попыток стала слишком уж очевидной, и в качестве последней спасательной операции Мишанин вытащил Ромика на берег Камы, в усольское имение Строгановых.
Когда-то давно, еще в детстве, все мишанинское семейство ездило в Усолье, и Мишанин до сих пор помнил свое потрясение: оказывается, тамошние обитатели так привыкли к постоянным наводнениям, что разработали целую систему мероприятий по выживанию в период половодья. Они даже клали на пол в хлеву плот, прикованный длинной цепью к бревнам избяных стен, чтобы во время наводнения плот вместе со скотом выплывал из хлева. Почему-то именно эти плоты сильнее всего запали Мишанину в память: до гениальности простая идея показалась ему величественным символом человеческой жажды жить. Он до сих пор с веселым смущением вспоминал, как таращил готовые заплакать от восторга глаза на кольца, к которым в былые времена прикреплялись эти плоты, и маялся от невозможности высказать чересчур возвышенные соображения на этот счет кому бы то ни было.
Однако поездку в Усолье Ромик пережил так же меланхолично, как принимал все осложнения своей судьбы. Он безразлично взирал на все, что настойчиво показывал ему Мишанин, послушно кивал и поддакивал в ответ на мишанинские страстные монологи и продолжал уныло общаться с собственными бедствиями.
В конце концов Мишанин скрепя сердце оставил друга в покое в надежде, что тому просто нужно время, чтобы освоиться с новыми жизненными реалиями. Однако за пару лет, прошедших с момента судьбоносной автокатастрофы, Ромик так и не обнаружил никакого намерения к этим реалиям приспособиться. Наоборот, со временем молчаливая меланхолия, в которую он обрушился после смерти отца, трансформировалась в склонность к нудным мизантропическим рассуждениям о непредсказуемости и несправедливости всего сущего.
Мишанин испробовал все, что приходило ему в голову: он развлекал Ромика, издевался над ним, орал на него, игнорировал его, ставил ему ультиматумы… Ничего не менялось.
Постепенно Мишанин стал все чаще ловить себя на глухом раздражении на Ромика вместо острого болезненного сочувствия первых месяцев. Он сам стыдился этого раздражения, но поделать с ним ничего не мог. Чтобы не считать себя совсем уж бесчувственным гадом, он начал навещать Ромика чуть ли не каждый день.
Тут выяснилось, как повезло Мишанину с женой: она не только не злилась на мужа за то, что тот куда больше времени проводит с самозабвенно скорбящим другом, чем с семьей. Она сама старалась почаще забегать в опустевший Ромиков дом, приносила ему всякие собственноручно приготовленные вкусности, даже иногда устраивала у него генеральную уборку, чтобы осиротевший ученый окончательно не загнил, не заплесневел и не затерялся в кучах мусора.
Потом Мишанина стало раздражать еще и неуемное сострадание жены к взрослому мужику, твердо решившему маяться до конца своих дней. Он пытался убедить ее, что такое избыточное сочувствие только укрепляет Ромика в сознании собственной бесконечной несчастности, но жена не унималась. Она даже ухитрилась как-то уговорить Ромика заниматься с Мишаниным-самым-младшим математикой и химией – в безопасных, разумеется, пределах.
В конце концов Мишанин махнул рукой и на это, но свои безнадежные визиты к Ромику не прекратил – скорее всего, просто ради самоуважения, нежели ради какого-то другого результата.
Вот и сейчас он отчетливо ощущал, как по мере приближения к Ромикову дому тихое блаженство от соснового ветра и привычно-милых пейзажей постепенно сменяется таким же привычным раздражением. Зачем вообще нужны эти ритуальные визиты? За каким чертом он раз за разом убеждает себя в том, что не сможет смотреть в зеркало, если не предпримет очередную идиотскую попытку помешать человеку наслаждаться собственными страданиями?! Все равно ведь заранее известно, что будет происходить в ближайшие два часа…
Ромика он застанет на диване с бессмысленно раскрытой книгой на коленях, в которую за сегодняшний день не было брошено ни одного взгляда. Он преувеличенно бодро начнет рассказывать Ромику о последних событиях на заводе, стараясь по возможности избежать какого бы то ни было упоминания о собственных успехах. Ромик будет скучно слушать, даже не обременяясь подавать реплики или хотя бы кивать в соответствующих местах. Потом Мишанин сделает вид, что внезапно страшно проголодался, полезет в холодильник, битком набитый стараниями его же собственной жены, сам все разогреет, накроет на стол и будет уговаривать Ромика поесть. Тот поест, немного оттает и начнет в триста восемьдесят шестой раз язвить в собственный адрес, описывать свои мрачные сны и не менее мрачные соображения последних дней. Мишанин будет его переубеждать, подбадривать и провоцировать, Ромик будет сопротивляться… Потом, когда мишанинское раздражение превысит предел переносимости, он обнимет Ромика, похлопает его по плечу, по спине, выдаст традиционный легкий подзатыльник и с облегчением распрощается до следующего раза.
Перед до отвращения знакомой темно-багровой дверью Мишанин потряс головой, нацепил подобающую улыбку и привычным движением широко распахнул дверь.
– Ромик, ау! – как всегда, с порога жизнерадостно заорал он. – Ты, скотина, меня, конечно, не ждешь, но я все равно пришел! Ты где там?
Собственно говоря, Ромик никогда не откликался, пока Мишанин не входил в комнату. Не откликнулся он и сейчас, но почему-то Мишанина это насторожило. Он не смог бы сказать, что именно было не так, но что-то было точно не так.
Продолжая громогласно вещать что-то, долженствующее звучать крайне жизнеутверждающе, Мишанин быстро пошел по коридору, заранее изгибая шею, чтобы в поле его зрения побыстрее оказалось любимое Ромиково место – диван, чуть ли не до пола продавленный еще его отцом в минуты пребывания в научных далях и высях.
Ромик возник в поле мишанинского зрения даже раньше ожидаемого: в дверном проеме появилась его голова, острым подбородком указывающая на потолок. Потом стало видно тощее тело, которое как-то коряво лежало на диване со свалившейся на пол рукой.
Мишанин издал невразумительный тихий рык и метнулся к дивану, не отводя глаз от бумажно-белого Ромикова лица.
Ему с большим трудом удалось разглядеть, что Ромик все-таки дышит. Тогда он изо всех сил затряс безвольно болтавшиеся плечи и заорал что было сил:
– Ромик! Ромик!!! Что с тобой?! Слышишь, Ромик?
Ромик явно не слышал.
Мишанин начал беспомощно озираться вокруг, и его взгляд упал на захламленный разнообразным барахлом журнальный столик перед диваном.
Поверх кип старых научных журналов, грязных тарелок и смятых одноразовых носовых платков валялось несколько пустых блистеров. Мишанин мгновенно узнал упаковки от одного из сильнейших препаратов для снижения давления и яростно чертыхнулся. Ему показалось, что блистеров было очень много – может, двадцать или даже тридцать.
Он остервенело заметался по комнате. Вот же ирония судьбы: человек, всю свою профессиональную жизнь занимающийся производством лекарств – и, оказывается, понятия не имеет, что надо делать в подобных случаях!
Вдруг его осенило, он снова бросился к дивану, схватил Ромика (какое счастье, что этот идиот всегда был таким ледащим!) и потащил его в ванную. Только потом ему пришло в голову, что можно было бы не тратить времени на перемещение Ромика: не та была, в конце концов, ситуация, чтобы заботиться о сохранности и без того обветшавших ковров и давно рассохшегося пола. Но это было потом, а сейчас он тащил Ромика, как мог, не обращая внимания на то, что Ромикова голова то и дело безвольно стукается о попадающиеся по пути стулья и дверные косяки.
В ванной он снова обругал сам себя: надо же было сообразить хоть стакан с собой захватить! Помнится, рядом с этими чертовыми блистерами стоял стакан с остатками воды… Чем-то же надо в этого придурка воду вливать!
На его счастье, в ванной у Ромика тоже чего только не было: и компьютерные диски, и книги, и куча грязной одежды… Нашлась и изрядно пожившая алюминиевая кружка – наверное, сохранившаяся еще со времен их общей развеселой юности.
Мишанин с невыразимым облегчением схватил кружку, налил в нее воды, раскрыл Ромику рот и начал вливать туда воду, молясь вслух и про себя, чтобы тот в своем бессознательном состоянии умудрился не захлебнуться.
Ему снова повезло: Ромик все-таки начал захлебываться и потому пришел в себя. После этого дело пошло быстрее. Витиевато, с чувством обматерив открывшего глаза Ромика, Мишанин стал уже без всяких опасений вливать в того кружку за кружкой теплую воду. Он по-прежнему не был уверен в том, что действует правильно, но ничего другого ему в голову не приходило. Попутно он ругательски ругал себя за то, что по пути в ванную где-то обронил свой мобильный и даже этого не заметил. Не был бы он таким растяпой – «скорая» уже ехала бы сюда. Да, ехать ей пришлось бы долго: поселок так и не влился в город, и от ближайшей подстанции «скорой» ехать сюда было при самом щадящем положении на дорогах не меньше двадцати минут. Но она бы ехала, мать ее так!!!
Но раз уж растяпой родился – Эйнштейном не станешь, и Мишанин с упорством взбесившегося робота продолжал наполнять кружку и с размаху втыкать ее в рот Ромику.
Наконец Ромик забормотал что-то невразумительное и попытался повернуться к унитазу. Мишанин с восторгом пихнул его в нужную сторону и почти с умилением смотрел, как Ромика выворачивает.
Когда Ромик, весь мокрый и совсем позеленевший, обессиленно откинулся от унитаза и привалился к ближайшей стене, Мишанин заглянул в унитаз. Некоторое количество таблеток там плавало, но на глаз казалось, что это – просто капля в море по сравнению с количеством пустых блистеров на журнальном столике.
Поэтому он неумолимо возобновил процедуру промывания Ромикова желудка, уже без какого-либо трепета понося того на чем свет стоит.
Через полчаса «скорая» была вызвана, а измученный пятью приступами рвоты Ромик, умытый и вытертый, вновь водворен на диван.
Мишанин, весь мокрый – и от пролитой воды, и от холодного пота – сидел на полу напротив Ромика и, свирепо ругаясь себе под нос, пересчитывал дырки от таблеток в блистерах. Выходило, что никаких двадцати и уж тем более тридцати пустых блистеров не было и в помине: их оказалось всего лишь пять, и то не до конца опустошенных. Он никак не мог понять, как ему примерещилось такое безумное количество, а понять это почему-то представлялось чрезвычайно важным.
Ромик лежал молча, бесстрастно следя глазами за мишанинскими пальцами.
Наконец Мишанин решил, что ему уже хватит выдержки на разговор с Ромиком, и он сквозь зубы спросил:
– Ты можешь мне сказать, на хрена? На хрена ты это сделал?
Ромик медленно поднял взгляд и даже набрал было воздуху, чтобы что-то сказать, но так ничего и не сказал.
Мишанин подождал немного, почти с ненавистью глядя в огромные темные глаза Ромика, которые всегда повергали женщин в сладкое томление, и вдруг неожиданно для самого себя заорал (и куда делись его надежды на собственную выдержку?):
– Ты вообще мужик или нет?! Что такого страшного с тобой произошло, что ты третий год сопли жуешь? На тебя же смотреть противно, веришь?
В лице Ромика не шелохнулась ни одна черточка, он даже не моргнул – продолжал без всякого выражения смотреть на Мишанина.
Тот яростно сплюнул, встал и вышел во двор – встречать «скорую».
Потом, когда «скорая» уже увезла Ромика в больницу, предварительно милостиво одобрив мишанинские спасательные действия, он задумался: а чего, собственно говоря, он так разозлился? В принципе, этого следовало ожидать уже давно. Даже странно, что ничего такого Ромик не сотворил раньше. Впрочем, может, он и пытался сотворить, просто у него не получилось…
Ответ на этот вопрос пришел нескоро и обошелся Мишанину весьма недешево, а до той поры он просто отчаянно злился на себя за то, что решил навестить Ромика именно в это день и именно в это время.
Некоторое время ему действительно было не слишком приятно смотреть на себя в зеркало. Разумеется, о своем открытии он никому не сказал, только продолжал исподволь наблюдать за Ромиком – не столько с целью уловить готовность к повторению попытки, сколько из желания понять, рад ли тот, что остался в живых.
Спустя пару месяцев Мишанин пришел к выводу, что никаких особых признаков радости Ромик не проявляет. Конечно, не исключалась возможность, что к этому выводу Мишанин пришел только потому, что хотел прийти именно к нему, но… Ромик ведь тоже не помог ему прийти к какому-нибудь другому!
С этого момента Мишанин стал заходить к Ромику все реже и реже. Отчасти это было связано с тем, что ему стало слишком трудно скрывать от Ромика свое многократно усилившееся раздражение, а отчасти – с тем, что… В общем, он не был уверен в том, что готов всю оставшуюся жизнь вытаскивать Ромика из петли, промывать ему желудок, отнимать у него нож или… Что там еще может прийти в голову человеку, который твердо вознамерился больше не жить?
18 июля
…Раньше она никогда не думала, что воспоминания могут сниться. Без всяких изменений, уточнений, повторений – просто воспоминания. Во сне все оказывается в точности таким, каким было в реальности – и от этого внутри все время живет холодный ужас.
Теперь она видела только такие сны.
Каждый вечер она тянула до последнего, чтобы не укладываться в постель – иногда даже вообще не ложилась. Это не помогало. Одну ночь она еще могла провести на ногах, но следующим вечером ее неизбежно смаривало, сколько бы кофе она ни выпила перед сном.
И здесь каждую ночь ей снова снилось прошлое. Одно только прошлое, больше ничего.
Вчерашнюю ночь она тупо просидела перед черным проемом, и ей даже удалось ни о чем не думать. Помогла луна: ее просто в эту ночь не случилось, поэтому можно было долгие часы напряженно стараться по едва различимым силуэтам распознать то, что находится внизу и на той стороне реки. Поэтому вчера с самого утра она начала бояться приближения ночи. Она понимала, что рано или поздно обязательно заснет, даже если будет стоять столбом посреди отсека. Просто обмякнет и стечет безвольно на дощатый пол, а потом снова придут воспоминания.
Конечно же, все произошло именно так, и ей приснилось то лето, когда они с Артемкой и Ксюхой отдыхали на Красном море. Артемка тогда принял великолепие подводных пейзажей сразу и радостно, а Ксюха поначалу постоянно скандалила. Она голосила на весь пляж:
– Я знаю, я тебе надоела! Но я все равно не хочу купаться! Меня там съедят, я не хочу!
Кругом было полно русских, и она с детьми сразу стала любимым аттракционом всего отеля. Кто-то от души веселился, кто-то честно включался в ее попытки объяснить дочери, что никто ее не съест, а кто-то умудрялся смотреть на ежедневно повторяющееся представление с подозрением.
Целых три дня Ксюхе удавалось своим визгом отбиваться от необходимости войти в море. Наконец ее мать не выдержала, молча сграбастала дочь в охапку и спрыгнула с ней с понтона в воду.
Как только Ксюха оказалась под водой и открыла глаза, все ее страхи в момент исчезли. Разноцветные рыбки во множестве бесстрашно плавали вокруг, и первым делом Ксюха попыталась поделиться с мамой своим восторгом. Тут уж пришлось вытаскивать ее наверх и, пока Ксюха в бешеном нетерпении вертелась винтом, рассказывать ей, чего под водой делать нельзя.
С этого дня Ксюха проводила под водой едва ли не больше времени, чем Артем, и каждый раз, выныривая, вопила на весь пляж:
– Мамочка, там «Детский мир»!
Всю ночь она видела во сне дочерна загорелую Ксюхину мордочку с темно-бордовым носом. Дочка то плюхалась животом прямо в воду и зависала там, выставив наружу круглый вихляющийся от восторга задик, то выныривала с вытаращенными глазищами, то, вереща от нетерпения, ожидала своей очереди прыгать с понтона…
Артем, в полной мере осознававший свой зрелый возраст, вел себя более солидно – и в реальности, и во сне. К тому моменту ему исполнилось уже целых восемь лет, и он, сурово сдвинув брови, сосредоточенно следил за Ксюхой, когда та отходила от него больше чем на полметра. Нырять он позволял себе только тогда, когда сестренка сидела у кромки прибоя и ковырялась в мокром песке или, окончательно умаявшись, дремала под зонтиком после купания. Он уже тогда прекрасно плавал – разумеется, когда был свободен от обязанностей старшего брата, – и мог часами, нисколько не уставая, плавать от понтона к понтону.
Сына она видела во сне именно так – вдали, среди ослепительных солнечных бликов на мелких волнах, когда он, ожесточенно дрыгая ногами, высовывался из воды почти по пояс и радостно махал ей рукой. А еще она видела момент, когда он впервые донырнул до самого дна на большой глубине и притащил ей оттуда большую старую раковину. Раковина была настолько дряхлой, что уже почти не пела, когда ее прикладывали к уху, но потом очень долго жила у них дома на видном месте, как неоспоримое свидетельство Артемкиных особых отношений с морем.
Сон был похож на волшебный фотоальбом, в котором каждая фотография двигалась и даже издавала звуки. Она во сне мучительно старалась закрыть альбом и избавиться от лицезрения непереносимых картин, просыпалась, какое-то время лежала, задыхаясь и яростно утирая слезы, потом снова проваливалась в сон, и все начиналось сначала…
На рассвете ей наконец удалось проснуться окончательно. Какое-то время она металась по отсеку, бормоча себе под нос что-то невнятное, потом немного успокоилась и, привалившись к стене, села у самого края.
Обычно по утрам она сидела так до тех пор, пока сверху, с крыши отсека, не сваливался пакет с едой. Это было одним из немногих развлечений – медленно, изо всех сил тормозя себя, разбирать содержимое пакета, раскладывать аккуратно у стены, которая в ее отсеке играла роль кухонного шкафа.
Чаще всего пакеты с едой появлялись, когда солнце находилось на расстоянии одной ее ладони над горизонтом.
Сначала вдалеке зарождался едва слышный шорох выжженной жарким летом травы.
Потом этот шорох постепенно превращался в пунктирный звук приближающихся шагов.
Потом эти шаги сворачивали к отсеку Эйнштейна, и через пару секунд звук менялся: теперь человек поднимался по скрипучей деревянной лесенке.
Четыре ступеньки. Пауза.
Затем начинался совсем другой скрип: человек, судя по всему, поднимался по лестнице, вертикально закрепленной снаружи на задней стене Эйнштейнова отсека.
Еще шесть ступенек (видимо, довольно высоких) – и человек оказывался на крыше отсека.
Пять шагов по крыше.
Еще восемь-десять секунд – и звук глухого удара пополам с шуршанием пакета, шлепающегося на пол Эйнштейнова отсека.
Потом все то же самое, но в обратном порядке: человек возвращается по крыше отсека, спускается по двум лестницам, делает еще четыре шага по сухой траве, поднимается на четыре ступеньки – теперь уже к ее собственному отсеку, лезет по вертикальной лестнице, тяжело, неспешно шагает по крыше…
Потом шаги замирают прямо у нее над головой. Человек наверху, видимо, усаживается на корточки, свешивает пакет с крыши, слегка раскачивает его, чтобы он упал точно в отсек, а потом сильным броском вбрасывает внутрь.
Сейчас солнце стояло на целых полторы ее ладони выше горизонта, а никаких шагов снаружи слышно не было.
Зато слева зашевелился Эйнштейн.
Она прислушалась: он покрутился на своем матрасе, потом с тихим стуком сбросил ноги на пол. Он почему-то по утрам никогда не ставил ноги тихо: ему обязательно нужно было их сбросить, чтобы пятки увесисто ударили по доскам пола.
Еще через минуту раздались его тихие шаги, лязг отодвигаемой жестяной крышки туалетного бака, мелодичное журчание и снова лязг. Потом шаги в соседнем отсеке двинулись в сторону края.
Она замерла. Отчего-то ей каждое утро казалось, что Эйнштейн идет к краю не просто так – хотя она и сама после своих утренних метаний по отсеку обязательно подходила к краю и надолго усаживалась там. Но когда к краю шел Эйнштейн, у нее всегда замирало сердце. Вроде бы ничего этакого про него известно не было, но сердце все равно замирало.
– Доброе утро, Эйнштейн, – подала она голос.
– Привет, – хмуро отозвался тот. – Что новенького?
Это было его ежедневной шуткой, и она, как и всегда, ответила:
– Солнце встало.
Еще через несколько минут Эйнштейн с досадой осведомился:
– Нас сегодня вообще кормить не собираются?
– Ты надеешься, что он ответит? – очень мягко спросила она.
– На что ответит? – через слишком большую паузу раздраженно буркнул Эйнштейн, и она поняла, что права: он действительно изо всех сил надеется получить хоть какой-то ответ на свое вчерашнее яростное «Зачем?!».
До сих пор Эйнштейн был единственным, с кем ей было не противно общаться. Хотя точнее было бы сказать, что общаться с Эйнштейном ей было приятнее, чем с Фермером. Общаться со Скрипачкой возможности не было, да и не особо хотелось после суток ее почти непрерывной истерики. Фермер же за неделю совместного существования проявил себя приемлемым собеседником только пару-тройку раз – видимо, когда был совершенно трезвым и уже отошедшим от утреннего похмелья.
На этом фоне Эйнштейн выглядел практически Сократом, общение с которым следовало поддерживать всеми усилиями, поэтому она сочла за лучшее промолчать.
Не меньше получаса прошло в молчании. Потом Эйнштейн, неловко усмехаясь, спросил:
– А ты как думаешь, он что-нибудь напишет? В конце концов, мы же до сих пор никогда ничего не спрашивали, только материли его на чем свет стоит…
Ей страшно не хотелось отвечать. Ей вообще не хотелось ничего говорить, потому что за эти полчаса у нее все внутри как-то затихло и не то что бы успокоилось, но хотя бы замерло и перестало корчиться. Но она по дыханию Эйнштейна чувствовала (хотя что она могла чувствовать по его дыханию, если до него было не меньше полутора метров – и то в том случае, если он сидел у ближней к ее отсеку стены?!), как напряженно он ждет ее ответа.
– Не знаю, – в конце концов бесстрастно произнесла она и ощутила волну острого разочарования, хлынувшую из отсека слева.
Снова тишина.
Солнце уже стояло довольно высоко, когда издали донесся шорох травы.
Она услышала, что Эйнштейн в своем отсеке вскочил на ноги.
Снаружи прозвучала вся обязательная мелодия шагов, и в отсек слева шлепнулся пакет.
Впервые за все эти дни она не стала прислушиваться к шагам, двинувшимся в сторону ее отсека, потому что за левой стеной Эйнштейн точно так же впервые не разбирал пакет аккуратно, с деланым безразличием, как обычно, а с сумасшедшим нетерпением раскурочивал его, расшвыривая по сторонам все, что доставал: она просто-таки видела, как разлетаются по полу свертки, бутылки, огурцы, яйца…
За стеной шелестнула торопливо разворачиваемая бумага, и она насторожилась.
Наступила невыносимая пауза, во время которой пакет влетел и в ее отсек, но она не обратила на это никакого внимания.
Наконец она не выдержала:
– Ну что там?
Прозвучал обычный язвительный смешок, и Эйнштейн с издевательской торжественностью произнес:
– «Есть зачем». Представляешь?! Оказывается, есть зачем!
Судя по донесшимся из его отсека звукам, он прошагал в сторону матраса, пиная ногами попадавшиеся ему по пути свертки, и обрушился в своем спальном углу.
Она немного подождала и осторожно полюбопытствовала:
– Эйнштейн, а ты вообще как выглядишь?
– Это как-то изменит твою картину мира? – огрызнулся тот.
Она всегда почему-то испытывала к Эйнштейну странную умиленную жалость, потому ответила ласково, не обращая внимания ни на что неважное:
– Скорее расширит.
– Невысокий, но красивый и невероятно обаятельный, – сердито ответил он.
– Не расстраивайся. Во всяком случае, он вступил с нами в диалог.
– А я не расстраиваюсь, я злюсь. Я думаю, а ты меня отвлекаешь.
– А о чем именно ты думаешь? – не отставала она. Ей хотелось хоть как-то отвлечь его, потому что верить в то, что он просто думает о чем-то важном, у нее не получалось.
– Объясняю для недалеких: я думаю, каким в принципе мог бы быть ответ на вопрос «зачем?» в этой ситуации. Если я сумею выстроить исчерпывающий набор вариантов, то его ответ в мой набор неизбежно попадет, – без особого выражения проговорил Эйнштейн, и она сразу поверила в то, что у него и в самом деле появились какие-то соображения.
– Когда выстроишь, поделишься?
Когда он вообще ничего не ответил, она поняла, что теперь лучше заткнуться: вдруг у него и правда что-то толковое надумается?
Внезапно за правой стеной ее отсека началось какое-то движение: проснулся Холуй.
Он, в отличие от Эйнштейна, поднялся сразу и тихо: она услышала уже его шаги – и, конечно же, тоже в сторону края дощатого пола.
Почему-то за него она совершенно не боялась. Любые поводы углубиться хоть в какие-то размышления в ее положении можно было считать спасательным кругом, и она решила всерьез над этим задуматься.
Пока что получалось, что к Холую она относится не слишком серьезно просто потому, что Фермер дал ему именно такое прозвище. Учитывая ее отношение к Фермеру, это никак нельзя было считать достойным объяснением. Но ведь наверняка Холуй тоже оказался здесь не без причины!
Ну что за глупость?! Получается, она уверена, что автор всей этой фантасмагории выбирает действующих лиц исключительно по параметру грандиозной общей несчастности? По готовности радостно воспользоваться предоставляемой возможностью расстаться с жизнью? А еще получается, что, по ее мнению, в случае с Холуем этот самый автор грандиозно ошибся, потому что ни при каких обстоятельствах и ни при какой степени несчастности Холуй не способен из своего отсека выпрыгнуть, как это сделал его предшественник? И все только потому, что Фермер в очередном приступе пьяной веселости назвал его Холуем?!
Ей сначала стало стыдно, а потом смешно: какие высокие материи… Может, и Эйнштейн, как и она сама, попросту цепляется за возможность начать о чем-то сосредоточенно думать, а на самом деле все это барачное поселение на краю обрыва построил какой-то маньяк? Псих, которому просто нравится чувствовать себя властителем чужих жизней? А они тут с умным видом вычисляют критерий, по которому отбираются действующие лица, и тонкие мотивы, влияющие на поведение этого маньяка?..
Некоторое время она с удовольствием копалась в тонкостях движений своей и Эйнштейновой душ, а потом вдруг снова стала противна сама себе: ведь могла же с самого начала догадаться, что Холуй не нравится ей просто потому, что очень уж явственно напоминает ей ее собственного бывшего мужа? Тот, конечно, был не столько холуем, сколько классическим альфонсом: уже через год после их свадьбы он радостно воспринял свое увольнение с работы и залег дома в поисках себя.
Искал себя он долго и самозабвенно – причем в чисто интеллектуальном плане. Он не обременялся искать работу: он просто примерял на себя разные варианты, быстро приходил к выводу, что они его не стоят, и отказывался от них в пользу неких эфемерных – таких, которые будут рассчитаны как раз на эксклюзивные особенности его тонкой души, с которыми эта тонкая душа немедленно сольется в полной гармонии, и эта гармония очень быстро приведет к феерическому успеху.
Она и сама не могла бы сказать, чем таким Холуй напомнил ей мужа, но что напомнил – это было несомненно. Она еще вчера уловила внутри некую легкую брезгливость и, устыдившись, начала честно отвечать на вопросы Холуя. Но сейчас прятаться от себя было бессмысленно: Холуй ей не нравился. Более того – он был ей противен, как стал противен бывший муж уже через год его вдохновенных духовных исканий.
Пока она разбиралась с тонкостями своей бесславно иссякшей семейной жизни, Холуй встал, справился с утренними делами (судя по звукам, идиотизм окружавшей его ситуации нисколько не повлиял на его здоровый аппетит) и занялся поисками путей к спасению.
Поиск состоял в том, что Холуй разбегался (топотал он по дощатому полу при этом нещадно) и со всей дури вбегал в дверь, которая в его отсеке наверняка находилась точно там же, где и во всех остальных – то есть в самом дальнем от обрыва конце отсека.
Все обитавшие в отсеках (кроме, разумеется, Скрипачки, с самого начала не обнаружившей никакого намерения искать пути к спасению) этот вариант уже неоднократно опробовали – и совершенно безрезультатно. Поэтому Мамаша без всякого интереса вслушивалась в происходившее за правой стеной: три широких решительных шага, пауза, потом топот разбега, глухой удар и тихое кряхтение или стон. Ни на какие другие звуки она и не рассчитывала.
В какой-то момент едва слышный глухой ответ двери на соприкосновение с разогнавшимся телом Холуя напомнил ей другой звук: они с Максимом в ее кабинете, за закрытой дверью – ее вышколенная секретарша, Максим прижал ее к двери и…
Она вспомнила глаза Максима – шальные и веселые. Они всегда оставались такими, чем бы Максим ни занимался: громил на совещании дурацкие предложения сопредельных департаментов их компании, гнал на своей роскошной спортивной машине по трассе или любил ее, прижав к двери ее же кабинета. Иногда его не слишком серьезное отношение ко всему на свете ее безумно раздражало, но чаще завораживало: это было настолько не похоже на всех прочих ее мужчин…
Когда Максим только появился в компании, она вообще не восприняла его всерьез – настолько по-клоунски он себя вел. Всем было известно, что он стал ее заместителем, минуя какие бы то ни было собеседования и даже согласования с ней: просто престарелая красотка, начальник департамента кадров, категорически отказалась продолжать свое служение компании, если на работу не будет принят ее хороший знакомый – разумеется, самый лучший в России специалист в своей области. В результате Максим был предъявлен ей, его будущей начальнице, в качестве подарка судьбы, от которого невозможно отказаться.
Будучи человеком, весьма понаторевшим в аппаратных играх, она не стала демонстрировать свое неудовольствие – она просто решила временно смириться и ждать, пока навязанное ей неотразимое сексуальное дарование (в причинах столь страстной поддержки кадрового департамента она не сомневалась ни одной секунды) само не проколется.
Дарование не прокололось. Более того, дарование довольно быстро продемонстрировало, что данную ему кадровым департаментом оценку можно считать даже слегка заниженной. Впрочем, может быть, Мамаше стало так казаться после того, как дарование стремительно покорило ее саму.
Так или иначе, она очень быстро и неожиданно для себя отреагировала на его насмешливо-ласковые взгляды и густой ласковый баритон и перестала ждать, пока он проколется. Она бы сама с удовольствием прикрывала его проколы, если бы они были – но вот беда: их не было…
Сейчас перед ней снова, как во сне, был альбом, раскрытый на одной движущейся и звучащей фотографии: его полузакрытые шоколадные глаза, безмерно чувственная полуулыбка и темные волосы, вздрагивающие при каждом ударе ее начальственного тела о закрытую дверь кабинета…
Стоп. Не думать о Максиме.
Не думать – не потому, что Максима сейчас нет рядом и, возможно, никогда больше не будет (кто его знает, что у этого сумасшедшего маньяка на уме), а потому, что прямо рядом с ним появляются другие фотографии…
Слышишь?! Не думать!
В этот момент раздался торжествующий голос Эйнштейна:
– Мамаша!
Она не столько услышала, сколько почувствовала, как он осекся, произнеся ее здешнее прозвище. Это происходило уже не раз, и она никак не могла понять, почему: никто из присутствующих ничего знать не мог. Уже несколько раз она собиралась впрямую поинтересоваться, что именно его так напрягает в ее прозвище, но не решалась. Но должно же, в конце концов, когда-нибудь наступить пресловутое «самое время» об этом спросить?!
– Почему тебе неудобно так меня называть?
Эйнштейн слегка замешкался с ответом, потом все же сказал:
– Я же слышал, как ты вчера обругала Фермера за это прозвище…
Она поняла, что он просто нашел удачную отговорку, и понятнее ничего так и не стало. Ладно, судя по всему, у них еще будет более чем достаточно времени, чтоб все выяснить…
– Ничего, пойдет. Главное – не называй меня мамой.
Ей очень хотелось, чтобы Эйнштейн попытался выяснить, почему, но он так ничего и не спросил.
– Ладно, тебе виднее. В общем, смотри, что я понял. Мы знаем, что какой-то смысл держать нас здесь есть. И мы хотим понять, в чем такой смысл вообще может быть. Так вот, на мой взгляд, он может быть только в трех вещах: либо в самом факте, что мы здесь присутствуем, либо в том, чтобы нас в это время не было в каком-то другом месте, либо в том, что мы должны здесь что-то сделать. Так?
Мамаша вынуждена была согласиться:
– Хорошо, пусть так. И что?
– Как это что?! – заволновался Эйнштейн. – Как что?! Второй вариант проверяется легко: если каждый из нас сможет вспомнить, где он был бы сейчас, если бы не оказался здесь – значит, я прав. Если нет – значит, этот вариант можно вычеркивать.
Сейчас Мамаша ощущала себя очень взрослой и терпеливой, поэтому просто ласково поинтересовалась:
– А если ты прав, тогда что?
– А если я прав – значит, нам, чтобы выйти, достаточно отказаться от намерения где-то быть и что-то сделать и сообщить об этом… в общем, сообщить тому мужику. Причем не просто так сообщить, а чтобы он поверил.
– Хорошо, допустим, мы этот вариант вычеркнем. Дальше что?
– Самый сложный вариант – это первый. Я никак не могу взять в толк, зачем может быть нужно, чтобы мы находились именно здесь. Кому-нибудь нас предъявить? Нами любоваться? Короче, мне кажется, что этот вариант может быть верен только в том случае, если он и правда маньяк. И это, ясное дело, хуже всего, понимаешь? В этом случае он может нас убить. Ну, или просто позволить умереть естественной смертью…
Мамаша обдумала предлагаемую Эйнштейном перспективу и снова согласилась, хотя эта перспектива ей очень не понравилась. Насколько она понимала, Холуй перестал испытывать на прочность плотно пригнанную дверь своего отсека и теперь тоже очень внимательно прислушивался к их разговору. Ей казалось, что она даже слышит его дыхание: наверное, он прижался к своей левой стене и даже высунул голову наружу. Интересно, почему он не участвует в разговоре?
– А если и это неверный вариант? – подкинула она Эйнштейну нужную реплику, не переставая прислушиваться к тому, что происходит в соседнем справа отсеке.
В голосе Эйнштейна появились плохо скрываемые торжествующие ноты: