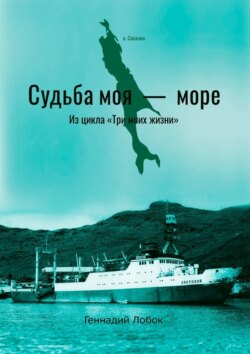Читать книгу Судьба моя – море. Из цикла «Три моих жизни» - Геннадий Лобок - Страница 4
Глава 2
ОглавлениеКакие мы все разные
Наши преподаватели
Нас учат
Предметы «хлеб» и предметы «не хлеб»
Станислав Иванович Ластавецкий
Мой русский язык
Начались первые дни знакомства с моими товарищами по училищу. Кроме еще двух таких же, как я, поступивших после восьмого класса, все остальные курсанты уже или отслужили в армии, или, окончив десять классов, отучились в школе морского обучения (ШМО) и по два года отработали матросами на судах. Понятно, что жизненные интересы у всех были разные: например, Олег Яремко, старшина нашей группы, был женат, а после первого курса женилась еще пара человек, – но в стенах училища я не чувствовал между нами разницы, многим из нас учиться было очень интересно. Моя специальность называлась «дноуглубительные работы и судовождение технического флота», а диплом я получил штурмана-багермейстера.
Должен сказать, что преподаватели наши были неординарными, но то, что некоторые из них пережили, не дай бог пережить никому. Константин Иванович Синьков, начальник нашей специальности, который преподавал у нас навигацию, лоцию и другие предметы по судовождению, воевал на Балтике, командовал морским охотником в звании капитан-лейтенанта. Немцы утопили их корабль, а его, раненого, без памяти, вместе со старшиной подняли с воды и отправили в концлагерь. Три раза они убегали из лагеря; во второй раз старшине удалось убежать, а Константина Ивановича два раза ловили, перебили руки и ноги, и только в третий раз побег удался. Он попал к французским партизанам, был награжден французскими наградами, но после войны, вернувшись домой, не смог доказать, что не сдался врагу, и, как нам рассказывали, его взяли в училище уборщиком. Он все время искал своего товарища – старшину, но там, где тот жил до войны, ему отвечали, что такого нет. Но они все же встретились: случайно, на футболе – оба были страстными болельщиками. И старшина дал показания, после чего дело Синькова пересмотрели, вернули ордена, звание, разрешили преподавать и назначили начальником специальности.
Это все мы узнали намного позднее, а началось все с того, что мы стали расспрашивать его друзей, почему он так интересно рисует на доске. Представьте себе: преподавателю надо на доске нарисовать полусферу или объяснить на жучках, как считать истинный курс судна. Он берет мел в две руки и движениями рук и тела рисует жучок…
Мои друзья и родственники, естественно, не знают, что такое жучок. Когда-то на судах еще не было гирокомпаса, но были магнитные компасы, которые показывали направление на магнитный полюс Земли, то есть магнитный курс (МК), а судно должно идти по истинному курсу. Основа – не магнитный полюс, а Северный полюс Земли. Так вот жучок – это и есть форма расчета истинного курса судна. Помните произведение Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан», где Себастьян Перейро разбивает один компас, а под другой подкладывает топор? Дело в том, что топор он подложил под нактоуз – вертикально стоящий короб, на котором в верхней части стоит на карданных подвесках компас. А в этом коробе находится так называемое мягкое железо. Регулировкой этого железа рассчитывается девиация компаса, то есть при расчете истинного курса магнитный курс корректируется этой поправкой. Составляется таблица (после регулировки металла в нактоузе), и она находится в штурманской рубке. Получается, что Себастьян Перейро практически внес изменения в девиацию. И эта поправка стала причиной ошибки при расчете истинного курса.
Еще одна поправка есть на морских картах: нанесена картушка компаса и написаны цифры склонения. Это значит, что в земле под водой есть залежи железа, они намагничены, и этот магнит действует на компас. Как же считается жучок? Рисуется вертикальная линия МК, от этой линии магнитного курса откладывается девиация (она бывает восточная или западная), а потом рисунок исправляется склонением – и получается истинный курс.
Вот наш преподаватель его на доске так необычно и рисовал. Мы заинтересовались, и тогда его друг, капитан дальнего плавания Сергей Степанович Лучетенков, рассказал нам историю о концлагере и обо всем остальном, в том числе и о том, как Синькову переломали руки и ноги, чтобы не бегал. На ногах он перенес несколько операций, а с руками ничего не могли сделать.
Сам Сергей Степанович преподавал нам парусные суда, вооружение, конструкцию судов, мореходную астрономию. Я сейчас вспоминаю и его, и других наших преподавателей. На военной кафедре у нас всё читали офицеры. Треть четвертого этажа учебного здания была отдана военным. В одних аудиториях стояли торпеды, глубинные бомбы, в других – мины разных типов и платформы для глубинных мин. Этаж круглосуточно охранялся, стоял часовой с автоматом и ножом (правда, автомат ППШ был без патронов).
Был преподаватель по физике, и если у курсанта не получался ответ, он говорил на украинском языке: «Цэ вам не университет, тут думаты трэба».
Был Станислав Иванович Ластавецкий – я ему многим обязан. Я и сейчас делаю ошибки, когда пишу; представьте, как мне надо было стараться, чтобы диктант на экзамене при поступлении написать на три балла. Я восемь классов учил только украинский язык, о русском не было и речи, а затем только русский. Помню, как на химии вместо «сера» я машинально сказал на украинском «сирка», – мои товарищи эту «сирку» мне вспоминали до третьего курса. Станислав Иванович мне посоветовал: «Если хочешь писать без ошибок – возьми „Героя нашего времени“ Лермонтова. Можешь работать с любой главой этого произведения, но лучше „Тамань“. Переписывай каждый раз по сто слов, затем каждое слово проверяй, правильно написал или нет. Те слова, которые списал с ошибкой, переписывай по пятьдесят раз без ошибок. Два-три раза всю главу перепишешь – и будешь писать более грамотно».
После первого семестра к нам на курс откуда-то перевели Юру (или Виктора – точно не помню) Домнина, и хотя после первого курса он снова куда-то перебежал, но мне запомнился. Отец его, контр-адмирал Домнин, был военным атташе в Болгарии, а сын у нас устраивал веселые деньки. Как-то раз, когда мы были на военно-морской подготовке, Домнин после перерыва пропал вместе с тетрадью, которую должен был сдать в секретную часть. Связались с экипажем – там его нет, нет и в учебном корпусе. И вдруг у окна какие-то звуки. Преподаватель подошел, снял с торпеды плакаты, а там в топливном отсеке спит Домнин.
Мы на занятия в учебный корпус ходили в рабочей форме – там голландку в брюки не заправляют. Но если я шел в увольнение по форме номер три, то форма на мне была как на корове седло. Надо было что-то делать с фигурой. Мне посоветовали: запишись в секцию тяжелой атлетики. Я записался. Месяца через два тренер говорит: «Готовься – будешь сдавать на третий разряд». А потом спросил: «Ты вообще зачем пришел в нашу секцию? Чтобы похудеть? Ну, тогда не тот вид спорта ты, парень, выбрал. Пока не поздно, уходи. Ты сейчас из жира сделаешь мышцы, но потом, если бросишь, разнесет тебя так, что еще будешь жалеть, что пошел в тяжелую атлетику». Пришлось бросить.
В какой-то момент я рассорился со Станиславом Ивановичем: он мне вкатал двойку по литературе, и я ему сказал, что язык я плохо знаю, но двойка по литературе – это перебор. Русскую литературу я люблю и знаю ее, много знаю на память. Он даже слушать не стал. Тогда я набрался смелости, обратился к начальнику училища и рассказал ему все: что безграмотно пишу, но безмерно благодарен Станиславу Ивановичу за помощь в изучении русского языка – там даже поставь мне единицу, я бы слова не сказал, – но русскую литературу я люблю и, по крайней мере, знаю больше, чем на двойку, поэтому прошу меня проэкзаменовать по литературе. Начальник училища сказал, что с такой просьбой курсант обращается к нему впервые, и спросил: «Если считаешь, что знаешь русскую литературу, недели хватит подготовиться?» – «Да, – отвечаю, – хватит». Через неделю пришел – там комиссия из пяти человек, погоняли меня и поставили четыре балла. Несмотря на все это, своего отношения к Станиславу Ивановичу я не изменил и до сих пор его помню и благодарен ему за науку.
Первый курс уже подходил к окончанию, и мы готовились к экзаменам. А самое интересное то, что мы науку делили на «хлеб» и «не хлеб». Я штурман-багермейстер, и все предметы, касающиеся штурмана, – это «хлеб», а значит, по всем этим предметам тебе шпаргалку не дадут и не подскажут. А «не хлеб» – все остальное. И на все экзамены по предметам «не хлеб» первыми шли курсанты, которые знали эти предметы. Они брали два-три билета, по одному отвечали, а другие выносили. В одной из аудиторий стояли несколько столов, и несколько человек писали ответы на эти билеты. Ты идешь с полным ответом по вынесенному билету, тащишь другой билет, но называешь номер, по которому уже подготовился, а тот выносишь. И так по кругу, пока все не сдадут. В конце экзамена по «не хлебу» последние сдающие подкладывают лишние билеты.
Но вот все экзамены сданы, направление на практику получено, и я отправляюсь на небольшой сухогруз. Для меня это было первое знакомство с судном. Я ведь мечтал о море, о работе на судах, но до этого никогда на судах не бывал, и мне даже сейчас непросто передать те первые ощущения от моего пребывания на судне. Я все время вспоминал слова Владимира Высоцкого из песни «Джентльмены удачи»:
Был развеселый, розовый восход,
И плыл корабль навстречу передрягам.
И юнга вышел в первый свой поход
Под черепастым флибустьерским флагом.
Накренившись к воде, парусами шурша,
Бриг трехмачтовый лег в развороте.
А у юнги от счастья качалась душа,
Как пеньковые ванты на гроте.
Думаю, что мое состояние тогда соответствовало чувствам того юнги из произведения Высоцкого. Естественно, товарищи матросы старались меня разыграть: то приглашали на клотик пить чай, то говорили: «Отнеси кранец старпому – это его груша, он мастер спорта по боксу». Спрашивали, рассказывали ли нам в училище, где на судне самый длинный конец и самый короткий. И еще много всего, пока им это не надоело и капитан не дал команду приниматься за работу.
Меня не привлекали в связи с моим несовершеннолетием. Я должен был быть вечным вахтенным у трапа. Но как только капитан по делам сходил с судна, я сразу бежал в трюм, стропил груз, таскал пустые двухсотлитровые бочки. Капитан это увидел и дал команду боцману: дескать, если хочет – пусть работает. Я находился при боцмане, выполнял все его указания. Он был участником Второй мировой войны и стал для меня наставником. Он был очень внимательным человеком, и я вспоминаю его с большой благодарностью.
Начался второй курс, мы уже привыкли и к дисциплине, и к расписанию занятий. После практики и небольшого отпуска мы очень быстро включились в учебу, а в выходные у нас в училище играла своя джаз-банда, которой руководил наш товарищ Жора Себов. Он играл на контрабасе, еще два курсанта – на духовых инструментах и один – на флейте. Конечно, я тоже иногда приходил на эти вечера, но зачастую только сидел и наблюдал, как отплясывают мои друзья. Мне было шестнадцать с небольшим, а многим моим товарищам – уже по двадцать лет и больше.
Правда, в школе была девушка – Марта, которая мне нравилась, и я ей однажды сказал, что люблю ее. Марта хотела окончить десять классов, поступить в Одесский университет на филологический факультет и изучать русский язык и литературу. Мы встречались в деревне, но летом можно долго гулять, а зимой не очень, и мы иногда договаривались: или я к ней в гости приходил, или она ко мне. Родители – и мои, и Марты – знали, что мы дружим, и ничего против не имели. После восьмого класса она уехала в Белгород-Днестровский и поступила там в девятый класс, а я уехал в Одессу и учился в мореходке. Она часто приезжала ко мне, когда я был в увольнении, и мы ходили в кино, гуляли по городу, потом я провожал ее или на поезд, или на автобус (поездом можно было доехать прямо до Белгорода, а автобусом – до Овидиополя и оттуда катером уже в Белгород). Почему-то я был уверен, что окончу мореходку, а она университет, и мы поженимся. Так мы с ней планировали. Но после девятого класса их школу перепрофилировали в техникум рыбной промышленности, и по окончании техникума она пропала. Я переживал по этому поводу, но учеба шла своим чередом, были другие заботы.
Помню, как-то раз пропал у нас курсант Румянцев: в экипаже не ночует, и где он – никто не знает. И вдруг через его родственников мы узнаем, что у него сифилис. Нам никто не говорил, и мы забастовали: находились в экипаже и требовали встречи с руководством училища. Пришел замначальника училища, и мы начали требовать, чтобы нас всех проверили: мы и курили одну сигарету, и пили из одной бутылки – одним словом, заразиться запросто могли. Решили так: у нас у всех возьмут кровь на реакцию Вассермана, потом решат, кого направить на профилактическое лечение. После этого мы успокоились – больных больше не было. А Румянцев появился перед экзаменами за второй курс.
Учеба продолжалась, и перед Новым годом произошел такой инцидент. В экипаже кто-то крикнул: «Наших бьют у входа в спорткомплекс ЧГМП!» Ну, мы и рванули туда – человек пять, и я в том числе. Прибежали – нет никакой драки, а нас собралось человек пятьдесят. Хотели идти домой, то есть в экипаж, и в это время дорожку осветили фары десятка милицейских автомобилей. Менты стояли по обеим сторонам дорожки, и в руках у них были резиновые палки. Нам сразу стало понятно, что это какая-то провокация, они нас пропускают через строй и задерживать, по крайней мере здесь, не будут. И мы побежали. По мне раз пять прошлись резиновой дубинкой. Наверное, не все были садистами – некоторые удары были чувствительны, но слабы.
Когда я подбежал к экипажу (а я, по счастью, бежал параллельной улицей), то увидел у центрального входа автомобили с мигалками и человек пять милиционеров: они нас уже ждали – задерживать. Я бросил камушек в окно (мы жили на втором этаже), парни выглянули, и я показал жестами на балкон, чтобы они открыли дверь, потом быстро поднялся по водосточной трубе – и к себе в кубрик. Мне помогли снять голландку – ее просто ножницами резали, она треснула в трех местах, – срезали тельник и увидели, что у меня и кожа в трех местах лопнула. Первый день я лежал в кубрике, днем переходил в санчасть, и мне там лечили раны. Нескольких человек по требованию милиции исключили. Меня друзья прикрыли, хотя я до сих пор не понимаю, кому и зачем нужна была эта провокация.
Я поправился, ходил на занятия и посещал секцию парашютного спорта – у меня уже был первый прыжок с аэростата, следующий я должен был совершить с самолета через неделю. Начал готовиться к экзаменам за второй курс, а сразу после экзаменов меня ждала практика на Дальнем Востоке.