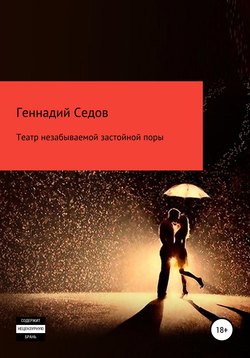Читать книгу Театр незабываемой застойной поры - Геннадий Николаевич Седов - Страница 1
Оглавление1.
В дверь осторожно постучали, приоткрылась створка.
– Доброе утро! Все еще в постели? Как насчет пробежечки?
Прилипала, как зовет его Лялька. Телевизионщик по имени Валера. Ехали вместе в автобусе из симферопольского аэропорта в Планерское. Москвич, что-то пишет. Записался в друзья, ходит по пятам, навязывает беседы на литературные темы.
– У меня в девять игра, – Цветков свесил ноги, сладко зевнул. – Разомнусь на корте.
– Опять с Дмитриевой?
– Да, с ней.
– Понятно, – телевизионщик попятился к выходу. – Приду посмотреть.
Лялька спала уткнувшись лицом в спинку дивана. Цветков подойдя пощекотал у нее подмышкой, она убрала локоть, недовольно промычала. Присев на край дивана он принялся щекотать ей пятки.
– Папка, перестань! – она лягнула его раз и другой в живот. – Дай поспать человеку!
– Скоро восемь!
– Ну и что, я на отдыхе!
В коридоре хлопали двери, слышались голоса – отдыхающие торопились на пляж. Пробежаться рысцой по влажному от росы галечнику, принять перед завтраком ледяную в этот час морскую купель, обменяться новостями.
Он подошел к окну, отодвинул штору. Голубой простор моря до горизонта, мохнатое, невыспавшееся солнце над дальними сопками, нахмуренный, розовеющий в косых утренних лучах Карадаг.
Умывшись он надел выстиранную накануне теннисную форму, залез в кеды, подпрыгнул раз и другой пружиня подошвами. Порядок!
– На завтрак не опоздай, – бросил дочери выходя за дверь.
Прошагал по коридору, вышел на крыльцо.
«Ага, – улыбнулся направляясь к кортам. – Мы уже здесь»…
По аллеям жиденького литфондовского парка прогуливался Радунский. Джинсовые шорты со свисающей бахромой ниже колен, залихватски сдвинутая набок соломенная шляпа, видавшие виды сандалии. Шествовал между низкорослыми пожухлыми акациями, останавливался в задумчивости возле полуразрушенной, заколоченной досками дачи Максимилиана Волошина, которая, по-видимому, как-то стимулировала его мыслительный процесс.
«Лицедей, – думал Цветков отворяя калиточку корта, на котором уже разминалась у стенки Аня. – Будет по обыкновению подглядывать за нашей игрой со стороны. Не может признаться в интересе к событию, в котором не присутствует сам, любимый. А ведь хочет наверняка играть в теннис, по лицу видать. Обежать вприпрыжку площадку, тронуть с видом профессионала сетку: хорошо ли натянута. Громить к радости зрителей, большую часть которых составляли женщины, незадачливых партнеров. Сколько будет шума вокруг! Рукоплесканий! Радунский, Радунский! Какие смэши, какие бэкхэнды! Форхэнды! Как спокоен, мужественен, прекрасен! Какой душка!
Он скрашивал Цветкову жизнь в то на редкость знойное коктебельское лето. Сам он ничего не писал, не привез подобно большинству обитателей одно- и двухкомнатных творческих конур начатую рукопись – купался в заправленном медузами парном море, загорал, спал после обеда, играл в теннис, читал что-нибудь вслух перед сном Ляльке, думал об экзотической калмычке из угловой комнаты, с которой могло что-нибудь получиться.
Окружавшее его общество было обычным для этого времени года: периферийный пишущий народец с чадами и домочадцами, журнальные и издательские редакторы, московские парикмахерши, заполучившие по блату литфондовские путевки, газетная алкающая братия. Радунский среди этого пестрого провинциального базара был единственной знаменитостью: волею божьей драматург, умница, талант. Цветков был давним его почитателем, прочел все его пьесы, некоторые видел на сцене. Восхищался яркой театральностью его драм, языковым богатством, живостью диалогов. Он рос от вещи к вещи, смелел, становился глубже. Избегал вызывавших тоску в зрительных залах производственных сюжетов с героями в касках и рабочих робах, дискутировавших с митинговой страстью – получать незаконно заработанную премию или нет? Оказавшись с ним рядом в Доме творчества, видясь ежедневно Цветков испытывал редкостное удовольствие от возможности наблюдать за ним со стороны, угадывать особенности его характера, привычки, слабости, постигать неотделимую от природы сочинительства человеческую его суть.
«Что у нас сегодня в репертуаре?» – спрашивал себя за столом неумолчно гудевшего зала столовой. Проглатывал морщась очередную ложку пригоревшей рисовой каши с хрустевшими на зубах мелкими камешками, смотрел с ожиданием на полуприкрытую портьерой входную дверь, в которой вот-вот должен был показаться его театральный кумир.
Радунский по обыкновению опаздывал. Продумывал, должно быть, между чисткой зубов и бритьем очередной имидж, в котором намеревался предстать перед литфондовской публикой. К чести его не повторялся, выдавал каждый раз что-нибудь новенькое. Накануне это была маска Пьеро. Печаль отвергнутого влюбленного, меланхолия, утрата жизненных ориентиров. Явился на ужин в ослепительно белой сорочке с манжетами – бледный, томный, с погасшим взором. Шел сомнамбулически между столиками не различая лиц, отрешенно отвечал на вопросы…
– Ассалям малейкум! – послышалось среди гула голосов.
Он привстал на стуле.
Раздвигая портьеру, словно это был театральный занавес, в зал шагнул («Браво, маэстро!» ) Радунский в пестрой тюбетейке поверх рыжей копны волос и в знакомых сандалиях, которыми он ступал по ковру забавно выбрасывая ступни, словно шествовал в козловых сапожках с серебряными шпорами где-нибудь среди анфилад дворца в Багдаде или Дели. Сегодня он пародировал Восток. Закатывал глаза, похохатывал раскачиваясь на стуле в ответ на шутки собеседников, потирал сладострастно руки приступая к трапезе. Черпал постанывая алюминиевой ложкой осточертевшую рисовую кашу синюшного цвета, словно вкушал золотистый плов на расписном блюде у себя во дворце, коверкал на восточный манер слова, говорил «Моя твоя не понимай», «Нам, татарам, все равно: что синаторий, что криматорий». Подмигнул официантке, разливавшей омерзительного вида ведерный кофе со сгущенкой, воскликнул, хлебнув из стакана: «Половина сахар, половина мед!» Сохранил маску, явившись четверть часа спустя на писательский пляж в сопровождении стайки застенчиво лыбившихся простолюдинок из соседнего пансионата шахтеров Донбасса в дешевых ситцевых купальниках. Продемонстрировав девиц жарившимся на солнце под недремлющим оком законных супруг завистливым коллегам, пофланировав недолго в том же составе по короткой как аппендикс коктебельской набережной, отбыл с гаремом на прогулку вдоль побережья на палубе каботажного теплоходика «Новый Афон» грохотавшего разверстой пастью репродуктора всенародным шлягером – «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой.
2.
Мальчишкой Цветкову казалось, что мир сплошь состоит из притвор.
Притворой был отец, инспектор горфинотдела в Калуге. Педант, аккуратист, ставившийся в пример начальством, ни разу не опоздавший на работу, председатель кассы взаимопомощи, вежливый, внимательный к окружающим. Дома был деспот, изводил упреками мать, не умевшую, по его словам, экономить копейку, вести хозяйство. К сыну и старшей дочери был равнодушен, понятия не имел, как они учатся, чем увлекаются. Садился вечерами после работы к радиоприемнику, крутил ручки, слушал сообщения об успехах сталинских пятилеток, рекордных выплавках чугуна и стали, добыче угля, надоях молока, урожаях зерновых. Произносил непонятную фразу: «Эх вы, дурашки». Тер глаза, уходил с горбившейся спиной в спальню.
Люди вокруг ходили с притворщицкими лицами. Пробегавший мимо их двери с кастрюлей на общую кухню кругленький общительный сосед Антон Иванович, работавший на центральном почтампе, оказался вредителем. Готовил, оказывается, по ночам динамит, чтобы подорвать электростанцию, был разоблачен бдительными органами НКВД.. Чуть ли ни каждую учебную четверть седьмой «А» класс замазывал чернилами под наблюдением классной руководительницы Веры Иосифовны фотографии в учебнике истории СССР: знаменитые маршалы и генералы, на которых равнялись пионеры и комсомольцы, были, оказывается замаскированными шпионами – один английским, другой японским, третий ставленником американских империалистов. А назывались все советскими полководцами, героями гражданской войны.
Страна срывала маски притвор, показывала подлинное обличье врачей-убийц, безродных космополитов, безыдейных писателей и поэтов, художников-формалистов. Всенародно осуждала, требовала сурового наказания. Спивавшийся отец бормотал слушая по вечерам радио: «Ага, еще один попался! Дурашки!»
Жизнь учила Цветкова молчаливой сдержанности. Студентом Казанского университета, пережив эвакуацию, голодную страшную зиму сорок первого года, похоронив отца бросившегося под поезд, общаясь с людьми, спотыкаясь, выбираясь с синяками и шишками из житейских тупиков, он усвоил для себя правила, которым следовал неукоснительно. Не выставлять напоказ чувств. Не торопиться с выводами, думать. Быть ровным с окружающими, избегать запанибратства. Делал по утрам во дворе общежития зарядку с гантелями, мылся по пояс холодной водой из колонки. Увлекся теннисом, участвовал во всесоюзной студенческой универсиаде в Москве, дошел до полуфинала. Слыл среди сокурсников надежным парнем знающим себе цену. Не слабаком, не выскочкой.
Он учился на четвертом курсе филфака, когда умер Сталин. Страна погрузилась во всенародную скорбь, по радио с утра до вечера звучали траурные мелодии. В день смерти вождя он с большим трудом добрался до университета. Шел пешком – городской транспорт не работал, улицы были перегорожены стоявшими впритык троллейбусами и автобусами, милиционеры заворачивали назад шедших на работу людей – те лезли через заборы, ныряли в дворовые проходы, бежали под трели милицейских свистков вдоль тротуаров. По центральному проспекту двигались в сторону казанского Кремля с возвышавшейся на площади бронзовой фигурой Сталина людские колонны. Транспаранты, венки, бесчисленные портреты вождя в темно-золотых лентах, темные платки на головах женщин, обнаженные головы мужчин.
Он едва успел к началу университетского траурного митинга в актовом зале. Озирался по сторонам, с трудом нашел свободное место в верхних рядах. Вышедший первым к трибуне седовласый ректор Дмитрий Яковлевич Мартынов был не в силах говорить, останавливался, по-детски всхлипывал, вытирал платком глаза. В рядах слышались рыдания, какую-то студентку, упавшую в обморок, потащили по проходу ребята с повязками на рукавах.
Странное дело: он был спокоен, не испытывал никаких чувств. Словно сидел на собрании с рутинной повесткой дня. Думал с удивлением: «Неужели я до такой степени бездушный?» Было не по себе, казалось, что взгляды окружавших парней и девчат устремлены в его сторону. Обхватил голову руками, уткнулся в колени. Так и просидел до конца митинга…
На факультете он слыл театралом. Ходил по льготному абонементу в городской русский драмтеатр, не пропускал спектакли гастролеров. Театральные билеты стоили недорого, временами удавалось выклянчить контрамарку у сидевших за решетчатыми окошечками неприступных администраторов.
Поход в театр был событием сродни празднику, лекции не шли в голову. Отсидев последнюю пару, наскоро пообедав в студенческой столовке (борщ без мяса, котлеты с перловкой, компот) он торопился в общежитие – переодеться. Тщательно причесывался перед зеркалом, спрыскивал одеколоном волосы. Доставал из тумбочки свернутую бархотку, клал в задний карман – смахнуть на пороге театра пыль с начищенных накануне выходных туфель. В переполненном трамвае, прижатый к стенке возвращавшимся с работы понурым людом, безошибочно угадывал поверх голов театральную публику – по выходным костюмам, букетикам цветов в руках, театральным сумочкам и «шестимесячным» завивкам женщин, но, главное, по радостно-тревожным, просветленным лицам, какие бывают у людей в ожидании близкой радости.
– Бауманская, драмтеатр Качалова! – слышался голос кондукторши. – Кому на выход, граждане, проходите вперед!
Работая локтями он пробирался к дверям.
Театральные представления любил с детства. Охотно участвовал в детсадовских утренниках с бумажными гирляндами по стенам, шитыми мамами и бабушками самодельными костюмами, приглашенным музыкантом городского Дома культуры с красавцем- аккордеоном на ремне. Исполнял роли петушка-золотого-гребешка, конька-горбунка, гуся в игре-массовке («Гуси, гуси? Га-га-га! Есть хотите? Да-да-да! Ну, летите! Нам нельзя! Почему? Серый волк под горой не пускает нас домой! Ну, летите как хотите!»).
Первоклассником, в Калуге, попал впервые на спектакль кукольного театра. Про правдивого Зайца попавшего в лапы кровожадного Волка, который отпустил его под честное слово на один день проститься с семьей чтобы потом съесть.
Происходившее у него на глазах в полутемном театрике с полусотней одетых по-праздничному ребят потрясло его. Забыв обо всем на свете смотрел, затаив дыхание, на освещенный цветным фонарем помостик с разрисованным задником и висевшими на ниточках облаками, где готовилось страшное и несправедливое. Отдал бы не задумываясь жизнь, чтобы помочь попавшему в беду Зайцу. Жена-Зайчиха, заячьи родственники убеждали того не возвращаться, говорили: глупо держать слово если имеешь дело с кровожадным злодеем волком, дети в зале кричали, и он вместе с ними: «Не ходи, не ходи!» Но Заяц был непреклонен: слово есть слово, кому бы ты его не дал. Уходя на смерть, у порога своей избушки с картонными деревцами во дворе пел печальную песенку: «Прощай, мой славный домик, ты верно мне служил, и здесь я жил и вырос здесь и здесь я счастлив был». Отворял калиточку в огород, вырывал морковку из грядки, продолжал (невозможно было слушать, душили слезы): «Прощай, моя морковка, ты сладкая такая, тебя на огородике я вспомню умирая».
Рассказал как-то выросшей Ляльке о первом своем театральном переживании. Предложил на спор, что прочтет наизусть слова песенки, которую исполнял кукольный заяц со сцены.
– Учти, мне было тогда семь лет .
– Семь лет? – колебалась она.
– Семь.
– Проспоришь, – предостерегла Ляльку разливавшая за столом чай Юлия. – Ты что, отца своего не знаешь? У него же память как у разведчика.
Лялька хлопнула его азартно по руке:
– Давай! На коробку мармелада!
И проиграла, конечно.
3.
Дома был свой театр. Мелодрама с элементами трагикомедии и фарса.
Персонажей поначалу было двое. Он и Она.
Он учился в аспирантуре, писал диссертацию, ее только что приняли на работу на должность институтского юрисконсульта. Зайдя однажды за подписью какой-то бумаги в приемную ректора увидел у стола секретарши молодую женщину в цветастом шелковом платье. Она мельком на него глянула. Шатенка, красивые ноги, искрящиеся голубые глаза.
– Зайдите позже, Цветков, – произнесла не поднимая головы от пишущей машинки секретарша. – У Рустема Нуриевича люди из министерства.
Закрывая за собой дверь он скосил взгляд: незнакомка смотрела в его сторону…
«Она явилась и зажгла», – отозвался на появление в коллективе Юлии Серегиной университетский сердцеед Должанский с кафедры фольклора народов СССР. Через секретаршу ректора Фиму Давыдовну разузнал кое-что о новенькой. Окончила год назад юридический, не замужем, живет где-то в Заречье с матерью.
В университете новая юристконсультша бывала редко: бегала утрясая юридические вопросы по каким-то учреждениям, участвовала в судебных слушаниях. Появлялась ненадолго, юркала в директорскую приемную.
– Дикарочка… – поигрывал импортной зажигалкой Должанский у раскрытого окна курилки в окружении жадных до сплетен сослуживцев. – Пора приручить…
Думая много лет спустя, потеряв к тому времени интерес к жене, изменяя ей, Цветков приходил к выводу, что причиной, толкнувшей его к Юлии, был в первую очередь Должанской. Желание щелкнуть Стаса по носу: смотри, красавчик! Женщин завоевывают не джинсами «ливайс» из комиссионки и не лизанием промежности.
Последнее обстоятельство, владение неизвестным большинству мужской половины университета французским приемом, как называл его Стас, было у него своего рода визитной карточкой.
– Ревут как белуги, – похохатывал. – А ты фактически еще не начинал. Палка, как минимум, в запасе.
Уверял: вкусив от французского метода женщины делаются одержимыми. Бегают за тобой, унижаются, делай с ними, что хочешь.
Должанского он презирал. Не унизился бы соперничеством за очередное смазливое личико. Донял бахвальством.
– Терпение, ребята! Нет крепостей, которые бы не взяли большевики!
«Должанский взял курс на Серегину», гуляло по университетским коридорам. Заключались пари, сколько продержится новенькая. Неделю? Две?
Он в ту пору встречался с младшей редакторшей республиканского издательства, где вышел научный сборник с первой его статьей. Несложные отношения, никаких обязательств. Утоляли три раза в неделю в его комнате на шестом этаже аспирантского общежития телесный зуд, пили кофе. Ася смотрела на часы, говорила озабоченно: «Извини, мне пора». Была замужем за водителем троллейбуса, у которого часто менялись смены – мог освободиться в неподходящий момент.
Ножку Должанскому он подставил под впечатлением минуты. Столкнулся с Серегиной на лестнице выходя из библиотеки (подбирал материал к будущей диссертации, копался в первоисточниках). Коротко поздоровались, она спускалась впереди помахивая сумочкой. Миг, и исчезла бы в коридоре.
– Серегина! – прокричал ей в спину.
Она обернулась.
«Все, поехали. Отступать некуда».
Шагнул через несколько ступенек.
Она стояла полуобернувшись к нему, смотрела с недоумением.
– Вы джаз любите? – сказал первое, что пришло на ум.
– Джаз? Не знаю…
Сквозь пудру у нее на лице проступал румянец.
– Про «шанхайцев» слышали»?
Она покачала головой.
– Есть предложение… – план действий созрел, он успокоился. – Давайте послушаем ребят из бывшего джаз-банда Олега Лундстрема. Они сейчас играют в ресторане «Татарстан». Мороженое поедим.
Она переступила на каблучках.
– Как это у вас все все быстро получается…
– А чего тянуть резину.
Посмотрел на часы.
– В семь жду вас у входа. Успеете?
Она поправила накладное плечико на платье:
–Успею.
Летний вечер в «Татарстане», проходной эпизод как он думал, не обещавший серьезного продолжения, повернул вполне устраивавшую его холостяцкую жизнь в неожиданное русло.
Она пришла на свидание раньше него. Шагая от троллейбусной остановки через дорогу он увидел у входа в ресторан знакомую фигурку. На ней было то же цветастое шелковое платье, в котором она приходила на работу и в котором он увидел ее впервые в приемной ректора. Единственным дополнением к наряду был повязанный на шее голубой шарфик в мелкий горошек. Под цвет глаз.
– Вы такой нарядный, – окинула его взглядом.
Вырядиться в единственный выходной коверкотовый костюм было с его стороны просчетом: выглядел он рядом с ней откровенным пижоном.
– Надо же вам как-то понравится, – произнес в оправдание.
– Зачем… – передернула она плечами.
Шла впереди него в полутемном вестибюле, нога за ногу в чулках телесного цвета, озиралась по сторонам. Глянула проходя мимо в напольное зеркало, поправила высоко взбитые волосы.
«Красивая, – подумалось, – с такой где угодно не стыдно показаться».
Они нашли свободный столик у окна с расплывшимся пятном на скатерти и неубранной посудой, уселись.
Вряд ли она бывала часто в ресторанах. Выглядела скованной, озиралась по сторонам. Сделала попытку помочь подошедшему с подносом официанту-татарину убрать остатки посуды, тот остановил ее с усмешкой.
Вернула не глядя протянутую карту меню:
– Выберите сами…
Готовясь к свиданию он достал хранимую под стопкой белья в шкафу пачку перевязанных резинкой пятирублевок – гонорар за напечатанную статью в журнале. Пересчитал: сорок пять рублей, более чем достаточно.
– Селедочка «под шубой», – диктовал официанту. – Салат «оливье». Посоветуйте что-нибудь из мясного?
– Можно бифштекс, – скучая произнес официант. – Котлеты по-киевски…
– Вот! Котлеты по-киевски… Как вам? – глянул на Юлию.
Она пожала плечами.
– Бутылка шампанского, – перечислял он…
– Есть розовое игристое… – официант строчил в блокноте. – Полусладкое.
– Давайте!
– Плитка шоколада, – продолжил за него официант. Скосил глаза на Юлию. – Кофе на десерт, фрукты…
– Замечательно!
– Кажется, собирались есть мороженое, – усмехнулась она, когда официант исчез. – И слушать джаз.
– Будет и джаз и мороженое, – он ослабил галстучную удавку на шее. – Кстати. Друзья зовут меня Алексей. Некоторые даже Леша.
Она залилась краской:
– Запомню.
… Вечер был в разгаре, ресторан переполнен, между столиками сновали с подносами официанты, летели под веселые возгласы в потолок пробки из-под шампанского. В полуприкрытую портьерой дверь, возле которой дежурил швейцар в форменной фуражке, заглядывала временами чья-то голова из томившейся в коридоре очереди – казанцы жаждали приобщиться к поносимой с газетных страниц и по радио заокеанской музыке с ее томительной негой, сумасшедшими ритмами, сногсшибательными исполнителями-кудесниками в переливавшихся серебряными нитями пиджаках, не игравшими, нет! – колдовавшими вместе и порознь на инструментах, напоминавших экзотических химер, страстно и нежно поющих, басящих, хрипящих, дико хохочущих, рыдающих, срывающихся в бездну, взмывающих стремительно ввысь под оглушительные раскаты барабанов и медных тарелок ударника, рассыпающихся на фрагменты, вновь собирающихся как в калейдоскопе разноцветными стеклышками, дразнящих слух ступенчатыми синкопами, уводящими бесконечно далеко от ведущей темы, откуда, казалось бы, нет возврата, и в этот самый миг – бац! клавишное тремоло! бац! свингующий вскрик саксофона! тихий шелест щеток по бас-барабану! рвущая душу ария трубы! – мир вокруг разом преобразился! помолодевшая, в ослепительной аранжировке музыка вернулась! и вас обожгло как ямайским ромом, закружило, унесло далеко-далеко, где шуршание морского прибоя, пение райских птиц, темнокожие нежные девушки под деревом манго…
Музыканты не торопились. Сидели в углу у расчехленных инструментов, пили пиво. Со столиков время от времени принимались хлопать.
– Эй, кончай прохлаждаться! Музыку давайте! – слышались голоса.
Первым полез на эстрадку грузный клавишник, следом потянулись остальные.
– «Сан-Луи блюз!» – кричали из зала. – «Читтанугу-Чу-чу»!
Джаз Цветкова не волновал. Подвигаться в подпитии с разгоряченной спутницей под грохот барабанов, зарядиться угарным весельем – пожалуй. Но не больше. То ли дело песни, считал, задушевные, мелодичные. «Вечер на рейде», «В городском саду», «Третий должен уйти», любимейший «Случайный вальс», который мог слушать бесконечно («Будем дружить, петь и кружить, танцевать я совсем разучился, и прошу вас меня извинить»)…
Джаз в Казань завезли эмигранты из Китая. Он заканчивал десятый класс, когда в голодном, не оправившемся от военных тягот городе поселилось полтора десятка музыкантов с семьями, игравших, по слухам, в шанхайских ресторанах тлетворную «музыку толстых», как назвал ее великий пролетарский писатель Максим Горький. Играть на новом месте тлетворную музыку приезжим запретили, для джазовых оркестров наступали тяжелые времена: вышло знаменитое партийное постановление 1948 года об опере «Великая дружба» композитора Мурадели, в которой, как писали газеты, звучали чуждые нормальной человеческой музыке, режущие слух джазовые интонации и ритмы (В памяти сохранилась сатирическая подпись под снимком Большого театра в публикиции журнала «Крокодил»: «Ишь, от страха обалдели, мчатся вскачь с фронтона слыша опус Мурадели кони Апполона»).
В СССР набирала силу кампания по «выпрямлению саксофонов». Джазовых музыкантов шельмовали со страниц газет и по радио, закрывали дорогу к слушателям. Перестали выпускать выходившие до этого миллионными тиражами патефонные пластинки с записями популярных джаз-бандов Александра Цфасмана и Леонида Утесова. На танцплощадках, в Домах культуры не танцевали больше фокстрот, танго и чарльстон – только «танцы медленного ритма»: вальс, польку, падекатр, падепатинер, падеграс. Как это бывает, страсти со временем поутихли, о Мурадели забыли, джаз мало-помалу стал возвращаться на эстраду, однако с опаской, не мозоля глаза, без прежнего запала – «под сурдинку»…
… Ресторанные музыканты отыграли «Сан-Луи блюз», «Читтанугу-Чу-чу», венский вальс, полечку, сбацали с огоньком по оплаченной заявке гулявшей в углу блатной компании «Мурку», «На сопках Маньчжурии». Двигаясь в обнимку с Юлией в толпе танцующих Цветков решил, что пора закругляться: продолжение вечера было в принципе предсказуемо. За столом она выпила два бокала шампанского, жадно ела, извинялась с нервной усмешкой: «Не успела пообедать… так вкусно все»… Пунцовая, с капельками пота на лбу поднимала глаза от тарелки: испуг во взгляде, беспокойство. Танцевала она плохо – сбивалась с ритма, останавливалась, поправляла то и дело сползавшие наплечники под платьем. Он прижимал ее к себе, тянул пальцы к крепеньким ягодицам, она вздрагивала всем телом, говорила волнуясь: «Пожалуйста, Леша, не надо!»
В мыслях у него было одно: довести ее как можно скорей до общежития.
4.
Жениться на ней он не собирался. Был в угаре от первых дней близости, плохо соображал. Влекло ее тело, податливые мягкие губы, копна падавших на лицо пепельных волос, которые она забавно сдувала в минуты страсти.
Стыдлива была до изумления. Прикрывала впившись пальцами в простыню пушистый лобок, не проявляла инициативы, не кричала от восторга, не билась судорожно в конце акта как другие его женщины – лежала закрыв глаза на измятой постели с запрокинутой головой точно спящая царевна в гробу.
В один из дней пригласила его к себе. Долго тряслись в разболтанном автобусе с продавленными сидениями, переехали по деревянному мосту на ту сторону Казанки, сошли на песчаном пустыре, посреди которого торчала накренившаяся телефонная будка с оторванной дверцей.
– Здесь близко, – обронила словно оправдываясь. – Пройти немного просекой.
Шли через березняк с чахлыми деревцами, поднялись на дамбу – внизу, в топкой низине, открылся поселок. Вросшие в землю мазанки с плоскими крышами, полуобвалившиеся заборы, полисаднички. Пробирались по захламленному переулку, он озирался по сторонам. Шастали среди зарослей крапивы, клевали что-то в кучах мусора куры. Лежал в невысохшей дождевой луже, щурится блаженно на солнышко грязный как черт поросенок. Взбрехнула на крылечке дома, нехотя, лениво, поднявшаяся,было, и вновь опустившаяся на ступеньку кудлатая собака.
– Вот моя деревня, – открыла она калитку.
Он шагнул вперед, остановился.
«Ну, и дыра», – пронеслось в мыслях.
По периметру двора с маячившей на пригорке деревянной уборной стояли прижавшись один к другому причудливого вида «балки», как называло их по старинке местное население. Построенные самовольно бездомным людом жилища-конуры из найденных на свалках или украденных с лесопилок горбылей, досок, кусков фанеры, листов рубероида, металлического хлама. Обмазанные в несколько слоев глиной, аккуратно побеленные, с выведенными через окна коленцами печных труб, огороженные штакетником и живой изгородью. С заставленными курятниками карликовыми двориками, собачьими будками, рассохшимися кадушками для солений, горшками и ведрами с огородной зеленью и цветами.
Об обитателях низины казанцы отзывались презрительно: тунеядцы, позорят звание жителей столицы автономной республики, где учился когда-то Владимир Ильич Ленин. Выросший без каких-либо разрешений поселок с населением в несколько тысяч человек, числившийся на исполкомовском балансе районом частных домовладений, был постоянной головной болью у городского руководства. Существовал в нарушении всех государственных законов и установлений, крал электричество с линий электропередач с помощью подвесных «кошек», сдавал без прописки углы приезжим, не платил за воду, захламлял мусорными отбросами берега Казанки.
– Мы здесь, Лешенька, люди случайные, – говорила за столом мать Юлии подливая в его чашку из заварного чайничка. – Судьба забросила.
– Мама, – нервно теребила кружевную салфетку Юлия. – Давай о чем-нибудь другом.
Алексею это не интересно.
– Что значит, не интересно? – темнолицая, в круглых очках Зинаида Николаевна, как назвалась она при знакомстве, взглядом искала у него понимания. – Леша для нас не посторонний человек.
Его, судя по всему, записали в родственники. В душный июльский вечер, в тесной мазанке, со всех углов которой смотрела на него стыдливо прятавшаяся нищета, услышал о вещах, знать о которых полагалось только самым близким людям.
Первое, что ему открыли: он спит с дочерью генерала. Подло бросившего жену с маленькой дочкой ради фронтовой врачихи, с которой сошелся лежа раненым в госпитале.
– Ждали всю войну, Леша. Письма писали через день. Юлечка вкладывала всякий раз в конверт свои рисунки. С малиновым сердечком. «Любимому папочке на фронт. Возвращайся с победой!». Вернулся, подлец! Проститься. Подарков привез чемодан – ординарец тащил следом за ним из машины. Откупиться решил, а! Трофейными отрезами и мясной тушенкой! – глаза некогда привлекательной, судя по всему, рано увядшей женщины блестели за стеклами очков мстительным огнем. – Я его с лестницы спустила вместе с чертовым чемоданом! Вон, изменник!
Стучали на стене ходики, за окном догорал день. Он отхлебывал из чашки, слушал.
С исчезновением генерала жизнь матери и дочери пошла под откос. Из комендатуры военного городка, где они прожили без малого десять лет, пришло распоряжение: по случаю перевода генерала Серегина на новое место службы им надлежит освободить ведомственную квартиру. В семидневный срок.
– Иди на все четыре стороны…
Обеспеченные по меркам того времени, получавшие ежемесячно генеральский денежный аттестат, пользовавшиеся услугами военторга с недоступными простым смертным продуктами и промтоварами, они оказались в одночасье без средств к существованию, на улице.
Прожили какое-то время у школьной подруги Юлии, пока не посчастливилось купить на остатки сбережений у какого-то забулдыги полуразвалившийся балок на правобережье Казанки.
Никогда не работавшая генеральша лазила по крыше, латала прохудившееся покрытие из прогнивших кусков рубероида. Вспомнила уроки покойной матери, села за швейную машинку – брала на переделку приносимое соседями старье. Юлечка шла после уроков на базу горбыткомбината за оставшимися после войны, присылаемыми с военных складов парашютами. Сидели вечерами напрягая зрение за распоркой, цепляли кончиками ножниц из швов едва различимые нити, выкусывали, вытягивали сорванными ногтями, гладили штука за штукой чугунным утюгом. Плюнули на интеллигентские привычки, занялись по примеру большинства «нижних» незаконными заработками. Скупали у окрестных рыбаков улов, перепродавали на субботнем базаре с риском угодить за спекуляцию в каталажку. Брали временных постояльцев, прятались за сараями при появлении финансовых инспекторов.
– Говорят, «из грязи в князи», – Зинаида Николаевна снимала со стенки липкую бумагу с трепыхавшимися мухами, вешала свежую. – А у нас вышло наоборот…
Его изо всех сил подталкивали к законному браку.
– Юленькин жених, – представляла при встрече с соседями генеральша. – Ученый, занимается театром.
Соседи натянуто улыбались, тянули руки:
«Будем знакомы… Как вас по батюшке?.. Закурить не располагаете?»
– Это какой же по счету жених? – осведомилась однажды чистившая в соседнем дворике курятник сисястая тетка в мужских штанах. – А энтот куда подевался? Из райздрава?
– Заткни рот, фашистка! – закричала в ее сторону генеральша. – В суд скоро пойдешь! За воровство!
– Это ты пойдешь под суд, Серегина, – сисястая тетка опиралась на метлу. – За клевету на члена партии!
Двор пребывал в состоянии незатихавших склок и разборок. Выясняли отношения, писали жалобы в редакции газет, депутатам Верховного совета. Из-за неубранного мусора, подбитого мальчишками из рогатки цыпленка, оставленной у чужого порога свеженаваленной кучи.
Вражда генеральши с жившей по другую сторону штакетника Елизаветой Кувалдиной носила сложный, запутанный характер. Продавший им балок забулдыга предупредил при расчете: чертовой Кувалдихе ни в коем случае не доверять, держать ухо востро. Расширяет свой участок, прирезает тайком куски от территории соседей. Действует хитро, по ночам, застукать трудно. Сучий потрох, не баба!
Новички не верили поначалу: ну, как можно, воровать у соседей землю? Штакетники же между двориками, живая изгородь!
Оказалось: можно! Генеральша со временем стала замечать: узенький их извилистый дворишко странным образом сужается. Шла зачем-то к выходу, остановилась: что за черт? Небольшой выступ возле калиточки в сторону соседки исчез, будто не было! Обследовала старательно пограничную полосу, обнаружила: разделявшие дворики несколько кустов живой изгороди и два горшка с геранью сместились в их сторону. Работа была проделана с дьявольской изощренностью: места перекопа прикрыты шматками дерна с пожухлой травой, присыпаны сухим песочком, комар носа не подточит.
Необходимо было действовать, остановить разбой! В одну из ночей генеральша и приглашенный за пол-литра сосед из крайнего балка Федор Недбайло устроились у окна кухонной выгородки. Кувалдину следовало схватить за руку в момент совершения преступления, обязательно при свидетеле. Иначе отвертится, обвинит в клевете – у нее повсюду знакомства, связи, свои люди, даже в райкоме партии, где она работала дворником и состояла на партийном учете.
Сидели в темноте, разговаривали вполголоса. Недбайло жаловался на жившего напротив холодного сапожника Абдильду, подглядывавшего, по его словам, в щели дворовой уборной, когда там справляла нужду дочь-разведенка Недбайлы Клавдия, растившая трехлетнего сынишку.
– Прирежу, Николавна, – бубнил уволенный за пьянку из пожарной команды Недбайло. – Мне теперь что воля, что тюрьма, одна хрень.
– Будет вам, Федор, в самом деле, – шепотом урезонивала его генеральша. – Придумали тоже: «прирежу»! Может, показалось Клавдии?
– Какой показалось, Николавна! – Недбайло остервенело склеивал самокрутку. – Он ей, подлец, в дырку свою орудию представлял! Клавка врать не будет!
Где-то за полночь клевавшая носом генеральша уловила за окном промелькнувшую тень.
– Федор, – позвала.
Уронивший голову на кухонный столик Недбайло тяжело всхрапнул.
– Федор, проснитесь! – тормошила она его.
– А! Пожар! Где? – бормотал тот. – Заводи мотор!
Генеральши кинулась к двери, выскочила на крыльцо.
Представшая ее глазам картина не поддавалась описанию. В темноте бархатной ночи, под звездами, лазила на карачках среди живой изгороди с тяпкой в руках Елизавета Кувалдина в теплых рейтузах поверх сорочки. Подкапывала пыхтя землю, утирала рукавом лоб. Обернулась на скрип двери.
– Чо не спишь, Серегина? – осведомилась буднично. Поднялась охая с колен. – Ленишься, соседушка, землицу перекапывать, изгородь поливать. Мне приходиться, – повысила голос. – По ночам. С ревматизмом… Чо ржешь-то? Больная что ль?
Генеральша тряслась на крыльце в припадке нервного хохота…
Все это ему в конце-концов надоело. Мотаться на край города в забитом людьми автобусе, шагать с гастрономовским тортиком в руках через загаженный куриным пометом двор под любопытными взглядами соседей, пить чай в заставленной рухлядью комнатенке с тикающими ходиками на стене, слушать бесконечные воспоминания генеральши, разглядывать в пухлом альбоме выцветшие семейные фотографии, ублажать на застланном лоскутным одеялом сундуке любовницу в отсутствии убежавшей, якобы, по неотложным делам мамаши. Новизна чувств прошла, постель больше не заслоняла женщину, с которой ему было откровенно скучно.
«Не поеду», – решил однажды. Лежал в папиросном дыму у себя в комнате, листал свежие конспекты по выбранной с научным руководителем теме будущей диссертации: «К вопросу зарождения русского драматического театра в Казани».
Материал был богатейший, впору докторскую писать. Завоеванная некогда Иваном Грозным столица татарских ханов была одним из театральных центров России: первый публичный театр для горожан в Казани открыл свои двери в 1791 году. Спектакли проходили в арендованном для этой цели помещении на Воскресенской улице. До той поры, пока помещик-театрал Есипов не построил в городе деревянные театральные хоромы, где играли его крепостные крестьяне и приглашенные бродячие актеры вольных трупп руководимые знаменитым в ту пору драматургом и актером П. Плавильщиковым. К середине девятнадцатого века казанский губернский театр был сравним по уровню с лучшими петербургскими и московскими, здесь ставились самые модные тогда пьесы, в частности «Ревизор», в котором играл городничего великий Михаил Щепкин, приезжали на гастроли П. Мочалов, В. Живокини, А. Мартынов (последний в роли Хлестакова восхитил неистово хлопавшего ему с галерки студента местного университета Левушку Толстого). В библиотечном хранилище редких рукописей он обнаружил и переписал в тетрадь интереснейшие сведения о театральной истории города. Как строилось каменное здание городского театра, ставшего за короткое время одним из лучших в империи по оснащенности. Об антрепризе режиссера-педагога П. Медведева, воспитавшего на казанской сцене легендарную Полину Стрепетову, давшего путевку в жизнь Марии Савиной, Владимиру Давыдову, Александру Ленскому, Константину Варламову, сформировавшему самостоятельную оперную труппу, которая положила начало Казанскому театру оперы и балета. Нашел отличный эпиграф к диссертации в одной из статей Белинского: «Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую и заплесневелую от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями, затем что он волнует нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жизни!»
«До чего точно сказано! – закуривал в волнении очередную папиросу. – Не прибавить, не убавить. Вот в таком стиле и писать. Без нудятины»…
Скрипнула за спиной дверь, он обернулся.
Вахтерша.
– К телефону, – произнесла зевая. – Какая-то женщина…
Звонила Юлия.
«Леша, что с тобой? Почему ты не приехал?»
– Заболел, температура… – он покосился на вахтершу, та демонстративно копалась в ящике стола.
«Температура? – у нее был встревоженный голос. – Давай я приеду, привезу тебе что-нибудь… У тебя был врач? Нужны какие-то лекарства? Я съезжу в аптеку, привезу»…
– Не надо приезжать! – бросил он в раздражении. – Мне надо побыть одному. Ясно? Одному! У меня серьезная работа!
«Но ты же говоришь, что болен… Хорошо, давай я приеду завтра, после работы. Извини, я звоню из будки, здесь очередь».
– Я же сказал: не надо приезжать! – он уже кричал. – Не надо вообще! Никогда!
В трубке щелкнуло: на том конце провода повесили трубку.
В середине следующего дня, он только что вернулся из библиотеки, в общежитие примчалась генеральша. Сбившаяся косынка, задыхается от волнения.
– Что у вас произошло, Алексей! Она сказала, что не хочет жить! Убежала в парк. Пожалуйста, поедемте! У меня сердце не на месте!
Удалось, к счастью, поймать на улице такси, до лесопарковой зоны добрались за какие-нибудь полчаса.
Был воскресный день, на берегу речной заводи, на парковой аллее с павильоном газированных вод и лотками мороженщиц толпы отдыхающих, несутся с летней эстрадки звуки вальса.
Они обошли несколько раз территорию парка, спустились к песчаному пляжу. Лежаки там и тут, раздевалки, толпы купальщиков. Что делать, куда идти дальше?
– Господи, лишь бы с ней ничего не случилось! – твердила генеральша. – Я этого не переживу!
Он представил неожиданно: с пляжа несут на руках несут мокрую, в водорослях Юлию. Вокруг зеваки, слышатся милицейские свистки. Чертово воображение…
В этот миг он ее увидел. За дальними кустами. Сидела, пригнувшись, на корточках у декоративной вазы с полузасохшим фикусом, смотрела в их сторону.
Отлегло от души: жива! И разом мысль: «Розыгрыш! Дешевый спектакль! Решили попугать»…
– Алексей, куда вы! – кричала ему в спину генеральша.
Он бежал не оборачиваясь к автобусной остановке.
Не видел ее больше месяца, поостыл. Писал первую главу реферата, весь ушел в работу. Возвращался в один из дней трамваем из библиотеки, проезжал мимо «Татарстана». Вспомнился ресторанный вечер, как они топтались обнявшись у эстрадки, испуганные ее
вопрошающие глаза, когда он снимал с нее лифчик в комнате общежития. Меньше всего подозревал в себе жалость, и вдруг нахлынуло – щемящая боль в сердце. Как она там? Здорова? Нелепый розыгрыш в парке показался мелочью, был объясним: отчаяние, попытка любой ценой удержать его рядом. Несправедливо за это наказывать…
Прошла неделя, она не давала о себе знать. Не выдержав, он поехал в университет, заглянул в приемную ректора.
– Серегина? – оторвалась от машинки Фима Давыдовна. – На операции. Вы что, не слышали? Обострение базедовой болезни…
Час спустя он шагал среди поселковых луж. Было пасмурно, сеял мелкий дождь. Прошел через двор таща ноги по чавкающей грязи, нащупал щеколду знакомой калиточки.
– Нету их, – сообщила из-за штакетника кормившая поросенка Кувалдиха в накинутой на голову рогоже. – Дочка в больнице, мать, должно быть, там.
– В какой больнице, не скажете? – подошел он к заборчику.
– Кажись, в первой городской.
– Спасибо! – побежал он к воротам.
4.
Они поженились спустя несколько дней после ее выписки. Не осталось следа от прежнего настроения стоило увидеть ее в смрадной общей палате, на кровати с просевшей до пола металлической сеткой – осунувшуюся, бледную, с перевязанным горлом. Никогда потом за долгую их жизнь не испытывал он к ней такой нежности и сострадания, не чувствовал так остро потребности защитить от невзгод, стать опорой как в минуту, когда пройдя между рядами тесно стоявших коек увидел ее лицо. Бескровное, с острыми скулами. Она поправляла косынку, слабо улыбалась приподнявшись с подушки…
На свадьбу приехала из Калуги мать. Привезла домашний окорок, сушеных грибов, пряников. Помогла генеральше зарезать индюшку, хлопотала за кухонным столом, обнимала то и дело принарядившуюся Юлию, говорила счастливо: «Невестушка у нас! Дай бог каждому!»
Из приглашенных был только давний его приятель, фотокорреспондент окружной военной газеты Боря Могилянский. Умница, остряк. Согласился на роль тамады, придумывал тосты, смешил за обедом женщин.
В разгар застолья приоткрылась наружная дверь, в комнату вошла с банками солений в обеих руках Кувалдиха в цветастом сарафане.
– Совет да любовь! – поклонилась. – Не прогоните?
– Заходи, партизанка, – потянула от стены табуретку генеральша. – Леша, – обратилась к нему, – налей, пожалуйста, гостье.
Перед десертом они вышли с Борей в палисадник покурить. Тотчас, словно из засады, надвинулись со всех сторон головы соседей. Мужчины, женщины, ребятня.
– С праздничком! – послышалось.
– Поздравляем!
– Мир вашему дому!
Понаторевшая в нравах дворового общежития генеральша вынесла и поставила у калиточки трехлитровую банку домашнего самогона, стаканчик, закуску.
– Милости прошу, дорогие соседи! Очень рады!
Подходили по очереди, выпивали, морщились. Цепляли оловянной вилкой селедочку, хрустящий огурчик. Мальчишки и девчонки дружно расхватали принесенную Юлией на подносе горку нарезанной халвы.
Медовый месяц они провели в Калуге. У матери остался от родителей деревянный домишко в центральной части города, где она жила с племянницей Олей и ее семилетним сынишкой. Поместили их в нагретой солнцем чердачной комнате с выходившим на Волгу слуховым окном. С утра, позавтракав на кухне, они уходили на целый день в город. Бродили по тихим, поросшим травой улочкам, среди старинных построек, обветшалых, точно обугленных временем домов с резными наличниками, заходили под каменные своды Гостиного двора с заколоченными крест-накрест лавками, шли на берег реки, усаживались на косогоре, смотрели щурясь на проплывавшие мимо дымные моторки, причаливший на противоположном берегу к пристани буксир, с которого тащили по сходням мешки похожие на муравьев цепочки грузчиков.
– Я так счастлива, Лешенька, – говорила загоревшая на свежем воздухе Юлия. Поправляла прикрывавшую серпик шрама бархотку на шее, клала голову на колени. – Ничего не надо больше, правда?
Он гладил ей волосы, целовал – в глаза, губы. Все сошлось счастливо в те калужские тихие денечки: убаюкивающий ритм жизни, неяркая, трогающая душу природа срединной России, которую он так любил, близкая женщина рядом.
В Калуге он написал первую свою театральную статью. Они посмотрели в местном драмтеатре великолепно поставленный «Лес» Островского, возвращались пешком, обменивались впечатлениями. После ужина он сел за столик, стал писать. Беглые наброски, без какого-либо плана или общей идеи. Перед глазами стояло густо напудренное лицо актрисы игравшей Гурмыжскую, встретившиеся на лесной дороге Счастливцев и Несчастливцев, стоявший неподалеку от театра на тускло освещенной аллее бюст Островского, у которого они остановились по дороге домой. Юля, помнится, ахнула тронув его за рукав: «Смотри, Леша, он улыбается!»
По телу его пробежал холодок.
– Юлька! – заорал.
Она привстала на постели.
– Леша, ты чего? – терла глаза.
– Нашел! Гениальная тема!
Слетело с небес: провинциальный русский театр! Центр культуры, просветительства, досуга людей живущих в глубоком захолустье, с унылой, однообразной жизнью. Мир сцены, счастливцевы и несчастливцевы, седоусые отцы города, дамы с вычурными прическами в партере, хлопающая неистово с галерки разночинная публика, купцы-меценаты за столиком театрального буфета покупающие молоденьких актрис как скаковых лошадей. Показать все это через драматургию Островского, судьбу его персонажей!
– У него три изумительных пьесы о театре, – говорил волнуясь сидя на кровати. – «Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые».
– Ну и что? Леш, не кричи, в ухо!
– Как что, Юлька? Это же энциклопедия жизни русской провинции! В театральных сценах и монологах. С чудным русским языком, ароматом эпохи. Театр и жизнь, понимаешь? Будет потрясающая статья! – обнял ее за плечи. – Слушай, давай выпьем, а?
– Спятил, третий час ночи!
Никогда с таким удовольствием ему не работалось. Писал не отрываясь. Тема ширилась, обрастала идеями. Что-то надо было заново переосмыслить, от чего-то отказаться. Уставал, ложился рядом со спавшей женой, смотрел в темный просвет окна. Вскакивал, зажигал лампочку, хватал ручку, вновь принимался строчить в блокнот.
Написанную за две недели, проверенную на слушателях (жена, мать и торопившаяся на службу, поглядывавшая на часы Оля) тридцатистраничную рукопись послал в журнал «Театр». Ответа не дождался, махнул рукой: плевать! – главное, одолел казавшуюся недоступной высоту, почувствовал себя по-настоящему театроведом.
«Напечатаю где-нибудь. А не напечатаю, тоже не беда. Пригодиться в будущем»… Оставалось несколько дней до отъезда, были куплены билеты, когда работавшая в областной библиотеке Оля сообщила: приехал из Москвы по линии бюро пропаганды ВТО молодой драматург Радунскй, выступит с лекцией.
– Приходите, если интересно. Завтра, в половине третьего.
– Как ты сказала? – переспросил он.
– Радунский… – Оля задумалась. – Или Радимский. Точно не помню.
– Ага, – оживился он. – Пойдем обязательно!
– Господи, лекция, – красила ногти у зеркала Юлия. – Леша, тоска же смертная.
Не скажи. Это тот, что написал «Новую главу про любовь». Эфрос в Ленкоме поставил.
Мы с тобой фильм видели по этой пьесе, забыла? С Дорониной в главной роли.
– Там, где она бортпроводница?
– Ну!
– Фильм замечательный. А лекция нам зачем?
– Юлька, кончай трепаться! – топнул он ногой. – Мы идем, Оля.
Пришли за десять минут до начала, заняли места в небольшом читальном зале с рядами книжных полок. Читали развешанные по стенам крылатые выражения, разглядывали публику. Народу собралось немного, преимущественно женщины средних лет и старше. Впереди устроилась живописная пара стиляг: на нем вельветовый пиджак свекольного цвета, джинсы «дудочкой», воинственно взбитый кок, у коротко стриженой девицы с полиэтиленовой сумкой на коленях чудовищных размеров пластмассовые кольца в ушах.
Появление драматурга вызвало в зале легкое замешательство. В проходе показался директор библиотеки в военном кителе и следом слегка пританцовывая огненно-рыжий молодой человек с лицом шкодливого подростка. Элегантная импортная куртка с погончиками на плечах, небрежно повязанный на шее шарфик.